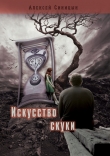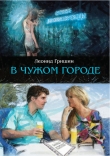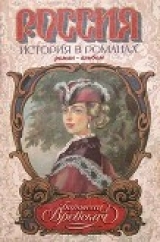
Текст книги "Баронесса Вревская: Роман-альбом"
Автор книги: Марина Кретова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Появились и первые герои. Волонтёр, отставной генерал Черняев, положивший перед войной две тысячи молодых отборных дворянских жизней и объяснявший по-простому, что «мы идём не отличаться, а умирать». В каком бешенстве был император, когда узнал об этой авантюре, можно судить по тому, что он собирался лишить генерала Черняева боевых орденов. А Достоевский пишет: «...Они славят русское имя в Европе и кровью своей единят нас с братьями. Эта геройски пролитая их кровь не забудется и зачтётся. Нет, это не авантюристы: они начинают новую эпоху сознательно. Эти пионеры русской политической идеи, русских желаний и русской воли, заявленных ими перед Европой». Подкладка на крови, идеи, воля, братство. Не только нигилизм и либерально настроенное западничество, но и панславизм (после этой цитаты можно сказать с уверенностью) несли в себе зародыш мировой революции и все вместе проложили дорогу «юному Октябрю». Мучительно Россия искала свои формы, но так и не нашла[19]19
Неудача всех революций в их отрыве от Бога. Бердяев пишет, что поскольку идея братства людей и народов «...утверждалась в отрыве от христианства... в неё входил яд, и это сказалось на двойственности коммунизма, на переплетении в нём правды и лжи».
[Закрыть].
И о Черняеве: «...Военный талант его бесспорен (да никто и не собирался спорить – всё общество в экстазе, нигилисты заняты «химическими опытами», царя никто не слушает. – М. К.), а характером своим и высоким порывом души он, без сомнений, стоит на высоте русских стремлений...»
Вот готов новый святой – Черняев. За ним так и шли. В. Соловьёв говорил, что в России, как на беду, больше святых, чем нормальных, честных людей. Революционеров тоже долго почитали в святости, первыми разочаровались жандармы – слишком много «святых» было в списках агентов.
Царю дорога была русская кровь, а он понимал, что прольётся её немало, да и Россия не готова была к войне: финансовые затруднения, незаконченная реорганизация армии. Поражение могло отбросить страну далеко назад в экономическом и политическом плане; а для нигилистов – зачин маловат. Им бы от царизма весь мир освободить, а тут ещё помрёшь до сроку от турецкой пули...
Да, но в результате война была, тяжёлая, страшная, со славной победой, и Вы, Юлия Петровна, на этой войне погибли. Так что идеи имели, конечно, на Вас влияние, и немалое. Снова подхватило Вас ураганом, как в детстве, и унесло... в легенду. Но всё-таки чувствую: выбирали вы их не умом, а сердцем, оттого и оказались в Болгарии с ранеными солдатами, оттого и народ узнали не по книжкам. А встретившись, не завопили, что он неправдоподобный, а приняли таким, какой есть, и полюбили в мучениях, язвах и гное.
Что же такое История? Она есть не прошлое и также – не будущее. Она – длящееся Сейчас. Все века, дни истории присутствуют в каждом мгновении, которое катится, катится... Только Сейчас всё и происходит – возникает проблема, и тем самым принимается решение; момент преступления становится моментом наказания. Вы, Юлия Петровна, за завтраком думаете: «Пожалуй, пойду», – и становитесь легендой.
ПОРТРЕТ Ю. П. ВРЕВСКОЙ
РАБОТЫ И. С. ТУРГЕНЕВА
Переписка длилась четыре года. Сорок восемь писем и пять встреч. Может быть, это не все письма и не все встречи, кто знает? Что проку говорить о том, чего нет, лучше поблагодарим судьбу за то, что адресатом Юлии Петровны оказался Иван Сергеевич Тургенев, и может быть, благодаря этому письма сохранились. Ещё одна возможность приблизиться к Юлии Петровне, узнать её привычки и характер, вглядеться в её таинственные черты.
1873
Они в Париже, они недавно познакомились. Юлия Петровна рада этому, Тургенев вызывает её интерес: дважды приглашала она его к себе, но он уклонялся от любопытства светской дамы. Он – баловень женщин, он устал от них. Ему пятьдесят пять лет.
В приглашение она вложила возможность отказа и заранее извинила его, так что господину Тургеневу осталось только взять перо и обронить: «Оказывается, что Вы правы, любезнейшая...» – пусть барынька там позлится или поскучает. Разве что после охоты «...явлюсь к Вам, и тогда, надеюсь, нам удастся пообедать вместе». Ан не на ту напал – не удалось.
У них и потом часто так бывало: Тургенев никогда не приходил ко времени, указанному в приглашении; «заходил вчера» и... не застал дома. Но вовсе не обязательно, что и Юлии Петровны дома в тот момент не было – что ж плясать под дудку старого бонвивана, хоть он и просит постоянно «верить искренности чувств»? Она искушённый человек (бывшая придворная дама), ей ли не знать, чего эти «чувства» стоят? С первых её осторожных слов, с первого приглашения Тургенев властно и бесцеремонно предлагает свой стиль и даже «график» общения. Не терпит он инициативы, исходящей не от него, и сразу хочет всё переиначить. По существу же он настаивал на нарушении этикета, предлагал сразу выйти за его пределы. А за пределами, как известно, простор и непредсказуемая неизвестность – так что растерянная «путешественница» полностью во власти «гида». Он – хозяин положения, ему и карты в руки. Игра пойдёт по его правилам. А потом «примите выражение искренних чувств» – и в этом выражении и искренние чувства, и лёгкая ирония, и то и другое вместе.

Так они и не встретились в тот год. Потерпев неудачу, Иван Сергеевич мог бы позабыть деликатную «упрямицу» – ведь он расставлял обычные силки на хорошенькую «перепёлку», ничем не выделяя её изо всех остальных; птичка могла попасться в сети, могла и нет – дело житейское. Но он не забыл Юлию Петровну. Трудно сказать, что именно сразило его. Быть может, он интуитивно обнаружил редкое сочетание доброты и гордости и ещё сам не осознавал, что впервые в жизни встретил свою героиню. Ещё не написанную, не литературную – живую. И если бы удалось подобрать ключ к её душе, понять и разгадать её, какой свежий и притягательный литературный персонаж мог бы сойти из жизни на чистые страницы. Да, Иван Сергеевич, за целый год бурной парижской жизни Вы не забыли госпожу Вревскую.
1874
Из Парижа Тургенев собирается в Петербург и пишет после долгого перерыва Юлии Петровне. В первом же письме полный набор уловок опытного ловеласа: и кокетство старостью, и намёк на свои грехи (по женской части, разумеется), и властный приказ не уезжать из Петербурга, не повидавшись с ним. И туманные рассуждения о чувстве «несколько странном, но искреннем и хорошем, которое я питаю к Вам...». И приглашение в сообщники: «...Вы это всё лучше меня знаете».
И, само собой, разговоры о творчестве, просьбы почитать и сказать своё мнение – какая женщина не растает, если известный писатель признает её равной по уму, да ещё и поинтересуется её мнением, будто так оно ему важно!
И после этих громких, властных и умных слов – вдруг: «Итак, до свидания – слышите?» – тихий вопрос, почти шёпот, одними губами на ухо: слышите? – это только для двоих.
И что же? В Петербурге он её не застал. Ехал завоевателем, а воевать не с кем. Как говорится, не сражающийся – непобедим, и Иван Сергеевич неожиданно для себя расстроился, что не он хозяин отношениям, и попытался скрыть горечь невстречи за привычной иронией и делами. Да, сразу появляется очень много дел, прямо столько, будто все вообще дела на свете взялся переделать именно Тургенев. Два или три последующих письма наполнены этими «делами» до отказа, так что там больше и нет ничего, если не считать подробного адреса Спасского-Лутовинова и отчаянной приписки: «Не смею больше ничего прибавлять...».
Но она не едет. И только радушно и простодушно продолжает приглашать к себе. Что за этим? Почему она делает вид, что не понимает, чего он хочет? Надо полагать, для неё не составило труда разгадать эти приёмы «профессионального» влюблённого. Но у неё как будто есть искреннее чувство к нему, так же как и у него к ней. И она не торопясь подбирает стиль отношений.
В отчаянии Тургенев припугнул даже расставанием, зная, что дорог ей. Расчёт был в общем-то верный (ужас жизни без такого заметного кавалера по идее должен был образумить любую женщину), но не для Юлии Петровны. Она только простодушно спросила: за что бы он так на неё рассердился? И снова позвала в гости.
И всё-таки он нашёл её слабое место. Смиренно написал о припадке подагры, да сильном, – вот она и примчалась в Спасское. Сигнал о чужом несчастье вызвал у неё однозначную реакцию, вопреки соображениям рассудка. Приехала и прожила у него в имении пять дней. Потом больше уже так не делала.
После её отъезда из Спасского Тургенев рассыпался «в душевных спасибо», заверял в «искренней дружбе» и пропадает надолго, хотя «теперь всегда нужно будет знать, где Вы и что с Вами».
И он и она много ездят. Письма запаздывают, а часто и не застают адресатов. Каждый из них нетерпелив и как будто свободен. Они везде соседи: в Париже, в Петербурге, в Орловской губернии. Она, видимо, пишет ему чаще. Он иногда оставляет письма без ответа: когда нарочно, когда нет, и она прощает ему это и только просит «гладить иногда её по головке» своими посланиями. А ведь она гордячка! Значит, Тургенев пробудил в ней что-то большее, чем просто светскую необходимость поддерживать завязавшуюся переписку (в этом случае его молчание давало ей право её оборвать); либо же прощала ему, чувствуя сходство и взаимопонимание, ценя в нём прекрасного собеседника. У них, кстати, был общий юмор, скептический настрой к жизни, склонность к иронии, которая легко перетекает в серьёзность, нежность или шутку. Они и сами не раз признавались друг другу в этом сходстве.
Она умела смирять гордость, но и покаяний от него получала сполна: «Не гладить Вас по головке, как Вы пишете, милая... – а целовать у Вас руки и прощения просить о том, что давно не отвечал Вам – вот что хочу я... Повинную голову меч не сечёт».
Особая тема в их переписке – её тяга к Востоку. Кавказ, Индия, Сингапур – Тургенев недоумевает: поезжайте, поезжайте, насладитесь, а потом скажете – «ничего там нет» и вернётесь в наш серенький пейзаж, – но и вынужден признать: «Вам почему-то идёт быть в таких полутаинственных странах». Ей идёт? Или ему приятно представить её не только на Востоке, но и в гареме, одной из прелестных наложниц? А хозяин – он! Ему кажется, что если бы они встретились «молодыми, неискушёнными – а главное, свободными людьми – докончите фразу сами». О какой несвободе говорит он? У него – понятно: «молодая приятельница» на сносях, да Полина, и мало ли кто ещё, а у неё? Так или иначе, он знает о её несвободе. На этот случай в арсенале имеются две тактики устранения противника: выжидание (это для «патриархов» обольщения) и дискредитация (это для торопыг; иногда даёт обратный результат, тогда как первый вариант практически беспроигрышен). Конечно же Тургенев выбирает первое. Он даже готов уважать её выбор: она же скучает в деревне? Там кто-то есть? Ну и прекрасно, он хвалит её за это, но предупреждает, что Базаровы перевелись, а остальные – пресная порода. Вот и дружеский щелчок по носу сопернику. Если он есть, то какой же это сморчок – даже по сравнению с литературным героем – полная дрянь, а герой-то хорош, очень нравится Юлии Петровне, а написал-то этого героя «Ваш покорный Иван Тургенев». Попадание абсолютное, вот уже сосед и рассекречен, молодой исполнитель романсов в голубом галстуке, уже скоро Вревская о нём Тургеневу напишет и посмеётся от души над его глупым галстуком и пристрастием к водочке. «Это плохо, при таких условиях и кокетничать нельзя», – подведёт черту Иван Сергеевич, дружески подмигнув Юлии Петровне, – никаких нравоучений и занудства – и сосед навсегда сойдёт со сцены. Ну, Иван Сергеевич! Мудрец!
Она посылает ему к именинам свою фотокарточку, не приписав ни слова, часто меняет планы путешествий, умеет хорошо описать зимнюю деревенскую глушь (Тургенев хвалит всегда её литературные способности и литературный вкус), но не все письма ему отправляет, несмотря на только «дружеские чувства». Жалуется на хандру, старость, болезни и снова посылает свои ослепительные фотопортреты, от которых господин Тургенев надолго теряет покой. Осознанно или бессознательно поддерживает маску таинственности? Упомянув в переписке Базарова, Тургенев тем самым и её ставит на место Одинцовой. Неприступные крепости всегда привлекают настоящего воина.
Так она балансировала на грани простодушной дружбы и чисто женского желания кокетством и ревностью покрепче привязать к себе. Простодушно даёт советы к родам «молодой приятельницы» и довольно мстительно передаёт злые сплетни о Виардо. Не подпускает его близко, но чуть он начинал остывать и уходить – уверяет, «что очень к нему привязалась».
Как всегда, в её жизни больше неизвестного, чем известного, вот и Тургенев пишет, что её прошлое наполняет её смирением. Почему? Прошлое как прошлое – детство в Смольном, раннее замужество, вдовство... Может быть, какая-то неизвестная нам трагедия, слёзы, тайные свидания?
Она часто говорит, что уже стара и себе неинтересна, что хотела бы устроить себе гнездо, «где бы могла состариться и умереть». Все эти мечты об уединённости, мысли о старости и смерти – отчётливый сигнал о моральном неблагополучии. Тургенев не относится к этому слишком серьёзно, но, во всяком случае, «мне бы хотелось встретиться с Вами до подобного окончательного устройства Вашей судьбы...» – восклицает он «с эгоистической точки зрения». Она пишет ему о снежных степях и метелях, а он задаёт загадку: «Помните у Пушкина: «как дева русская свежа в пыли снегов». Предыдущий стих отыщите сами». И если Юлия Петровна отыскала, то улыбнулась, а может, и разволновалась, ведь «...бури севера не вредны русской розе. Как жарко поцелуй пылает на морозе!» Вот какое желание «зашифровал» сюда её адресат.
И тут же поделился радостью: у него родилась дочь. Откровенно, даже слишком, для влюблённого, мечтающего о взаимности. Но эта откровенность – неизбежный ход Тургенева. Он ничего не скрывает от неё, тем более что слухи всё равно бы доползли до Юлии Петровны.
Видимо, Вревская уязвлена, потому что вдруг много жалуется ему: предыдущий год (пока И. С. носился, чтобы получше устроить приятельницу, и волновался за неё) для Юлии Петровны был плохим. И называет себя «отпетым» человеком. И с оттепелью у неё хандра. Во всех этих жалобах – неудовлетворённость, горечь несостоявшейся жизни, и Иван Сергеевич понимает это. Ирония сменяется неясностью, он находит слова, способные утешить и подбодрить её. («...На свете действительно есть нечто получше «предсмертной икоты», и хотя уже нельзя ожидать, что радость польётся полной чашей, – но она может ещё окропить последние жизненные цветы... «Живи, пока живётся»). Да, видно, не хватало ей в жизни участия и сочувствия, если она, почти отбросив приличие, так настойчиво добивается его у малознакомого человека, хоть и близкого по духу.
1875
Год начинается увлекательным состязанием. Настойчивость Тургенева наталкивается на дразнящий отпор Юлии Петровны. Причина: поездка в Богемию на воды и встреча там. Тургенев буквально неистовствует, уговаривая её – сдаться и приехать. В ход идёт всё: и мальчишеские признания, что нравится ему «ужасно», и уверения, что узелок их отношений завязан крепко – «не вздумайте рвать» – ничего не выйдет, да и к чему? «Кому от него вред будет? Никому – ни даже мне... ни даже Вам!!» И страх, что она передумает и махнёт на свой Кавказ или в Индию, к своим пашам или кавказцам, яростная ревность, ему всюду мерещатся мужчины (она острит на это, что он сам посылает её ко всем пашам), ревность и злость на её семейные дела, которыми она, видимо, прикрывается, а может, и правда озабочена: «У Вашей сестры есть муж, обойдутся без Вас». И угрозы, что её приезд будет проверкой их дружбы и если не приедет, то и дружбе конец. Он пугает, что старость и впрямь не за горами и это последний случай «золотой волюшки», ведь жизнь стремительно уходит. Рисует прекрасные картины: обед вдвоём в маленьком ресторанчике, завтрак тет-а-тет в трактирчике или в её комнате за чаем, «...глядя Вам в глаза, которые у Вас очень красивы, и изредка целуя Ваши руки, которые тоже очень красивы, хотя велики... но я такие люблю».
Тургенев, судя по всему, больше видел Ю. П. на фотографиях, чем в жизни. И «величина» её рук могла быть оптическим искажением. Но фотографий не сохранилось. Может быть, руки и в самом деле были «велики». Он прямо говорит ей о своём желании побыть наедине и зовёт в Карлсбад. Воды – классическое место адюльтера XIX века. Сюда-то он её и приглашает.
Она же «с удовольствием» сидит в деревне и отсюда «водит его за нос». То она едет, то не едет, а может, она и правда в растерянности от его настойчивости и не знает, как лучше поступить: то ли раздуть в «старичке» ревность и своевольничать дальше – ведь он любит неприступность, и отказ будет в её пользу, то ли не испытывать дольше его терпения и поехать, а там на месте решить, что делать.
А его вопросы «порвалась ли верёвочка на её лапках? – и крепка ли была эта верёвочка?» – что это значит? Опять о её несвободе? Он знал о ней больше, чем писал в письмах, а мы никогда не узнаем этого, и девять десятых её жизни так и останутся в тёмных водах прошлого.

И всё-таки благоразумие взяло верх. И Тургенев, едва удерживаясь в светских рамках, с горечью констатирует, что «на личное свидание в Карлсбаде я уже не надеюсь:
Ваше последнее письмо рассеяло мои ожидания». И кисло прибавляет, что благодарит её хотя бы за желание приехать туда, если бы не дела и обязанности. Он подавлен, как будто даже охладел (сколько напора и усилий впустую, а он немолод), и даже желчно острит, что это к лучшему: «Скука, говорят, отличное подспорье водам и всяческому лечению». Да и не так уж романтично двоим немолодым людям свидеться на водах по причине нездоровых желудков – вот Вам, Юлия Петровна. Получайте.
Юлия Петровна никуда не поехала, и пошли спокойные, дружеские письма, но вот в августе, в скобках, он из Парижа: «... (в эту самую минуту над нашим садом проходит гроза вроде карлсбадской, помните?)». И дальше... благодарит её за «бешенство, возбуждённое в «террасе с балконом» и других соотечественниках». Значит, она была там, появлялась с ним в свете и вызвала даже бешенство своей независимостью в качестве спутницы Тургенева.
Теперь надо внимательно посмотреть, что было написано до этого, чтобы понять «степень» их отношений, узнать, решилась ли Юлия Петровна «перейти Рубикон»? Тургенев уехал из Карлсбада раньше, она послала ему вслед «тоскливую» записочку с чем-то откровенным и неутешительным для него. Он отвечает, что, во-первых, не принадлежит к числу мужчин, способных рассеять её уныние, во-вторых, она «ясно глядит на вещи, здраво судит о себе самой и других: всё придёт в свою колею», он не обижен и не сердится, вернулся в Париж и «нашёл всех своих владетельниц в лучшем виде». Да ещё сетует, что хоть в ней и зреет «решительность во всех видах», но он ощущает себя «физическим грибом уже давно», а через год грозится стать и «нравственным». Что-то у них там не склеилось, и он спокойно спрашивает, поедет ли она после Ялты в Индию «вслед за Вашим полковником (Жуковскому я об Вашем плане ничего не скажу – а то он в состоянии поскакать туда, не расплатившись с долгами)», – и «спокойно» сомневается, что увидит её в Париже. Совершенно мирно воображает, как она «кружит головы всем этим аббатам и прочим дипломатам!». В декабре почтительно сообщает о кончине в Париже её брата Ивана Петровича и добавляет, что его болезнь была из тех, «которые не прощают». Люди не прощают или болезнь не прощает? Фраза двусмысленная, загадочная, но Тургенев и Вревская, наверное, поняли друг друга.
Вот и весь год, бодро начатый и вяло, грустно окончившийся этим сообщением да привычной шуткой Тургенева: «Перед старостью хотелось бы выкинуть какую-нибудь несуразную штуку... Не поможете ли?»
Нет, она не помогла. Она сама вскоре «выкинула штуку» – ушла на войну.
1876
«...Впрочем, вечного ничего нет, кроме вечного, тупого ожидания до гробовой доски чего-то лучшего и неведомого» – это Юлия говорит.
«Не предавайтесь слишком мрачным мыслям; жизнь, конечно, не слишком красивая вещь – да другого ещё пока ничего не придумали», – серьёзно отвечает Тургенев.
Человек он очень общительный, если у неё есть настроение (а если нет – трезвонь в дверной колокольчик сколько вздумается – баронессы «нет дома»), быстро сходится с людьми: «Я рад, что Вы сошлись с Мещёрским; он прекрасный малый». Но так же быстро в людях и разочаровывается. И вот уже любезный князь Мещёрский впал «в немилость».

«По моему личному убеждению, он по любви никогда не женится, – пишет Вревская о Мещёрском, – и женится по расчёту, как и большая часть людей, обладающих глубокими чувствами». Согласитесь, не совсем традиционный подход к «глубоким чувствам». В ней совершенно нет романтизма. Людям с такой глубиной взгляда обычно трудно бывает устроить свою жизнь. Именно свою – чужую устраивать более или менее удаётся. «Поздравляю Вас с свершившейся свадьбой Вашего брата; препятствия устранены и побеждены Вами, что меня не удивляет, – восхищается её умом и энергией Тургенев, – это Вам в привычку». Рядом с ней любому мужчине трудно выглядеть достойно, не показаться дураком или напыщенным умником. Её спокойная, а временами озорная серьёзность, простота и благородство тона, полное отсутствие жеманства и словно лёгкое парение надо всем, что происходит в жизни, да, именно серьёзность в отношении к Тургеневу и не допускает, возможно, любовной связи, чтобы капризным чувством страсти не разрушить существующее между ними.
Она спокойно говорит о том, что ведёт жизнь «весьма однообразную», что сестра её «характера мрачного... и я её очень люблю», она не боится ставить «и» вместо «но», это выдаёт в ней человека думающего, неоднозначного. Да, она добра без восторженности – что разрывает канонический образ, и она предстаёт живым человеком. «...В этом несчастном климате тотчас же чувствуется какое-то нравственное разложение, встряхнуть которое нет мочи». Такое признание вызывает уважение, тем более что мы знаем, как закончилась её жизнь.
Она так мягко и умно утешает Тургенева в том, что их карлсбадский роман не состоялся: «С тех пор между нами остался всё тот же ров, по которому смирнёхонько бежит карлсбадская водица, – да что за нужда – всё-таки я Вас крепко и крепко люблю, и перепрыгивать через ров нам нет ни малейшей надобности». Тонко подмечено, что водица «смирнёхонькая», и трогает это «крепко», повторенное дважды.
Христосуется с ним – «старым безбожником», как он сам себя называет. Красота их отношений держится на этих едва заметных струнах взаимопосягательства на привычки, привязанности и убеждения друг друга. Ни один не смутил другого бестактным вмешательством в чувства и судьбу. Вревская очень откровенна, несмотря на скрытность. Например, она не боится признаться, что ей не нравится «море» Айвазовского, «всё туманное и некрасивое» (а уж море-то с её любовью к Кавказу для неё статья особая), что проповеди модного лорда Родстока «нескладные и некрасноречивые», нет, она, пожалуй, ничему не внимает благоговейно, а всё оценивает собственным взглядом и умом.
Особая тема в их переписке – путешествия. «...Хочу поехать в Биарриц, а осенью зовут меня в Испанию... Может быть, соберусь и в Америку, решить мне недолго». Да, решает она на этот счёт очень скоро. Именно решает, планирует, а не выполняет. Ездит за границу (исключая путешествия с императрицей) очень немного, в основном её маршруты: Орловская губерния, Кавказ, Петербург, который «так ей противен». Но как навязчивая идея бегства – калейдоскоп стран, мелькающих в её письмах. Индия, Америка, Испания, Сингапур, Иерусалим, Венеция, Палестина, ещё, ещё, с годами названий всё прибывает – и это непросто светская страсть к путешествиям: «собраться мне недолго», вот именно подхватиться вдруг и бежать. От себя. Счастливый же человек, как известно, сидит на одном месте. И не увлекается предсказаниями гадалок.
А на деле вместо Индии – Литейная. Тургенев доволен – есть шанс повидаться, хоть она и не любит Петербурга.
Вообще этот год намного спокойнее, чем предыдущие, в отношении тургеневской страсти. Что-то он понял про неё (а точнее, наоборот – не понял, ведь, по собственным его словам, ему всегда были непонятны женщины пусть даже добродетельные, но не отдающиеся по капризу), или просто подустал он и растерял былой пыл. А может, и отвлёкся.
Письма спокойные, очень дружеские, накоротке даже (он просит снять ему номер в гостинице в Петербурге и выслать на вокзал лошадей, потом спохватывается и перепоручает всё это своему приятелю Топорову); он живо представляет себе их расставание: «Вы прелестная барыня, но судьбы не переделать». Вот уже и барыня, и это обращение смахивает на досаду, выдаёт с головой. Попал он, кстати, в точку – Юлия Петровна обиделась на «барыню», и ему выпало на два письма любезных извинений и уверений, что только внешне «барыня», а так «ничего светского», одна простая добрая душа. Так и написал: «Боюсь только холеры, а не милых дам – и особенно таких добродушных». Он поддразнивает её, несмотря на «усталость», и это неудивительно, ведь она «молодая, милая женщина – и «напрасность» этого замечания» его смущает. Иногда она огорошивает просьбами «не бояться» её и заверениями «не ввести в беду». Такая вот игра в «дразнилки». Он называет её загадочным сфинксом, но добавляет, что тот «не довольно красив». Она видит его во сне и с откровенным лукавством признается в этом.
Дважды за год Юлия Петровна называет себя смиренной, и ни разу даже из вежливости Тургенев не прощает этого: «Кстати, почему Вы говорите мне о Вашем смирении? Я, напротив, нахожу Вас горделивой и надменной до крайности – и всё-таки прелюбезной и премилой».
Вревская любит это слово, возможно, именно потому, что смирение не даётся ей, и, конечно, скрывает это. И общество перед войной у неё полно «смирения», и молодая подруга при дряхлом Соллогубе. Угу, усмехается, соглашается Тургенев, конечно, это всё, любезная, смирение... кулинара перед бифштексом, который он разрубит, пожарит и съест.
И Юлия больше ничего не пишет про «смирение».
Тургенев только что закончил «Новь» и теперь боится, что роман не понравится Вревской, потому что в нём «мало нежности». Он прав, Юлия Петровна никогда не выскажет о романе личного мнения, будет передавать только отзывы знакомых. Дружба дружбой, а этикет есть этикет.
«Неужели Черняев не пустит себе пулю в лоб?» – удивляется Тургенев после неудачи Сербского восстания и дальше бросает фразу, которая какими-то загадочными путями словно отзывается во всей дальнейшей судьбе Вревской: «Будь мне только 35 лет, кажется, уехал бы туда!»
Фраза только брошена, Юлия Петровна посылает двадцать рябчиков в Париж – и благодарный Тургенев в следующем письме целует ей каждую руку по двадцать раз (по количеству рябчиков, надо полагать); они спорят о «Демоне» Рубинштейна: Вревской нравится, а Тургеневу – нет. К концу года случайная фраза обрела для неё законченность и смысл, а Тургенев не заметил опасности, проглядел и только с привычной иронией просит её не торопиться, война продолжится долго, «...и Вы успеете исполнить свои милосердные намерения». Шутливо заклинает не верить слишком славянам, а заодно и славянофилам. Конечно же он не верил, не верил до конца, что она – его «прелестная барыня» – пойдёт под пули, в тифозные бараки. Он и сам никогда не пошёл бы. Несмотря на импульсивные речи, не его это дело, мудрого скептика, «воевать из-за чувства», по словам молодого Скобелева, вот «Скобелевы» все и там, а Тургеневу зачем? Он считал, что они с Вревской похожи складом ума и характера (и не раз писали об этом друг другу), поэтому он и не волновался на её счёт. Но он не разгадал её до конца. Что-то было в ней, не романтичное и не восторженное, что-то другое, более глубокое и страшное, что заставило её пойти. И умереть.
1877
«Что с Вами, любезнейшая?.. Вы упали на улице, зашиблись – и с тех пор ничего не пишете? Или, может быть, Вы оттого молчите (как это делают теперь все мои приятели), что Вам неловко говорить со мной о фиаско, претерпленном первой частью «Нови»?» – так Тургенев начинает признание своего «литературного фиаско». И игриво добавляет, что её отказ кусается «гораздо больнее, чем какое угодно литературное фиаско». Но Юлия молчит конечно же не по этой причине. Теперь уже ясно, что ей удаётся простой и естественный тон в любых щекотливых положениях и обстоятельствах. Что-то происходит с ней, тяжёлое и неприятное, её письма умные, временами даже озорные, тонкие, задушевные и в то же время ласково-сдержанные, но что-то невидимое появилось за этими изящными строчками, нарушилась какая-то гармония, равновесие утрачено – это письма усталого человека, которому некуда деться от себя. Нарушилась какая-то связь, оборвалась нить, и ей словно открылось вдруг несовершенство мира, людей. Себя. От этого и про климат Петербурга – «полный нравственного разложения», и про то, что «...все эти дни очень волновалась, и всё оттого, что за версту увидела кого-то. Оттого я так не люблю Петербурга, несдобровать мне в нём». Всё это очень серьёзно, но Тургенев не всегда особо глубоко вникает в её письма и иногда сводит всё к её «кокетству» и советует не смотреть от себя «за версту», если гам ходят таинственные незнакомцы, которые заставляют её трепетать. Вревская ни разу не попеняла ему на нечуткость, просто замолкала, чтобы, собравшись с силами, написать новое письмо, на что он отвечал: «Какие Вы мне хорошие письма пишете, милая!» В этот год у них две главные темы: неудача «Нови» и предстоящая война. Да, можно так остроумно обыграть неудачу, что она даст обратный эффект. «Не то чтобы я был равнодушен... – пишет Тургенев, – но горю помочь нельзя – значит, надо его позабыть». И подписывается – «освистанный автор». И если это светскость и правила этикета заставляют его держать форму, хотя бы внешне, в отношении с людьми, то да здравствует этикет! Если же таковы его натура и характер, то он счастливый человек. Обсуждение участи «Нови» занимает большую часть всех писем за этот год, но тон их всегда шутливо-мирный. Ни занудства, ни бешенства, ни желчи. Даже чудно. Юлии Петровне, видимо, в этом его настроении почудилось «смирение», поэтому она тут же просит его помириться с Некрасовым, так как тот почти при смерти и другого случая может не представиться. Письмо берётся отнести их общий приятель Топоров, вездесущий и расторопный Топоров, который и рябчиков от Юлии Тургеневу посылал, и кареты заказывал, и даже умудрился организовать пару положительных рецензий на «Новь», за что Тургенев с грустью назвал его «настоящим другом». В самом прямом смысле. Запрос о смерти Юлии Петровны доктору Павлову послал тоже Топоров. Но ответа не дождался. Умер.