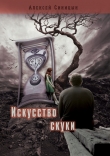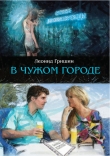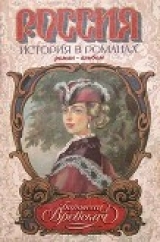
Текст книги "Баронесса Вревская: Роман-альбом"
Автор книги: Марина Кретова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
ЭТЮД О ТРЁХ БАРОНАХ
«Сам я по медицинской части в Твери. Там
имею свой дом, застрахованный. В августе
1858 года спросил меня сам император:
«По-прежнему ли дурны женские больницы?»
Отвечаю: «Совершенно переустроены».
«1860 год. Учреждено Общество восстановления
православного христианства на Кавказе под
покровительством императрицы Марии Александровны».
(Из записок коллежского асессора К. В. Пупарева)
Скорее всего, V часть родовой книги Псковской губернии постигла та же участь, что и VI часть Смоленской и Могилёвской губерний (где записано дворянство Варпаховских) – во всяком случае, мне не удалось их разыскать, а Брокгауз и Ефрон этими книгами не пользовались.
«Вревские – русский баронский род, происходящий от вице-канцлера князя А. Б. Куракина (1752—1818) и получивший наименование от Вревского погоста Псковской губернии[6]6
Князь Куракин воспитывался вместе с императором Павлом I; был сенатором. Богатейший и знаменитый человек своего времени. Устроитель богаделен и автор «Путешествия по Голландии».
Совершенно неизвестно, кем была «тайная женщина» Его Светлости, родившая ему шестерых детей. И почему именно от Вревского погоста именовался новый баронский род? Уж не псковитянка ли, проживающая в этих местах?
[Закрыть].
Грамотой австрийского императора Франца I в 1808 году Борис, Степан, Мария (дети Куракина. – М. К.) были пожалованы в баронское австрийское императорское достоинство, и тогда же им было дозволено пользоваться этим титулом в России. В 1822 году младшие братья Александр, Павел, Ипполит тоже получили право именоваться баронами... Воспитанники генерал-лейтенанта Ипполита Александровича (умер в 1858 году) Павел, Николай и Мария Терские получили дозволение именоваться баронами.
Бароны Вревские записаны в V часть родовой книги Псковской губернии».
В Пушкинском Доме сохранился генеалогический чертёж (явно неполный) Вревских – не баронов. Там три мужских имени, к Куракину отношения не имевших; чины не громкие: один полковник, другой камер-юнкер. По годам намного старше детей Куракина. Самостоятельная приличная фамилия и семья; проживали явно в Псковской губернии. Уж не их ли сестрица или племянница матушка Вревских-баронов? Не исключено.
В Историю приходят разными путями. Из шести новоиспечённых баронов особенно отличились трое. Один тем, что был женат на исторической особе, второй – неудачной битвой в Крымской войне, а третьему поставили памятник на Кавказе. Именно они представляют теперь род Вревских, да ещё Юлия Петровна.
И хочется рассказать о ней, но она верна своей тайне, и получается, что о родственниках сохранилось больше упоминаний... Что ж, поговорим о них, тем более в характере и отношениях родни тоже кроется ключик к баронессе.
БОРИС
Борис Александрович сделался знаменитым с 1831 года, когда женился на дочери Прасковьи Александровны Осиновой (владелицы Тригорского) Зизи Вульф, которая мерилась с Пушкиным поясами и кому он написал:
Вот, Зина, вам совет: играйте,
Из роз весёлых заплетайте
Себе торжественный венец —
И впредь у нас не разрывайте
Ни мадригалов, ни сердец.
Надо сказать, что молодой Пушкин перевлюблялся во всех дочерей П. А. Осиповой, включая падчерицу Александру Ивановну. Ей он посвятил одно из лучших стихотворений о любви: «Я вас люблю – хоть я бешусь...» Скорее всего, он был вообще влюблён в Тригорское и его обитателей; с братом Зизи Алексеем собирался бежать за границу, переодевшись лакеем. Самой владелице Тригорского Прасковье Александровне он писал:
...Но и в дали, в краю чужом
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом
В лугах, у речки, над холмом,
В саду под сенью лип домашней.
Когда померкнет ясный день,
Одна из глубины могильной
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный.
Красавица Зизи, Евпраксия Николаевна, родила барону Борису Вревскому одиннадцать детей, и довольно понятны мотивы, по которым Борис Александрович в 1856 году отказался принять в свою семью ещё и сыновей Ипполита Александровича[7]7
И. А. Вревский просил об этом брата в письме, так как Жюли по своему юному возрасту было трудно с ними справляться.
[Закрыть]. А после смерти брата отсудил у Юлии Петровны большую часть имений, принадлежавших Вревским (одиннадцать ртов диктуют свои законы и мораль).
Не хотелось бы повторять, что «отношения Юлии и Бориса Вревского плохие», но и наивно думать, что они очень любили друг друга. Скорее всего – выручал этикет.
Во всяком случае, большую часть расходов и забот по установлению памятника погибшему на Кавказе Ипполиту взял на себя именно Борис, может быть и чувствуя свою вину.
ПАВЕЛ
Павел Александрович Вревский известен прежде всего тем, что состоял генералом свиты Николая I; его имя чаще других Вревских упоминается в официальных, наградных и парадных книгах.
С 1837 года был частым гостем на Кавказе, где тогда уже служил его брат Ипполит Александрович. В ту пору там было много декабристов – по указу отслужившие в солдатах могли вернуться домой. Желали многие: М. М. Нарышкин (брат Маргариты Тучковой, первой игуменьи Спасо-Бородинского монастыря), Назимов и Н. И. Лорер, вспоминавший, что «брат Ипполита Вревского Павел был молодой человек красивой наружности, отличавшийся большой личной храбростью и любивший наше общество». Ещё Лорер добавлял, что Павел дружил с армейским капитаном Львом Сергеевичем Пушкиным – всеобщим любимцем[8]8
Ростом Левушка был ещё ниже своего брата (Александра Сергеевича), вечно весел и с юности держал клятву, что не возьмёт в рот ни капли воды. А потому никогда не пил ни чая, ни супа – только вино, причём любого качества. В карты всегда проигрывал, ел только солёное и острое, не имел ни прислуги, ни денщика... и на 47-м году жизни скончался с улыбкой и словами: «Не пить мне более кахетинского».
[Закрыть].
Четыре года сгорал от любви к Марии Сергеевне Ланской. Мать Машеньки Варвара Сергеевна долго боролась с аристократической спесью и отвращением, вызванным одной только фамилией жениха. «Борьба» увенчалась в 1844 году весёлой сельской свадьбой.
«Я думаю, что другая мать никогда бы не дала согласия на подобный неравный брак, – говорила она близким знакомым по-французски. – Но я слабая мать, я люблю Мари, пусть делают, что хотят...» Её бросались утешать, но она жестом останавливала радетелей и снова с презрительным негодованием и брезгливостью повторяла: «Воспитанник! Какой бесславный выбор!»
Венчались на Клязьме, в имении Ланских, в сельской церкви. Чопорная сановница не хотела венчать дочь в Петербурге под прицелом презрительных моноклей. Впрочем, молодым везде весело: катались на лодках, поставили два спектакля, упились шампанским, за исключением, разумеется, новобрачных.
Через год в родах умерла обожаемая жена, ещё через год – единственный ребёнок. «Жизнь Павла Александровича, – пишет его знакомый граф М. Д. Бутурлин, – была разбита навсегда, и он целиком отдавался службе, чтобы не сойти с ума».
В 1850 году составил очень толковую записку «О состоянии русской армии» для австрийского императора. Тот остался доволен хорошей книгой и наградил Вревского орденом Железного креста I степени. Если читатель помнит, титул и фамилию Павлу даровал именно австрийский император. Так что барон Вревский милости не забыл, баронство своё честно отработал – отблагодарил.

Знаменит Павел Александрович, хотя скорее печально, ещё и тем, что собирался повлиять на исход Крымской войны. От обороны Севастополя он предлагал перейти в немедленное наступление и сам хотел идти впереди войск. Своей страстью заразил всех: императора, министра военных дел Долгорукова и даже осторожного Горчакова. Кончилось дело приказом из Петербурга о наступлении и неудачной битвой 4 августа 1855 года у Чёрной речки – позором проигранной войны. Павлу Александровичу так не терпелось участвовать в собственном проекте, что он носился по полю боя как сумасшедший. Первым ядром под ним убило лошадь, вторым – контузило в голову. Он не унимался. Третье ядро сорвало фуражку, а четвёртое убило наповал. За горячую веру в наступление он расплатился жизнью. Ему было сорок шесть, и если бы тогда остался жив, то всё равно бы застрелился. По долгу чести.
ГЕРОЙ КАВКАЗА
Ипполит Александрович Вревский родился в 1813 году; где и кто была его матушка – неизвестно. В девять лет благодаря хлопотам отца получил титул и фамилию; учился в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, на класс старше Лермонтова. Закончил в чине прапорщика и тут же поступил в военную академию. В экспедициях и сражениях участвовал с 1838 года и до смерти, то есть двадцать лет ходил в атаки, готовился умирать, убивал сам и наводил страх на горцев. Вся его военная жизнь (а другой он не знал) связана с Кавказом.
В 1840 году жил в Ставрополе, успевал и усмирять Чечню и принимать гостей: Лев Сергеевич Пушкин, декабрист Назимов, А. А. Столыпин, да и поручик Лермонтов, сосланный за год до смерти на Кавказ за дуэль с французским бароном де Барандом, бывали здесь частыми гостями.
С 1841 года Ипполит Александрович принялся гоняться за Шамилем, ну и продолжал разорять чеченские сёла. В этот год он оплакал смерть однокашника и друга Михаила Юрьевича и погулял на крестинах розовощёкого младенца у старого приятеля генерала Варпаховского[9]9
С одинаковым успехом крестины могли состояться на Кавказе и в Старице – и там, и здесь Вревский мог оказаться на правах соседа и друга, так что получается, что Ю. П. своей судьбы было не миновать.
[Закрыть].
Может быть, малютку для смеха даже дали подержать хмурому, впрочем, довольно любезному на людях, молодому офицеру. Тогда ли она уже очаровала его или позже – доподлинно неизвестно, но спустя шестнадцать лет женился он именно на ней. Правда, после смерти своей черкешенки, а так, верно, другой жены бы не искал. «Население терских станиц резко отличается по красоте обитательниц от прочих жителей Северного Кавказа...» – пишет некий В-ский, служащий в тех местах[10]10
Я было подумала, что это Вревский или Варпаховский, оказалось, ни то ни другое, но очень занятный материал.
[Закрыть].
Этот юноша объясняет, что здесь черкесская кровь перемешалась с русской казачьей (так как терских горянок казаки взяли в обычай воровать у мужей), так что детки от таких «браков» случались прехорошенькие – «дикость» смирялась славянскими чертами.
У Ипполита Александровича повенчанная жена была как раз терская горянка, и дети его носили фамилию Терских.
В-ский описывает, как проходили дни в крепости Грозной, сооружённой ещё генералом Ермоловым. «Кавказский офицер, – говаривал Ермолов, – непременно должен либо спиться, либо жениться на женщине лёгкого поведения». Офицеры убивали время в пирушках или за «зелёным» столом... «Каждый день с песнями и плясками несколько рот приходили в гости друг к другу. И не по одному разу». Пирушки. Ссоры. Дуэли. Таинственный Кавказ. Интересно, как чувствовала себя Юлия Петровна среди гор, разномастной публики, военного быта? Что стоит за её словами: «...и вспомнилось детство мне. Былой Кавказ...»?
Наверное, ей было хорошо. Дети и молодые девушки всюду живут по особым законам и на особом положении.
«Трудно описать чувства при первом походе, надобно самому их испытать, – восклицает В-ский и всё-таки описывает с обезоруживающим милым озорством. – Лихорадочность. Чудовищные фантазии. То орудия наводят на меня, но я не боюсь: тем лучше – я поучу вас, как надо умирать». Кого? Да всех, всем он покажет свою смерть бесстрашного героя. Но тут мечта меняется, и он, забывая, что должен упасть замертво, уже даёт советы генералу, да вот тому же Вревскому, подъехавшему спросить, как лучше расположить орудия. В-ский, прищурив глаз, отвечает, и генерал стремглав бросается исполнять приказание. «И совестно мне, – думает В-ский, – и вместе с тем, что же, если я так умён?!» И пусть уж лучше дальше не убьют, а ранят. Это приятнее. Пошлют в отпуск, родные не сразу заметят повязку, матушка только зарыдает, ну да это ничего. «Нет, тебя не ранят, а убьют», – шепчет чей-то голос зловещий. В-ский вздрагивает и видит, что рассвело. Да, понимает он, меня убьют. И всерьёз грустит, что у него нет невесты. Кто будет рыдать и хранить верность его гробу? Да и всё предыдущее: генерал с просьбой, повязка на лбу, отпуск – с невестой выходило гораздо интереснее.

А дальше поход. ДЕЛО. И В-ский разочарован. «...Потом все завалились спать. Неужели все походы против горцев таковы? А в газетах так красочно пишут о кровопролитиях. На деле же несколько горцев ездили вдоль нашей цепи и вяло перестреливались».
Думаю, что не все походы против горцев таковы. С момента присоединения к отряду Вревского (а об этом В-ский обмолвился) сделалось, наверное, достаточно кровопролития. Не так всё это безобидно, и, может, славный юноша отчасти и поэтому не написал больше никаких воспоминаний. А может, был удачлив, и Бог хранил.
Вревскому эти грёзы не показались бы смешными, и за ним водилась жажда геройства. Ещё в 1840 году, чтобы попасть в герои сразу, да ещё с приятелем-декабристом А. II. Беляевым, капитан Вревский решил отбить у черкесов пушку. Так, не напрягаясь, между шампанским и преферансом. Черкесы прямо протелепатировали намерения молодого барона и пушку, постреляв по русскому лагерю, всегда увозили. А потом и вовсе перестали таскать за собой. Может, кто и украл её, но не Вревский. Это факт. Быстрое геройство не состоялось.
Вревский специализировался на набегах. Быстро продвигаясь по службе (значит, хорошо набегал), уже в 1845 году сделался командиром Навагинского пехотного полка (его «невесте» четыре года). Затем ещё несколько лет непрерывных набегов, разорений, вылазок – и он командир 1-й бригады 19-й пехотной дивизии. С 1852 года уже начальником Владикавказского военного округа успешно охранял русскую пограничную линию от покушений Шамиля.
С 1856 года – генерал, назначенный командовать войсками Лезгинской кордонной линии. Женился на Юлии Петровне, юной, нежной и прекрасно образованной, но из формы не вышел: весь пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой годы удачно смирял Чечню. В 1858 году окончательно прижал Шамиля, разорив сорок аулов и взяв три каменных укрепления с орудиями. Когда он возвращался в крепость, в крови и копоти, что чувствовала его юная жена? Бежала ли ему навстречу, бросалась ли на шею?
20 августа 1858 года при штурме аула Кетури уложила барона чеченская пуля. Ипполит Вревский так увлёкся атакой, что забыл, как опасен укреплённый аул, где каждая сакля – крепость. Его погубил азарт человека, любящего драться. Сослуживцы отмечали, что это «...чуть ли не единственный пример в Кавказской войне смерти в бою генерал-лейтенанта».
В Телави его привезли на арбе. Через два дня он умер. Шамиль чуть не спятил от радости, Юлия плакала.
Генерал Н. И. Вольф в некрологе заверял:
«И. А. Вревского будет оплакивать весь Кавказ, ибо он был из тех генералов, которые воспитывались в преданиях школы генерала Ермолова и сохранили дух, внушённый Ермоловым Кавказскому корпусу. Он был храбрый и правдивый, берёг своих солдат, бил горцев не на бумаге, а в бою. Шамиль три дня праздновал смерть «этого рыцаря без страха и упрёка».
Воспоминаний о «рыцаре без страха и упрёка» немного. Точнее, написали о нём только двое. Декабрист А. II. Беляев (с которым задумывалось похищение пушки в сороковом году) и личный секретарь Вревского штабс-капитан Зиссерман. Их воспоминания сходятся в оценке личной храбрости барона, который «всегда сам командовал батальоном и выбирал опасные позиции», его азарта и страсти в бою.
Беляев знал Вревского в сороковые годы, молодым, очень образованным офицером с правильными чертами лица немного южного типа, с вкрадчивой походкой и неизменным чубуком в зубах. Невысокого роста, складный кареглазый брюнет. Манера общения несколько застенчивая. В Дерптском университете он прошёл курс медицины, отчего, вероятно, имел одну оригинальную привычку: не пропускал мимо ни одного офицера с больными зубами. Всюду возил с собой ящик со щипцами и наводил страх на жителей крепости. Беляев было подумал, что это шутка, но барон не умел и не любил шутить и как-то на глазах у приятеля мастерски вырвал зуб графу Штейнбоку. Беляев потерял аппетит (дело было за обедом), Штейнбок – сознание, а барон преспокойно сложил инструменты, откланялся и бесшумно удалился.
В молодости очень много танцевал на импровизированных балах в собственном доме. Завёл оркестр полковой музыки и очень заботился о нём. Держал сани для пикников, если вдруг выпадет снег, и увозил понравившихся девиц на своих резвых лошадях далеко вперёд, так что родственники очень нервничали, а один дядюшка даже хотел с бароном драться из-за племянницы, но вмешались гости... и снова выручил этикет.
А. Л. Зиссерман узнал Вревского позже (в середине пятидесятых), за несколько лет до смерти, и составил своё мнение о характере начальника. Пристрастие к дёрганию зубов запомнилось ему меньше, чем ещё одна оригинальная черта. Летаргические приступы, в которые барон впадал от волнения накануне важных событий. Заснуть мог за столом, прямо во время военных сборов – трясли его все по очереди и вместе – батальон-то готов выступать. Солдатам же не скажешь, что генерал спит и атака отменяется. Лицо у него делалось бледным, как у мёртвого. Трясли, толкали, поднимали – «...он на секунду откроет глаза, скажет: «Хорошо, подай трубку», и спит дальше».

Зиссерман подчёркивает, что Вревский был очень смел, в бою жесток и кавказская служба очень к нему шла. Он не уставал делать бесчисленные набеги на Чечню, часто просто из-за того, чтобы его там не забывали. Имел в голове всякие полезные прожекты, например по восстановлению христианства на Кавказе для смягчения хищных нравов. Начальник штаба удивлённо пожал плечами, выслушав «записку» Вревского, и его недоумение можно объяснить примерно так: «Барон Вревский, – наверное, думал он, – прекрасно справляется с этими «хищными нравами», а вот как он будет резать кроткое оправославленное население, ещё неизвестно». Зиссерман не без злорадства доложил Ипполиту Александровичу об отказе. Тот «ничего не сказал, но по привычке посмотрел исподлобья, что означало у него тайную досаду».
Вообще же Зиссерман подозревал Вревского в крайнем эгоизме. Хотя тот ни с кем не был груб, скупости за ним не водилось, но всё это «на такой лад, что никто его особенно не любил». У него не было явных врагов, но не было и преданных друзей. О нём знали, с ним считались, но он держал людей на расстоянии, ни в ком не принимал горячего участия, с подчинёнными был безучастно презрительным, патологически не мог признавать свои ошибки.
Заметно, что он чем-то здорово раздражал своего секретаря, может быть, своим «стародавним барством», «...страстью окружать себя приживалами, арапчонками, бульдогами, большой крепостной и некрепостной дворней, фаворитами и пр. Третировалась эта компания тоже чисто по старым барским преданиям; преимущество не оказывалось ни арапчонку, ни бульдогу – ко всем презрительное отношение».
О Юлии Петровне Зиссерман высказался однозначно: «...сиявшая молодостью, красотой, образованием». Он встретил супругов где-то за Ростовом, они возвращались на Кавказ из орловского имения. Генерал катил с юной женой и её сестрой в открытом шарабане. На дорогах была распутица – март месяц, дорожный плащ барона сплошь заляпался весенней грязью. Он сам правил лошадьми – женщины пищали и хохотали – и казался очень симпатичным. За четыре месяца до своей смерти.
После Смольного института Юлия приехала в Ставрополь к отцу, здесь в скором времени сыграли и свадьбу. И если княгиня Ланская считала «позором» отдать дочь за «воспитанника», то Варпаховские, думается, с радостью согласились на эту честь.
В декабре 1855 года Ипполит пишет брату Борису в село Голубово Псковской губернии:
«Я тебя ещё не известил о моём очень скором браке с Юлией Варпаховской. Я уверен, что ты примешь живое участие в моём счастии, и я хочу надеяться на твоё любезное отношение к Юлии, которая со своей стороны расположена уже к вам. Жюли будет 18 лет (скорее всего, описка – 16 лет. – М. К.); она блондинка, выше среднего роста, со свежим цветом лица, блестящими умными глазами; добра бесконечно. Ты можешь подумать, что описание это вызвано моим влюблённым состоянием, но успокойся, это голос всеобщего мнения»[11]11
Водилась, видно, за бароном страсть к преувеличениям во «влюблённом состоянии». И влюблялся он, наверное, часто, вот брат от одного описания внешности и волновался.
[Закрыть].
Дом во Владикавказе, где Вревский поселил молодую жену, вести было непросто. Постоянные гости – цвет русской армии и их жёны, сосланные знаменитости, дети от умершей черкешенки, сестра Наталья с гувернанткой мисс Босс. Каково окунуться во всё это после беззаботного родительского дома?
Вскоре Вревский снова пишет в Голубово: «...Мы, слава Богу, живы, здоровы и понемногу привыкаем друг к другу... Я, впрочем, не теряю надежды, что мы сделаемся настоящими друзьями».
Значит, они не были «настоящими друзьями», что же мешало? Что может быть проще, чем подружиться с таким кротким ангелом, каким по описанию была Юлия Петровна? Или за внешней мягкостью, приветливостью и послушанием крылся характер, может, только озорной, а может, и строптивый? Кто расскажет об этом? Никто. Этикет запрещал со всей откровенностью говорить о молодых знатных особах.
Ипполит завещал похоронить себя рядом с братом Павлом в Успенском монастыре в Крыму или во Владикавказе около храма, сооружённого на его средства. Сослуживцы же и грузинская знать хотели распорядиться по-своему и уговорили юную вдову похоронить его в Телави. Она уступила.
Однополчане не успокоились и принялись сооружать генералу памятник. В архиве Вревских сохранилась «записка», отражающая все страсти, которые разгорелись вокруг этого. Сослуживцы и именитые кавказцы сами так поверили в то, что растроганно наговорили заплаканной вдове о его славе и «великой чести», которой он заслуживает, что стали доказывать, будто памятник – именно то, что достойно увенчать память героя. А поскольку герой знаменитый и народный – за пожертвованиями дело не станет.
Далее в «записке» сказано, что «...осуществить преднамеренно дело не представлялось возможным (не собралось достаточно средств)». Деньги собирали четыре года. Потом брат покойного дал шестьсот рублей, и дело пошло на лад. Памятник и теперь стоит в городе Телави – из чугуна, с решёткой, заказанной в Париже.
Всё это сказано не для того, чтобы заставить усомниться в достоинствах генерала, а для того, чтобы наглядно показать ту разницу, что существует между легендой и жизнью.
Если обозначить жизнь человека за одно целое, то девять десятых из этого целого мы никогда не узнаем. Нам не дано узнать о людях, которые не оставили своих имён в истории, но так же мы не узнаем и о тех, кто не ушёл в забвение – был увековечен и знаменит. Слава – только сверкающая верхушка огромного айсберга, одна десятая его часть, тающая в тумане времён. Остальное и вовсе же скрыто от постороннего взгляда. Поэтому, рассказывая о Вревском, Александре II, Фанни Лир и Пупареве, да и о самой Юлии Петровне, и автор и читатель должны твёрдо помнить и знать, что речь идёт только об одной десятой их жизни. Девять десятых – это то, чего нет ни в этой, ни в какой другой документальной книге. Нет и не может быть. Это правда, любезный читатель, её надо уметь принять.