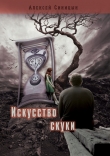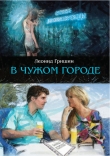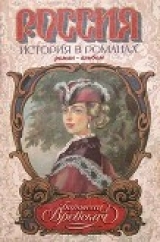
Текст книги "Баронесса Вревская: Роман-альбом"
Автор книги: Марина Кретова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
ИЗ ПИСЬМА ЮЛИИ ПЕТРОВНЫ
БЕЗ ДАТЫ И НАЧАЛА
(Приблизительно зима 1876/77 года)
...впрочем, вечного ничего нет, кроме вечного, тупого ожидания до гробовой доски чего-то лучшего и неведомого.
Я веду жизнь весьма однообразную, муж моей сестры уехал ненадолго по делам, я очень мало выхожу из дому – и так как живу ещё на бивуаках, мебель ещё не привезли, – то мало кого могу принимать у себя, да и не хочется. В этом несчастном климате тотчас же чувствуется какое-то нравственное разложение, встряхнуть которое нет мочи.
Сестра моя характера мрачного, и так как я её очень люблю, то не могу ни о чём думать, видя её более или менее неспокойной. Моя же жизнь, собственная особа окончательно стала меня не занимать. Я очень подурнела и постарела и, вообразите, нисколько не горюю.
Вижу часто мою старую приятельницу начальницу сестёр милосердия. Учусь ходить за больными и утешаю себя мыслью, что делаю дело. Тут проводит зиму гр. Строганов из Рима, с ним мы иногда ездим по выставкам картин – в Академии познакомилась я с Айвазовским, он показывал нам свою новую картину; очень море туманное и некрасивое. «Волынский» Якоби, по-моему, очень удачен, но на всё остальное почти нельзя смотреть. Зато серебряные вещи Овчинникова прелестны. Вряд ли придётся мне выехать ранее половины или конца мая, это меня только радует, потому что таким образом есть надежда Вас видеть. Ещё раз, как всегда, жму Ваши дорогие руки...
Сердечно преданная Вам
Ю. Вревская.
«ВОЙНА ВБЛИЗИ УЖАСНА»
(Испытание кровью)
«...Люди русские, да не оскудеет и ныне ваша помогающая рука! Вы спасли от голодной смерти многих и очень многих... Теперь же не оттолкните от вашего сердца и припавших к нему болгар», – писали «Санкт-Петербургские ведомости» в июле 1876 года – и медные пятаки, копейки опускались в кружки для пожертвований. Во дворе «Славянского базара», в Москве, и в других местах собирались целые толпы и ждали решения – кому можно будет идти на фронт и кому нельзя.
На улице в эти дни запросто можно было встретить семидесятилетнего сановника, отдающего последние визиты и записавшегося в корнеты гусарского полка – на лошади «корнет» держался вполне сносно.
Достоевский в «Дневнике писателя» рассказывает о молодой девушке из состоятельной семьи, которая пришла к нему за благословением.
«Мне вдруг стало очень жаль её, она так молода. Пугать её трудностями, войной, тифом в лазаретах – было совсем лишнее: это значило бы подливать масло в огонь. Тут была единственно лишь жажда жертвы, подвига, доброго дела и, главное, что всего было дороже – никакого тщеславия, никакого самоупоения, а просто желание – «ходить за ранеными», принести пользу.
– Но ведь вы не умеете ходить за ранеными?
– Да, но я уже справляюсь и была в комитете. Поступающим дают срок в две недели, и я, конечно, приготовлюсь.
– Но вы же так молоды, как можете вы ручаться за себя?
– Почему вы думаете, что я так молода? Мне уже восемнадцать лет...
– Ну, Бог с вами, ступайте. Но кончится дело, приезжайте скорее назад.
Она ушла с сияющим лицом и уж, конечно, через неделю будет там».
Однако Александр II медлил. У него ещё были надежды на дипломатов. Благоразумие брало верх над чувствами, он боялся подвести Россию под новую европейскую войну, а крымское поражение вселяло сомнение в безоговорочной победе.
Все, без исключения, общественные круги были недовольны; стали поговаривать, что Каракозов промахнулся напрасно; государственная и дипломатическая верхушка во главе с князем Горчаковым, военным министром Милютиным и генералом Игнатьевым начала склоняться к мысли, что война с Турцией после поражения Сербии, ультиматума и уже частичной мобилизации русских войск, во-первых, почти неизбежна, во-вторых, вполне могла бы послужить «пробным камнем» для оценки того, что было сделано в армии после крымского поражения. Газеты же продолжали в изобилии печатать на своих страницах воззвания и телеграммы о поднятых на штыки младенцах, обезглавленных в алтарях православных священниках и обесчещенных и убитых девушках и старухах. Вся Россия закипала, как смола, от подобных известий. Не богатства и земли были приманкой, а попираемая вера православная да турецкие изуверства – вот уже «...и стар и млад точит саблю. Давненько казачий конь не пил дунайской водицы».
Император не хотел войны. Вылазку генерала Черняева он назвал «авантюристической выходкой и самоубийством», хотел лишить орденов за то, что тот увлёк на верную смерть тысячи. «Черняев повёл их не отличаться, а умирать...» – писали в газетах. Писали с пафосом, восхищаясь этими смертями, и только царь и граф Толстой осуждающе смотрели на эту «смелость». В VIII главе «Анны Карениной» Лев Николаевич распёк добровольцев, назвав авантюристами и шалопаями. Славянофилы затопали ногами на такую «бескрылую» позицию, и всегда такой несговорчивый Толстой поддался (дворянская честь?) и уж после говорил: «Вся Россия там, и я должен идти»; к счастью, Софья Андреевна легла костьми – не пустила.
А господин Достоевский выступил со статьёй «Не всегда война бич, а иногда и спасение».
Неужели и впрямь лучше иметь великую историю, украшенную боевой славой (к чему и призывал И. Аксаков), чем просто сохранённые жизни?.. А народ говорит: «Худой мир лучше доброй брани».
Война (особенно освободительная) всегда пачкается брызгами шампанского, и каждый волонтёр за месяц до неё – уже герой. А кончается она всегда тем, что ободранный, измученный бессонницей, поносом и холодом человек в отчаянии думает: как бы выпутаться из беды... Хватит крови, смерти, вони, скорей бы домой!
Русско-турецкая война 1877—1878 годов завершилась мирным договором в Сан-Стефано 19 февраля 1878 года. В день годовщины отмены крепостного права. Русское общество по-разному отнеслось к окончанию войны. Нигилисты дождались домой царя и снова начали убивать его, либералы и консерваторы объединились и принялись заново разжигать страсти. Они требовали продолжения, им – невоевавшим – было мало крови. Они смело заявляли, что «Царьград ещё не очищен от азиатской скверны, и задача России решена ещё не вполне».
Аксаков, гневно указывая на Александра II, объявлял, что Россия покрыла себя позором, не войдя в Константинополь, добровольно отказалась от успехов, за которые плачено кровью. Как он умел говорить! А войди русские в Константинополь, тут же началась бы новая война с Англией – России был поставлен ультиматум, – и император снова «малодушно» жалел русскую кровь.
А Скобелев, стыдясь, не мог императору в глаза смотреть – ну, этот-то вояка, ему без войны скучно; но Аксаков? Интеллигентный господин в пенсне, с высоким лбом – зачем ему было столько крови? Двести тысяч русских жизней – неужели не хватило для славянской идеи такого жертвоприношения?!
Аксакову предлагали стать королём Болгарии! Что же он отказался? Войну «расхлёбывали» все вместе. Кроме людей военных, немало, как это ни удивительно, и «служителей муз».

Георгиевский крест за храбрость получил известный художник П. П. Соколов. Отлично воевал В. В. Верещагин – был помощником минёра на катере «Шутка», сражался с турецким военным кораблём. В Дунайской армии воевал В. Д. Поленов. О приключениях Немировича-Данченко на маленькой шустрой лошадке знал по его корреспонденциям весь Петербург. Семидесятичетырёхлетний Пирогов и тот пошёл. «Что за гениальный старик, какая в нём неутомимость!» – писали о нём с фронта. Дядя Гиляй от избытка молодечества подался в пластуны – отряд смертников – и с наслаждением добывал «языков», ходил в разведки и резал турка ножом, которым пользовался с особой ловкостью. До того как его надоумили идти в пластуны, он буквально пропадал со скуки.
А доброволец Гаршин, стоя в распахнутой шинели у Исаакия, говорил жаркие речи на проводах, а потом в бою застрелил турка, пролежал рядом с ним четыре дня раненый, смотрел, как человек, у которого было сердце, глаза, страх, счастье, жена, дети, – раздувался, пух, рос до неба, а потом сползал с собственных костей, лопался и сох – и всё это сделал с ним он, пылкий доброволец Всеволод Гаршин, во имя освобождения и Христа... Ему и хватило... Демобилизовался и всё ходил с детскими глазами по кабинетам, просил, чтобы отменили смертную казнь, отменили войну, отменили смерть... А кончил в лестничном пролёте.
Его смерть, пожалуй, последний отзвук славной победы.
...Однако Александр II медлил.
Звонили траурные колокола, сыпались в кружку медяки «на угнетённых славян», выстраивались в очередь добровольцы. Дипломаты и политики волновались, предчувствуя долгожданные интриги, дележи и перемены. Все хотели воевать. А он один – между Богом и людьми.
В апреле 1877 года пришло письмо от экзарха Болгарии Антима:
«...Если Его Величество Всероссийский император не обратит внимание на положение болгар, не защитит их теперь, то лучше их вычеркнуть из списка славян и православных, ибо ОТЧАЯНИЕ ОВЛАДЕЛО ВСЕМИ!»
Манифест был подписан.
Дальше всё понеслось стремительно и необратимо. На Константинопольской январской конференции 1877 года, на последнем заседании, поднялся Савфет-паша и прочёл ноту – категорический отказ в улучшении участи восточных славян, что расценивалось как действия, «несовместимые с достоинством Оттоманской империи». Эта нота была пощёчиной России.
В начале марта генерал-адъютант граф Игнатьев объездил столицы пяти государств и добился подписания «Лондонского протокола», в котором европейские державы вновь настаивали на проведении реформ на Балканах. 29 марта 1877 года на «Лондонский протокол» Турция ответила безусловным отказом.
12 апреля в начале девятого часа утра Александр II осмотрел войска на Скаковом поле, недалеко за чертой города Кишинёва. Здесь же, в виду всего фронта, был установлен аналой и собралось духовенство. Несмотря на середину весны, было холодно, может, отчасти из-за раннего часа. Из ноздрей нетерпеливо всхрапывающих лошадей шёл пар. Народ, празднично одетый, молча, огромными толпами собирался и устраивался по краям поля. Около девяти показалась открытая коляска, в которой ехали император и Великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий армии. Коляску сопровождал эскорт всадников.
В девять утра раздался звон колоколов православных кишинёвских церквей. Кишинёвский епископ Павел сложил руки на груди и несколько минут молча пристально вглядывался в лица военных, стоявших перед ним. Сделалось тихо; казалось, всем было слышно, как прошуршал передаваемый из рук императора в руки Павла пакет, как хрустнула, сломавшись, сургучная печать на нем. Владыка осенил себя крестным знамением и громким, низким голосом начал читать:
«Божиею милостью
Мы, Александр Вторый,
Царь польский, Великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая.
Всем Нашим любезным верноподданным известно то живое участие, которое Мы всегда принимали в судьбах угнетённого христианского населения Турции. Желание улучшить и обеспечить его жизнь разделял с Нами и весь русский народ, ныне выражающий готовность свою на новые жертвы для облегчения участи христиан Балканского полуострова. Кровь и достояние Наших верноподданных были всегда Нам дороги...
...Исчерпав до конца миролюбие Наше, мы принуждены высокомерным упорством Порты приступить к действиям более решительным. Того требуют и чувство справедливости, и чувство собственного Нашего достоинства. Турция, отказом своим, поставляет Нас в необходимости обратиться к силе оружия. Глубоко проникнутые убеждением в правоте Нашего дела, Мы, в смиренном уповании на помощь и милосердие Всевышнего, объявляем всем Нашим верноподданным, что наступило время, предусмотренное в тех словах Наших, на которые единодушно отозвалась вся Россия. Мы выразили намерение действовать самостоятельно, когда Мы сочтём это нужным и честь России этого потребует.
Ныне, призывая благословение Божие на доблестные войска Наши, Мы повелели им вступить в пределы Турции.
Дан в Кишинёве, апреля 12-го дня, лета от Рождества Христова в тысяча восемьсот семьдесят седьмое, царствования же Нашего в двадцать третье».
На подлинном Собственного Его Императорского Величества рукою подписано: «Александр».
Люди окаменели, будто переступили какой-то желанный порог и оцепенели от долгожданной неожиданности. Казалось, время остановилось. В следующую минуту всё взорвалось единым, мощным «ура». Кричали и плакали от накопившихся чувств генералы, вдовы, солдаты – все, кто собрался на поле в этот день.
– Батальоны, на колени! – провозгласил растроганный император.
Все припали к земле. Бьющиеся в руках знаменосцев полотна замерли. Епископ окропил войска святой водой и призвал всех воинов вспомнить образы великих русских князей: Олега, Игоря, Святослава; великих царей: Петра Великого, Екатерину Великую; великих полководцев: Румянцева, Суворова, Кутузова – и быть, как они, в отношении чести, мужества и служения великой России. Потом он благословил главнокомандующего иконой Спаса, а все русские войска через генерала Драгомирова – иконой Богоматери.
Первым выступил из Кишинёва 53-й Волынский пехотный полк, шефом которого был назначен в этот же день Великий князь Николай Николаевич, за ним остальное русское войско.
«За веру Христову», «За родную славянскую кровь», – слышалось отовсюду, и, наверное, «старой Западной Европе непонятно то, что чувствовал тогда молодой ещё русский народ, всем своим существом стремившийся совершить этот «крестовый Славянский поход».
– Прощайте, православные, не посрамите себя и нас ни в пути, ни на месте! – вслед каждому поезду с добровольцами кричали провожавшие.
Среди императорской свиты в Кишинёве на Скаковом поле 12 апреля была и русская баронесса Юлия Петровна Вревская.
«СТРАННЫЙ НАРОД»
(Этюд в эпистолярном жанре)
В июне 1877 года началась переправа через Дунай (Скобелев предлагал форсировать раньше, в разлив). Первым ступил на болгарскую землю отряд генерала Драгомирова:
«Разместились солдатики у понтонов на берегу.
– Готовы?
– Готовы! – ответили шёпотом голоса.
– Ну, с Богом, садись...
Генерал снял фуражку, перекрестил понтоны, перекрестился сам; все солдаты, тоже сняв шапки, перекрестились.
Тихо поплыли понтоны. Нигде ни звука...»
Все были уверены, что турки откроют адский огонь, но... на берегу турецкой армии не было. Потом уже набежали, конечно, из крепостей, да поздно – «русские овладели плацдармом в районе Систово».
Ловкий и отчаянный Гурко перебрался через Балканы не только самым непроходимым перевалом, но и сделал это, «не наблюдаемый противником». Половину августа ожесточённо дрались с турками за Шипкинский перевал, потом наступило знаменитое «шипкинское сидение» и продолжалось до конца декабря. Зелёная горка хорошо была всем известна: сколько ни пляши всю ночь на одной ноге, а всё равно – отморозишь. Нередко смена заставала солдатика навечно стоящим на посту – шинель от мороза и влаги – как кринолин, так мёртвый и стоит в ледяной обёртке и к груди ружьё прижимает: «На Шипке всё спокойно!»
28 декабря час Шипки пробил! Ждали Скобелева. Скобелев не тянул: ещё утром только готовились наступать в лихорадке от ожидания и страха – «что-то будет!», а в половине пятого бой прекращён: овладели всеми позициями, противник в ужасе сдался... и нескончаемое «ура» долго эхом носилось в горах. «Конечно, дело 28 декабря самое блистательное за всю кампанию», – писал полковник Л. Д. Вяземский. В плен сдались 22 тысячи турок с 83 орудиями. Русские потеряли убитыми пять тысяч человек, из них триста болгарских ополченцев.
Плевна видела три сражения. Первые два (8-го и 18 июля) были неудачными; «третья Плевна» – лейб-медик Боткин назвал её «преступлением» – продолжалась с 26-го до 31 августа. «Невидимка Плевна, унёсшая уже столько жизней...» – по словам Верещагина – ждала новых жертв. В газетах писали: «Всё было ужасно, начиная с тумана; но посреди этих мрачных картин был и светлый луч; ничем не сокрушимая доблесть наших войск... которые служили не только при жизни, но и по смерти: будучи сложены трупами на скобелевских редутах, они выручали товарищей, прикрывая своими телами оставшихся в живых...» В течение пяти дней здесь шла настоящая бойня, «носящая название штурма», – трупы, трупы и только один взятый редут. Не получив никаких подкреплений, отряд Скобелева сражался более чем с половиной всех войск Осман-паши. С 1 сентября началась изнурительная блокада... 28 ноября турецкий гарнизон Плевны (свыше 43 тысяч человек) капитулировал, и Плевна пала! Петербургские газеты ликовали: «...Наконец-то, наконец эта злосчастная Плевна наша, мы упиваемся победой во всём объёме этого слова». За две недели до сдачи Плевны Боткин совсем не так восторженно, как из Петербурга, смотрел на это дело: «Пора, пора кончать с этим ужасом!! Неужели ещё мало крови, мало несчастья, мало бедствия? Кому всё это нужно? Несчастным братушкам, которые чуть не с ненавистью глядят на нас, посылая нам проклятия и самые скверные пожелания?! ...Здесь идёт такая вражда друг на друга, столько зависти разлито... что ко всякому факту нужно относиться с осторожностью. Пора, пора из этого ада тщеславия, зависти, сребролюбия!»
А военный корреспондент Немирович-Данченко в то же время писал в очерках для столичных газет: «Болгары в это время явились нашими спасителями, потому что трудно было сказать, от чего мы больше страдали – от неприятельских нуль или от жажды. По всей дороге растянулись эти добровольцы-водовозы в два ряда... Около каждого солдата останавливается болгарин.
– Братушка, вода!
– Спасибо тебе... И какая же у тебя вода холодная.
Раненых болгары поили и обмывали им раны и, возвращаясь назад, везли их на своих ослах».

По горам лучше всех «лазал» Гурко. Он первым начал переход через Балканы 13 декабря и снова проделал всё ловко и чисто, в обход турок. По плану его 70-тысячный отряд должен был двигаться к Софии. Скобелев не отставал от удачливого товарища и азартно провёл свою колонну по тропе, считавшейся зимой совершенно непроходимой. Девять с половиной километров крутого подъёма с четырёхметровым снежным слоем он прошёл за 72 часа. После преодоления Балкан и победы у Шипки – Шейново русские войска стремительно двинулись к Константинополю. Последний бой разыгрался под стенами Филиппополя. Почти вся турецкая артиллерия была захвачена. Турки бежали. Адрианополь сдался без боя. У иеромонаха Н., путешествовавшего по полям битв при Красном Кресте, вырвалось: «Адрианополь – город неказистый... О Господи! Вынеси нас на святую Русь!»
В предместье Константинополя, небольшом и, возможно, тоже «неказистом» городке Сан-Стефано, был подписан мир.
Десять месяцев длилась война (военные действия шли ещё и на Кавказском театре, и потерянный в Крымской и уже перестроенный англичанами Карс Россия себе вернула), и многие, кто свежим весенним утром слушал владыку Павла на полковом поле, не вернулись. Не вернулась и Юлия Петровна.
Письма Вревской, переписанные её сестрой Натальей и хранящиеся в Пушкинском Доме в Петербурге; письма Боткина; дневники военного министра Милютина – сколько их, этих воспоминаний! Война одна, а глаз, что видели её, много. И для всех она – разная. Своя. Война генералов. Война солдат. Война священников. Война врачей. Война Вревской.
Странно, но на войне существует распорядок дня, как и в каком-нибудь пансионе. Для солдата он такой:
1. Утро. Ружейная перестрелка до полудня.
2. Канонада часа на два.
3. Опять ружейная пальба до сумерек.
А потом ночь, смена караула, земляной дымный ложемент. Разговоры, домашняя работа, чтение – кто грамотный. И каждый второй солдат болен животом и ногами. Животом – от дрянной «борщекаши» да ненавистных «концертов» (так солдаты называли консервы), а ногами – от длинных переходов, стояния в цепи и в ночном карауле. И обморожен он, и голоден, и вшив, на начальство жаловаться не умеет и в караул пойдёт – болезнью не отговорится. Это офицер может с простреленным пальцем в госпитале лежать – «перевязывать срам», как напишет Вревская, хотя тут же заметит, что и «смелых много». Солдат же стоит на ветру, как свечечка, а потом, если насмерть не замёрзнет, будет трястись на телегах по госпиталям. А приедет в госпиталь государь, тут бы и просить, а они только: всё есть, Ваше Величество, благодарим покорно, ещё послужим Отечеству! Что с ними сделаешь?!

Утром – молитва. Стоит на коленях вся цепь в степи, без шапок, до последних слова не долетают; и нечёсаные затылки золотит восходящее солнце. И не знают, будут ли живы в этот наступивший день. Каждая молитва – перед смертью.
А будет жив нынче, то при свете сального огарка каким-нибудь сломанным перочинным ножиком или гвоздём ложек резных наделает и сапоги починит, потому как «солдат шилом бреется, а дымом греется». А туманы в болгарских горах до того густы, что в трёх шагах ничего не видно. Так и на Шипку они шли: форсированным маршем в летних брюках и рубахах, а ранцы с вещами было приказано оставить в Тырново...
Долгий путь к Константинополю, в дороге ураган, и снег, и грязь, и сон на сырой земле под шинелью. А на заре снова месить ногами липкую грязь, снова голодать да стараться не отстать – замёрзнешь до смерти, – и тащить на себе артиллерию, обозы, и перекусывать проклятыми «концертами» – вот и вся война и вся слава для солдата. И мемуаров не оставит, и потомкам наставлений не пошлёт, сгинет без имени в чужой земле.
«Но как можно роптать, когда видишь перед собой столько калек, безруких, безногих, и всё это без куска хлеба в будущем... это жалости подобно видеть этих несчастных, поистине героев, которые терпят такие страшные лишения без ропота. Да, велик русский солдат!»
Вревская знала народ не по книгам.
О солдатах пишут все мемуаристы: и строгие, и желчные, и мягкие. Они так единодушны в своём гимне «простому русскому солдату», будто, чувствуя свою вину перед кротким «пушечным мясом», знают наперёд, что ничем, кроме этих восторженных слов, отблагодарить его не смогут. А в остальном единодушия гораздо меньше. Немирович-Данченко в репортажах писал, что болгары ходили за ранеными, «как няньки», и были очень дружны с русскими солдатами, а киевский иеромонах при Красном Кресте отец Н. и лейб-медик Боткин, словно сговорившись, твердят обратное.
«Братушки наши совсем не гостеприимны. Никакой нужды они не испытывают, а спроси у них чего-нибудь – один отказ: «Нету, братушек!» Если же вы уличите его во лжи и настоятельно потребуете чего-нибудь, тогда услышите самую баснословную цену. Но есть надо и... платишь», – это святой отец. «...Здесь в Беле (село Бяла – где и работала в госпитале Вревская. – М. К.) народ смотрит очень богато обставленным: какая масса скота, хлеба, да какого! ...В нашей Могилёвской губернии крестьяне сравнительно с здешними – нищие; какие у здешних крестьян лошади, волы! Кроме видимого богатства – апатия и равнодушие болгар к русским... впрочем, может быть, болгары боятся, что турки снова явятся и будут душить их за сочувствие к русским», – это Боткин. «...Болгары с солдат берут за всё вчетверо; противные братушки, они меня страшно сердят», – а это уже Юлия Петровна, национальная героиня Болгарии[24]24
В. Куртев, правда, уверял меня, что письма Вревской не только переписаны, но и «отредактированы» сестрой Натальей, и плохое про болгар приписала именно она. Возможно; но кто же тогда «правил» Боткина, иеромонаха и многих других? И зачем?
[Закрыть].
А вот диалог 17 июля 1877 года. Боткин беседует с болгарином, загоняющим домой отличных лошадей.
– Что, лошадей-то, чай, у турок взял? – спрашивает Боткин и в скобках, в письме описывая этот случай, помечает: «Делает вид (болгарин), что не понимает».
– Турецкие лошади?
– А, не, не – мои!
«Я же уверен, – выносит приговор лейб-медик, – что краденые лошади».
Вообще же и святой отец, и царский медик словно взялись наперегонки критиковать всё вокруг – кто кого перегонит. Любопытно их послушать... Батюшка начал прямо с роскошных лазаретов Красного Креста, средства на которые давала императрица. «Да попади туда обычный солдатик на три дня, он пожелал бы умереть тут, чем возвращаться на родину...» – заявляет он и дальше принимается ругать правительство за то, что остальные пользуются более скромной обстановкой в госпиталях от военного министерства. А на синие санитарные кареты – просто зависть берёт. «Если бы Красный Крест поделился этими каретами с военным министерством, какое бы облегчение принесло это раненым», – кипятится он и довольно желчно добавляет: «Русь любит блеснуть, а за дело взяться не умеет!»
И сёстрам милосердия от него досталось: «Ни к чему не способны». И храмов в Болгарии совершенно нет «нашей архитектуры»: внутри грязь, живопись убийственна, шум во время службы до оглупления, пение отвратительное, и «туфли в алтаре валяются». Зато в мечетях чистота, благоговейный покой и тишина, и вообще, «уровень культуры у турок, вопреки журналистскому вранью, оказался высок».
Да, сварливый батюшка любит «куснуть» и своих, и чужих, маловато в его словах смирения. Заточил перо на гневных речах и приступил к тому единственному, что ему в Болгарии понравилось. А понравилась ему, похоже, только природа. Со сдержанным упоением перечисляет он реки, скалы, ореховые деревья, буки, кельи горного монастыря, похожие на ласточкины гнёзда; и зелень, «наляпанную, словно кистью, на серый гранит скал». И виноградные лозы.
На описание одного подъезда к монастырю у батюшки ушло две страницы. «...Ильинский монастырь расположен у подножия двух гор, между которыми протекает речка, весьма быстрая. Моста нет, и переезжать нужно вброд, по каменистому дну, в очень опасном месте: не далее трёх сажен от брода речка вертикально падает с порога. Шум от этого водопада большой...» И так далее. И это письма с войны! О век, когда жили неспешно!
Царский лейб-медик Боткин похвалил только луну, которая так красива, что «магометане недаром поклоняются ей». И хороша она даже в затмении, когда вся закрылась, «оставив только кончик театрального тусклого месяца, который покачивался в облаках, словно готовый сорваться».
Храмы «почти в подземелье» тоже не понравились Боткину. И объяснения болгар, что строить по-другому не удавалось из-за турок, не убедили его. Показаниям этим, пишет Боткин, противоречат колокольни, которые всё равно видны издали, так что строят они такие не из страха, а от лени и небрежения к вере.
И про турок то же: «...Турки сгнили только в головах кабинетных людей, и точно так же – будто бы угнетены болгары. Турки, вооружённые англичанами великолепными ружьями с млрд, патронов, воинственные по природе, экзальтированные религиозным фанатизмом, очень сильны...»
Уважение Боткина вызывали немногие. Государь, иногда с температурой под сорок, но всё равно спокойный: «Господа, бодрее, наша возьмёт!»; военный министр Милютин, Обручев, Радецкий, Драгомиров. К Скобелеву он относился неоднозначно, не мог понять этого «сорвиголовства», а уж о придворном писателе графе Соллогубе высказался совсем резко: приехал, дескать, прогулял в коляске по Бухаресту и пропустил сдачу Плевны – ничего себе, хорош «военный писатель». Задурил в штабе головы будущим документальным романом: о вас, говорит, напишу, а вот о вас – не знаю, подумаю... И все, как дети, «старались приглянуться ему, попасть в роман».
Сетовал Боткин на то, что вблизи и войны никакой не видно (ну, это кому как), просил жену из России сообщать ему о том, что делается здесь, присылать вырезки.
Надо признать, что в общем-то многовато в его письмах чая под грушами и яблонями, раздумий в сумерках, писания записок и писем, обедов на свежем воздухе, нравственной апатии, нравственной бодрости, критики, самокритики – такая вот война глазами придворного интеллигента. Обходы госпиталей, где всегда одно: грязь, вонь, страдания, смерть; переезды с места на место, мучения раненых на арбах по дурным дорогам, непролазная грязь, угрюмые болгары, и ещё только август. Впереди осень, зима. Ещё не взята Плевна, идёт оборона Шипки, и кажется, что этому не будет конца. Бездарность Непокойчицкого, спасительный приезд Тотлебена, скромность и серьёзность Милютина, мягкая мудрость государя. И снова распри и интриги на Главной квартире, в штабе, жара – в тени до двадцати восьми – зудение кузнечиков, жалобы на врачей, на то, как плохо поставлено медицинское дело: много хороших виртуозных хирургов, а нужны техники, так как идёт поток, поток...
От жары и усталости неприятное происшествие: в румынском войске солдаты отказались идти на штурм и подняли на штыки офицеров, пригрозивших им револьверами. «Хороши союзнички!» – горько восклицает Боткин, смертельно уставший от этого «перетирания в порошок человеческих жизней!».
В сентябре начались затяжные дожди, дороги размыло в кашу, к утру холод, лошади (те самые, что так любовно отбирались крестьянами на «святую войну» и отдавались почти даром, и лучшие: на святое дело грех плохих давать) – передохли, а тут ещё болгары «топят свои печи из необожжённой глины, с кислым запахом, и нет сил терпеть эту чужую вонь. Зачем пришли? Для кого? – спрашивает каждый себя...». И война продолжается просто за право выжить, выбраться, увидеть родину, дом... В каждой войне наступает «отрезвление».
И снова болгарский «невозможный» суп из перца, бабы за тканьём, окна без стёкол, темнота, смрад, клопы, мухи, пыль, теснота... И прежде батюшка, а за ним и Боткин не выдерживают, и снова «яд» каплет с их пера.
«Я говорю ему, – кипятится отец Н., рассказывая в письме, как «распекал» болгарина, – не поздновато ли вы хватились заявлять о своём патриотизме? ... Пронеситесь-ка мыслью над недавним прошлым! Чем заявили ваши жёны и сёстры своё сочувствие к русским страдальцам-воинам? Взялась ли хоть одна вымыть бельё нашего солдата, залитое потом и кровью? Положила ли болгарка заплату на его изодранное бельё? Утолили ли вы жажду (вспомним Немировича-Данченко! – М. К.), накормили ли вы измученных в бою хоть раз даром, без денег?! Ничего подобного не видали от вас «братушки», как вы нежно нас величаете... Что же, начинайте с Божьей помощью! Русский народ ещё не остыл в своей бескорыстной любви к вам...»
Представляю, как произносил свою речь батюшка, указуя перстом в закопчённый потолок; как, и половины не понимая, слушал его зашедший к хозяйке в гости болгарин, может, сам ни в чём и не виноватый, дослушал и «тут же ушёл», не сказав ни в оправдание, ни в укор ни слова.
«Нет, не за этих людей проливали мы кровь, – негодовал Боткин, – а за будущих, за правнуков теперешних. Мы трудимся за идею христианства. Посмотрю, что будет дальше; своими же глазами я мог видеть только то, что турки угнетали культуру этих несчастных полудиких людей, мозги которых, очевидно, целые века не всеми своими частями работали равномерно. Восторг, с которым якобы встречают болгары русских, существует больше на бумаге корреспондентов, я не вижу нисколько этого восторга; мне даже кажется, что эти якобы восторженные встречи при наших въездах искусственно подготовлены... Болгары принялись грабить турок, но за нас они не поднялись. Болгарская дружина, которая формировалась ещё в Кишинёве, насчитывала 12 тысяч человек! И это всё, что может дать целая страна? Всё на русской крови, всё русскими жилами и животом. Дорогая цена за чужую и, похоже, ненужную свободу».