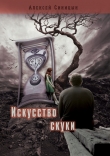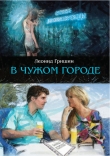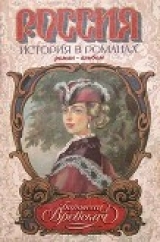
Текст книги "Баронесса Вревская: Роман-альбом"
Автор книги: Марина Кретова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Последнее, о чём он беспокоился, пока врачи набело сочиняли историю его помешательства, как уберечь возлюбленную от неприятностей. Он просил, чтобы она взяла все деньги, считал, что она заслужила их, и скорее уезжала, чтобы не выслали в Сибирь.
– О, друг мой, – вскричала Фанни, – они не сделают такой подлости!
– Все сделают, – тихо и спокойно сказал он.
Её арестовали.
Затрепетало сердечко Фанни Лир, когда повели её по Петербургу два жандарма и когда большой тюремный ключ лязгнул в замке. Фанни совершенно не выносила голода.
– Ну, что смотрите, будто у меня три глаза, – прикрикнула она на жандармов, – несите мне ростбифу, чаю, хлеба и шампанского, мне угодно завтракать!
О себе в те дни она говорила: «Они совсем не знают моего характера: я могу кричать от пореза, но если мне отрежут всю руку, я не разожму губ и другою рукой сама похороню отрезанную».
Впрочем, на такие пытки идти не пришлось. Любезный Трепов (тот самый, кто два года назад встретил её на русской границе и в которого потом стреляла В. Засулич) уладил дело почти без скандала. Император приказал ничего не отбирать у Фанни. Только один Великий князь Константин (отец Николая) пытался вытребовать у неё завещание сына и обязательство на сто тысяч рублей. Ему было жаль семейных денег, которые уплывали за океан вместе с бойкой шлюшкой, погубившей сына. Фанни сдалась и уступила половину – не годится испытывать судьбу дольше, и только твердила, что «поступила глупо».
Она сидела в поезде, напротив доверчиво дремали провожатые в жандармской форме; последние берёзки мелькнули за окном – граница, – и Фанни отметила про себя, а потом и на бумаге, что дышать сделалось свободнее.
Несколько раз князю Николаю снился сон, он рассказывал о нём Фанни: он стоит на коленях в большой тронной зале, затянутой в чёрный креп. «Расстрелять!» – коротко говорит император солдатам в ослепительных белых мундирах и кивает в сторону племянника. Потом подходит, гладит по голове – Николай приникает губами к душистым мягким пальцам. «Дядя, – шепчет он, – ты меня любишь?» Император кивает задумчиво, отходит, плачет навзрыд, слёзы катятся по усам и бакенбардам, а платком машет, машет как огромный невидимый пресс. «Ах да, – вспоминает Николай, – царская честь!» – и понимает, что дядя прав.
Когда перед Александром II разложили кошельки, веера, склянки от духов, найденные на половине племянника и подтверждающие болезнь, а не подлость, он побледнел и тихо сказал:
– Разжаловать – и на Кавказ.
Но в ноги ему бросилась императрица, умоляя пощадить убогого и больного, который и так уже всё потерял.
– Хорошо, – согласился император, – делайте с ним что хотите, но чтобы я больше не слыхал о нём.
Да, только избранным достаётся высшая любовь и высшая ненависть.
Это их участь. Бремя.
МЕЖДУ БОГОМ И ЛЮДЬМИ
«20 февраля 1855 года. В час пополудни,
во время звона на Ивановской колокольне
(панихида по Николаю I и молебствие с присягой
Александру II), обрушился колокол весом
до 2000 пудов и, пробив три свода, убил
трёх женщин, двух мужчин и ушиб семь человек».
(Из записей коллежского асессора К. В. Пупарева)
Как-то стоит Достоевский со знакомым у витрины магазина и спрашивает его:
– Вот вы бы донесли, если бы знали о покушении?
– Нет, – говорит знакомый и щурится в модные окуляры.
– И я нет, – соглашается Достоевский.
Отрочество свободы. Ненависть сына к отцу. И всё во имя матери – России. Принцип дороже чужой жизни. И забыли, что царь не только символ, но и человек. Живой. Красивый офицер с мягким взглядом.
4 апреля 1866 года. Каракозов стрелял в Летнем саду в четвёртом часу пополудни, когда царь с племянницей и племянником поднимался в коляску. Толпа, пришедшая смотреть на батюшку царя, стояла и смотрела, как «батюшку» убивают. И только Осип Комиссаров – крестьянин – не растерялся, толкнул злодея под локоть, и тот промахнулся.
Июнь 1867 года. Березовский в Париже – во время Всемирной выставки – в Булонском лесу царь прогуливался в коляске с двумя сыновьями – поранил лошадь французского подданного. На вопрос – «за что?» ответил: «Хочу отомстить за Польшу». На обратном пути через Варшаву царь снова ехал в открытой коляске.
2 апреля 1879 года. Соловьёв, во время прогулки императора рано утром возле дворца; ничем не примечательный господин в штатском пальто и канцелярской фуражке. «Царская улица» пустынна. Стрелял пять раз. Александр бежал, петлял (кто-то острил – «как заяц»); а сам под пулями бегал; в него, безоружного, любимого мамой, – стреляли? Слава Богу, не ранен.
Ноябрь 1879 года. Во время возвращения из Ливадии. Взрыв на Курской железной дороге. Бомба сделана Кибальчичем, готовили взрыв Желябов, Перовская и Михайлов. Охрана уже более грамотна. Пустили два поезда – царский и свитский. Никто не знал, какой из них пойдёт первым. Пострадавших не было.
5 февраля 1880 года. Взрыв в Зимнем дворце – полировщик царской мебели Халтурин, дружок Желябова. Взрыв раздался в малой столовой. Убито одиннадцать солдат – наповал. Александра и на этот раз Господь уберёг – не было его в столовой. От взрыва вылетели стёкла, погас газ.
Взрывали упорно, как горную породу.
1 марта 1881 года. В этот день у императора было хорошее настроение. Возвращался с развода лейб-гвардии сапёрного батальона. С Инженерной улицы кортеж свернул на Екатерининскую набережную. Перовская махнула белым платком – не зря боялся стриженых девушек в синих платьях (светские же дамы, отдавая дань моде, одевались также «под нигилисток») – начали: бомба разорвалась под ногами лошадей царского экипажа. Александр остался невредим.

Знал бы Василий Андреевич Жуковский, что его воспитанника будут в течение пятнадцати лет убивать, упражняясь в меткости, вряд ли ввёл в курс обучения урок ненависти.
Кто будет воспитывать будущего правителя России? Колебания, предложения, предположения. Выбран – поэт.
Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и лёгкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!
Когда сообщили о царском решении, Жуковский разволновался до слёз. «Не отвечаю за свои способности, – писал он государю, – но отвечаю за любовь к моему делу. Его Высочеству нужно быть не учёным, а просвещённым... Образование и почитание необходимы для правителя, ибо они дают способы властвовать благотворно...»
Составил план. На первом месте – цель учения. Питомец должен знать, что он есть, что его окружает, для чего он предназначен и чем должен быть со своей бессмертной душой. Компас для этих знаний – вера. Это – основное. Человек состоялся как человек, он больше не безответственный шалун в собственной жизни; на веру, как на фундамент, можно настраивать любые знания, всё пойдёт на благо. Прежде – надо развить сердце, потом – ум. Так же необходимо снабдить питомца орудиями для приобретения сведений – обучить языкам и обозначить ему карту – обзор всевозможных наук, помогающих освоить и изучить мир. Всё – в отроческом возрасте, до тринадцати лет, дальше – свободное плавание. Компас и карта и вёсла в руках; ум приготовлен, любопытство возбуждено – так в путь! Теперь следовало разделить науки: первые, связанные с человеком (история, география, философия); вторые, открывающие предметный мир, – физика, математика, технология и т. д. С семнадцати до двадцати – составление правил жизни, которые питомец готовил бы сам, опираясь на полученные знания и совесть. В этом периоде необходимо, чтобы будущий монарх уже задумывался над тем местом, которое Господь уготовил ему в обществе, и над обязанностями, с ним соединёнными.
Предметы обучения так были отобраны Жуковским, чтобы ученик, изучая их, постоянно отвечал на пять вопросов:
1. Кто я? (Логика, учение Спасителя, геометрия, русская грамматика).
2. Где я и что меня окружает? (География, зоология).
3. Что я? (Психология, естественное право, история, статистика).
4. Что я должен быть? (Мораль и политика).
5. К чему я предназначен? (Метафизика как учение о человеке – существе духовном и бессмертном и Богопознание).
Форма преподавания – самая свободная: разговорная речь, обсуждения, побуждающие к самостоятельности. Очень важны языки (французский, немецкий, английский, польский (!) – для освоения мировой культуры, возможности наслаждаться поэтическими первоисточниками, чувствовать язык и стиль, а значит, и характер народа. И само собой – рисование, музыка, гимнастика и даже игрушечное кораблестроение, ручная работа – токарное и столярное ремесла. Сейчас это называлось бы «воспитание гармоничной личности», и правильно: гармоничный царь – гармоничное государство.
«Надобно читать мало, – советовал Жуковский, – и одно полезное; нет ничего вреднее привычки читать всё, что ни попадёт в руки. Это приводит в беспорядок идеи и портит вкус, да и отнимает много времени...» И добавлял, что для детей только на немецком и французском написано много хорошего, а на русском – ничего почти нет, нужно многое переводить, а многое и самим писать по-русски.
Однажды на военном параде в Москве Жуковский увидел наследника верхом, пришёл в негодование и так писал императрице: «Эпизод этот, государыня, совершенно излишний в прекрасной поэме, над которой мы трудимся. Ради Бога, чтобы в будущем не было подобных сцен... не подвергается ли он опасности почитать себя уже человеком?» Русский поэт больше всего опасался, что в России вместо царя появится ещё один генерал, который привыкнет видеть в отечестве – казарму, в народе – полк. «Вы думаете, – продолжал Жуковский, – что я говорю лишнее, а событие – пустяк? Нет, не лишнее. Никакие правила не могут уравняться в силе с впечатлениями живой жизни».
Военное образование – нужно, но на него только одно время года – отдельно, не касаясь остального учения.
Ежемесячные экзамены проходили в присутствии императрицы, а полугодовые – более важные – при государе.

Отец в жизни ребёнка, особенно мальчика, гениально прозревал Жуковский, играет совсем особую роль «тайной совести», и потому он настаивал перед государем, чтобы тот не хвалил сына слишком часто, достаточно и просто ровного ласкового обхождения. И только в исключительных случаях – чтобы развить в ребёнке здоровое честолюбие, желание заслужить редкую похвалу. Не ругать по мелочам, чтобы «гнев отца» не разменивался, а был испытан ребёнком только однажды и этим уже удерживал бы от дурных поступков.
Даже подарки делались наследнику ограниченно, чтобы мальчик не имел много «бесполезного» и не тонул бы в побрякушках.
Учитель был настоящим другом своему питомцу. Был он уже стар, но разделял все его порывы, прислушивался к его мечтам и желаниям. В 1840 году в Дармштадте он предложил Александру притвориться больным, чтобы провести лишний день с очаровавшей его девушкой, но воспитанный им цесаревич отклонил эту шутливую ложь и отправил письмо императрице и императору с просьбой о браке. Вот так. Серьёзно и просто умел он уже решать свою судьбу. Тридцать пятый год. С портрета смотрит большеглазый задумчивый мальчик с чуть оттопыренными ушами и высоким лбом. Через два года этот мальчик вместе со своим учителем совершит поездку в Сибирь – не для развлечения, как турист, а как будущий хозяин. «Верь в Бога! – наставлял учитель ученика. – Он защитит твою душу от презрения к человечеству. А презрение к человечеству есть самое пагубное в правителе людей».
Митрополит Филарет пророчествовал: «Не я, но молодые мои прихожане доживут, пожалуй, до царя-единомышленника».
Список своих царских дел Александр II открыл амнистией в 1856 году – вернулись из Сибири декабристы. Новые веяния нового царствования заметны повсюду. Былые запрещения и ограничения скидываются в архив – для истории. Чернышевский в восторге от обилия либеральных мер и не скрывает этого; Герцен публично призывает молодого монарха дать свободу слова русским гражданам и, наконец, покончить с позором крепостничества, что почти в ответ на его слова и сбывается. Крестьянская реформа (19 февраля 1861 года) если потом – в экономическом смысле – и была дискредитирована, то в духовном, нравственном не могла утратить своего значения никогда. Люди перестали считаться и считать себя рабами.
И горит за тобой, тени рабства гоня,
Нежный луч восходящего дня, —
такие стихи посвящали монарху полные надежд подданные.
Появилась общественная жизнь в её европейском понимании: множество журналов различных направлений, возможность действовать, высказываться и быть выслушанными получили все. «Русская беседа», «День» говорят на языке «московских мечтателей» – славянофилов. «Отечественные записки» и «Современник» высказывают демократические суждения и дают слово и «нигилистам», вызревшим в лоне новой свободы, – многие возбуждали их ненависть, но лютую – сам реформатор. Свободу, дарованную им, они в конце концов истолковали как право его убить.
В 1864-м – подавление Польского восстания. Современники не ответили восторженными стихами. Им легко, современникам: «Ты, царь, думай да делай, а мы тебя судить будем». А нигилисты приготовили пули. Виновников покушений, конечно, наказывали, но как-то робко, со стыдом, без смака. А уж родственников, даже ближних, не привлекали; так, иногда, предложат сменить фамилию, чтобы сограждане не заклевали, и всё. Засулич стреляла в Трепова. Её вовсе оправдали – неслыханно! Царь отвечал соблюдением законности, как и положено в европейском государстве. Начали просветителями, кончили убийцами. И это – их путь. А путь реформатора – это путь законов.
Разобравшись с польскими делами, он принялся за другие, и каждое из них на целый шаг приближало Россию к общемировой цивилизации.
1 января 1864 года – устройство земских учреждений (а отсюда и те самые, составившие славу России, и земские врачи, и учителя, и духовенство, не наскоком просвещавшие народ с помощью скороспелых брошюрок, а связавшие с народом свою жизнь).
20 ноября 1864 года – введение судебных уставов (появление судов присяжных, позволивших массе людей устремить свою энергию на благо законов и справедливости в государстве).
16—18 июня 1870 года – новое городовое положение.
1 января 1874 года – отмена рекрутства и введение всеобщей воинской повинности, включая и граждан еврейской национальности.
19 февраля 1878 года – победа в русско-турецкой войне и заключение Сан-Стефанского договора, по которому Сербия делается самостоятельным королевством, Болгария – особым княжеством, Босния и Герцеговина – отданы под защиту Австрии. А в целом – конец многовекового османского ига над славянами.
1 марта 1881 года – подписан проект о выборных людях, который, по существу имел все основания, чтобы стать первой русской конституцией. Воистину – от дел своих осудишься, от дел своих оправдаешься!
У Зимнего дворца всегда дежурили просители. И когда император выходил в восемь утра на прогулку – выслушивал их и, если видел, что к нему городовые кого-то не пропускают, так гауптвахтой на месяц наказывал. Не было в нём презрения к «маленьким людям».

В последние месяцы пришлось закрыть свободный вход для публики в дворцовый сад. К стыду всей России, царь-освободитель, Великий реформатор, первый дворянин России, стал живой мишенью для одержимых преступников. С 76-го года они забросили всякую пропаганду и даже помощь своим каторжанам, у них не было другой цели, кроме одной – убить русского царя.
– Слава Богу, цел. Но вот... – и показал на раненного взрывом мальчика-прохожего, который кричал, катаясь по земле. Лицо у императора было виноватое. Ему предложили тут же отправиться во дворец, не возвращаясь к изуродованной карете, но он пожелал вернуться... Крики: «Давайте его нам, мы его разорвём!..» Ненависть и страх в глазах задержанного, бросившего в лицо: «Ещё слава ли Богу?»...
Вторым взрывом были убиты несколько человек, включая метавшего бомбу. Царь же сидел, вжавшись спиной в ограду, лицо его было бледно. Ноги оторвало ниже коленей. И навалилось: участливые лица запоздавших всего на минуту придворных и охраны... толпа зевак, стонущих от возбуждения и любопытства... Всё навалилось и завертелось в однообразном и рвущем тоской душу хороводе. Потом пришла боль. И усталость. И тогда-то большеглазый, ушастый, задумчивый мальчик, читавший Евангелие, думавший о Боге, счастье Отечества и строгавший игрушечные корабли, посиневшими, в запёкшейся крови губами тихо сказал: «Холодно», – «Что?» – жадно наклонились все. «Холодно, – повторил он, глядя в любопытные лица, и откинулся спиною на ограду. – Скорее домой, там – умереть».
Всю жизнь между Богом и людьми. Всю жизнь один. И смерть на мгновение показалась желанной.
В дороге он дважды спросил конвойного:
– Кулебякин, ты ранен?
Он всегда всё замечал. Потому что думал о людях, которые его окружают.
– Да что я? – ответил, рыдая, Кулебякин, может быть единственный, кто понимал, что произошло. – Вас, государь, жалко!
Накануне рождения конституции, которая на следующий день должна была бы быть опубликованной, он был убит. Странное совпадение. Однако почему в России столько странных совпадений? Целили в царя. Целили в Россию, целили в Бога. И не промахнулись. Первый раз Россию расстреляли не в семнадцатом, а в восемьдесят первом. «Погиб без славы, как орёл двуглавый», – говорит народ. Сколько злорадства и горечи в этой поговорке. Нет, он не погиб «без славы», он пал в бою.
Если бы Юлия Вревская не лежала уже три года в могиле, она бы пришла проститься с ним. Прошла бы с дежурным проводником в спальню и увидела бы, как «он покоился на низенькой железной кровати; под головой у него была подушка, на которой он постоянно спал: красного сафьяна, набитая сеном и покрытая белой наволочкой; ноги укутаны шинелью, как он любил. Образок на груди. Лоб и руки изранены. В ногах стояло духовенство в светлых ризах. Читали Евангелие». После ранения он прожил один час двадцать минут.
Один час двадцать минут – и не стало того, кто неоднократно давал деньги в долг отцу Вревской для спасения чести и кто приблизил ко двору овдовевшую восемнадцатилетнюю Юлию Петровну; дал титул и образование её приёмным детям, а ей возможность блистать в светском обществе, имея статус придворной дамы, а это уже род социальной защиты. На одном этом примере ничем не примечательной особы, какой, безусловно, и была Вревская в те годы, уже можно судить об императоре и его отношении к своим подданным. Да, у неё было много поводов быть благодарной и обиженной, но она бы искренне плакала и жалела его, так как любила царскую семью, и эта любовь не считалась с мелочными обидами. Уже в госпитале, во время войны, она никогда не поддерживала ёрнических разговоров о царе. Скорее всего, она была классической монархисткой с либеральным уклоном и, переписывая для Тургенева процессы нигилистов, жалела тех за слепоту по-христиански.
Александр II, может быть, лучшее из того, что дала Романовская династия. В Европе мало найдётся столиц, где не стоял бы ему памятник.
Никогда ещё Россия не знала такого созвездия гениев – от естественных наук до музыки, живописи и литературы, предпринимателей, издателей, меценатов с изысканным вкусом. Это время вершинных достижений во всём и у всех. Славянофилы и западники, монахи и праведники. Земские учителя и врачи, полководцы и земледельцы. Целая новая генерация людей – аристократов не по крови, а по духу. А доставалось ему от новой генерации – уж они его и склоняли, благо он дал им на это право: и освобождение крестьян – не то и не так, и остальные реформы – мало, и с русско-турецкой войной тянет – трус, врёт, что ему русская кровь дорога – зря Каракозов промахнулся, а ввязался – опять-таки кровопиец, солдафон, завоеватель. А нигилисты? Они что, хотели, чтобы он с ними на баррикады полез? И глаза у него сделались под конец как у зверя, которого травят (по наблюдению Толстого), молчал, стеснялся признаться, что страшно, – ведь первый дворянин России. Конечно, символ, но в отличие от символа – уязвим, его можно убить.
Выходило – по газетам и брошюркам, – что плохо делал царь своё дело, плохо правил страной. А профессионализм, как известно, важен везде и во всём. Настоящий крестьянин, портной, да и чиновник при любом режиме нужный человек. Вот Желябов и свора чувствовали в себе этот минус, тут же сами и причислили себя к профессионалам: профессиональные революционеры, хотя скорее плохие пиротехники и убийцы. Должность ли царствование? Может, в современном понимании, например, президент – да, должность, но царь – неисчерпаемо больше. Это фигура не политическая и профессиональная, не символическая и представительская – это фигура нравственная. Не случайно Толстой обратился к сыну убитого отца с просьбой помиловать убийц, а Владимир Соловьёв выступил с публичной лекцией перед студентами. Нравственный дух эпохи убитого царя дал им это право. К нигилистам они не обращались – не убивать: те публика невменяемая. Также эта эпоха дала право светской даме пойти и умереть на войне. Всегда было добро истинное и добро ложное (то есть зло во имя добра). И каждое имело свои примеры. Столкнулись они на фигуре царя. Его трагическая судьба есть вечное столкновение замысла Божьего с неразумными детьми.
Эпоха Александра II – эпоха, в которой началось отмирание привилегий сословных, эпоха, когда стал формироваться класс новых аристократов, имевших одну привилегию, вне сословных границ – привилегию духа. И конечно же эта эпоха духа не могла быть видна современникам изнутри, потому что они Вревскую с её кротким подвижничеством и проглядели. Современникам не дано верно оценить себя.