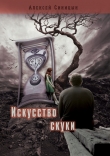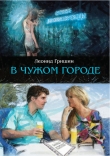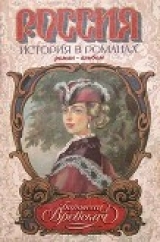
Текст книги "Баронесса Вревская: Роман-альбом"
Автор книги: Марина Кретова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
ВОКРУГ ДА ОКОЛО...
«1841 год. Из Одессы отправлен первый
русский пароход «Нахимов» с грузами хлеба
через Суэцкий канал, который прошёл
благополучно 23 февраля и обратно 11 апреля».
(Из записок коллежского асессора К. В. Пупарева)
Так уж вышло, что прожила баронесса на свете Вревской почти столько же, сколько и Варпаховской. О ней писали: «...дочь прославленного генерала...» Если генерал такой прославленный, достаточно взять одну из справочных книг (гербовник, дворянские рода, придворную или наградную) и всё узнать...
Сразу натыкаюсь на Варпаховского, капитана 2-го ранга (может, он потом стал генералом?) – очень симпатичного:
«Любил море так, что уехал было в деревню поправить свои дела, да бросил хозяйство и сбежал на службу. Не охотник был ни до общества, ни до женщин, ни до учения. На берег съедет на несколько часов и опять на бриг. Стоял со своим «Птоломеем» в Пирее. Воодушевляясь, любил говорить: «Лучше взорву бриг на воздух, чем увижу посрамление русского флага». Так он и сделал. Взорвался вместе с собой под Исакчи в 1853 году».
Очень коротко, но уважение вызывает. Инициалы А. Ф. (а она Петровна), значит, не тот. Просто дальний родственник? Из энциклопедий и справочников, включая военные и дореволюционные, только у Брокгауза и Ефрона: «Варпаховские – русский дворянский род, ведущий начало от поручика Станислава Варпаховского (поляк?), вёрстанного за службу поместьем в 1679 году. Хотя Варпаховские и внесены в VI часть родовой книги Смоленской и Могилёвской губерний, но герольдия утвердила их в потомственном дворянстве по личным военным заслугам Антона Осиповича Варпаховского в 1791 году». Значит, целый век с их дворянством не очень-то считались, и никаких особых заслуг перед отечеством, богатства или славы у этой семьи не было. Ещё в газете «Голос» за 1868 год маленькая заметка о кончине генерал-майора Петра Петровича Варпаховского (здесь всё сходится – и имя, и звание), да в «Петербургском некрополе» перечислены усопшие этой фамилии: Варпаховский Иван Петрович—19 декабря 1875 года (гофмейстер Высочайшего двора, брат Юлии, умер в Париже – об этом у Тургенева в письме и в одной придворной книге); Варпаховская Каролина Ивановна —25 апреля 1864 года, рядом с Иваном Петровичем, в Сергиевой пустыни близ Петербурга (матушка Юлии Петровны? И поэтому рядом с сыном? Или просто родственница?); Варпаховский П. П. – 18 февраля 1868 года (здесь всё ясно – отец); Варпаховская Наталья Петровна, в замужестве тоже Вревская – 5 ноября 1889 года (это сестра Юлии, только странно – в замужестве Вревская, а умерла и похоронена как Варпаховская – разведена была??), похоронена в Александро-Невской лавре на Никольском кладбище. Вот, пожалуй, и все упоминания о Варпаховских в официальной печати, есть ещё в мемуарной литературе о некоем полковнике Варпаховском очень нелестные воспоминания. Может, этот полковник и есть в будущем тот самый генерал Пётр Петрович, хотя инициалов в тех мемуарах нет, но по возрасту и датам похоже, что он, да и про неизвестных людей полковых анекдотов не рассказывают.
Не знаешь даже, как и подобраться к уравнению со столькими неизвестными, вот и ходишь вокруг да около; ничего не знаем об отце, кроме того, что был начальником резервной дивизии в Ставрополе на Северном Кавказе да имел увечья и контузию (это тоже из мемуаров). Ничего не известно о матушке (в одной газете имя жены генерала П. П. Варпаховского – Софья Саввишна. Ошибка? Или второй брак? Так что, может, имела Юлия Петровна и мачеху), разве что родила шестерых детей (четыре сына и две дочери). Неизвестно, старшей или младшей была Юлия, даже о месте и годе её рождения имеются самые разные сведения.
В одной газетной заметке писалось: родилась в 1841 году на Кавказе, что выглядит вполне достоверным, а в статье Вылчо Куртева (тот самый болгарский профессор) по-другому: родилась в Старице, уездном городе Тверской губернии, год рождения тот же – 1841-й[2]2
Будущий муж Юлии Петровны, И. А. Вревский, в 1855 году пишет брату о скорой женитьбе: «Жюли будет 18 лет...» Тогда получается, что родилась она в 1837—1838 годах?
[Закрыть].
А ведь очень важно было бы знать – где именно? Ведь детство на Кавказе, в тыловом или военном городке, и детство в мирной среднерусской Старице – совсем два разных детства.
Конечно, хотелось бы знать, какими были дом, слуги; вот, правда, история словно по причуде сохранила имя экономки – мисс Босс. Были ли они богаты? Судя по всему – не очень, иначе не торопились бы выдать замуж блестяще образованную дочь за пожилого генерала незаконного происхождения.
Поскольку в реконструкции образа героини какая-то просто необозримая свобода, почему бы не представить усадьбу, такую среднестатистическую, не очень богатую, в меру запущенную, где-нибудь на окраине Старицы, с двором, обнесённым клёнами, с рябиновым садом и липовой аллеей? Аллею можно довести до поля, а в глубине представить пруд, заросший, но рыбный. Перед домом разбита клумба, а в гостиной стоит огромное трюмо; за вышиванием сидят девочки: Жюли и Натали, уютно и красиво. Даже если и не так.
Судьба жены боевого генерала скорее всего была судьбой обычной небогатой в девичестве и кроткой русской женщины. А матушка Юлии наверняка была такой, независимо от того, звали её Каролиной Ивановной, Софьей Саввишной или как-нибудь по-другому. Возможно, что едва исполнилось ей четырнадцать лет и она не рассталась ещё с куклами, присватался к ней не первой уж молодости офицер, Пётр Варпаховский. Дождались шестнадцати да и выдали. А может, женившись и навоевавшись, муж надел халат, закурил трубку, набитую крепостным, да так и не оставлял этого наряда и занятия во всю оставшуюся жизнь. В быту, вероятно, бывал невыносим со своими полковыми замашками. Жена терпела, многие тогда на Руси женщины терпели и тихо угасали, становясь жертвой многоплодия и раннего замужества. А детей у Варпаховских было шестеро; мучилась, рожала, а её даже и в отношении детей не упомянули: в генеалогии семьи в центре П. П., и лучиками от него в разные стороны – шесть отпрысков, среди которых и Юлия. И наверняка всех новорождённых принимала какая-нибудь одна акушерка Антонина Карловна; возила с собой объёмистый сундучок с медицинскими причиндалами и по секрету говорила детям, что в нём скрывается их будущий брат или сестра.

Так наверняка и шло детство Юлии Петровны с прогулками по липовым аллеям, вязанием букетов, редкими гостями, лаской матери и умеренной строгостью отца – свою долю родительской любви она наверняка получила.
Обычное дело для офицера в отставке сесть за мемуары и вспомнить, что было в молодости весёлого и грустного. И трое таких офицеров – Н. В. Веригин, А. А. Одинцов и Н. А. Макаров – записали один и тот же анекдот. Видимо, знаменитый в своё время в армии герой его – некто Варпаховский (инициалы не указаны). По возрасту, чину да и редкости фамилии не исключено, что этот эпизод имеет прямое отношение к доблестному отцу Юлии Петровны.
Было это в 1823 году, во время стояния русских полков в Варшаве, при императоре Александре Павловиче. Вышеназванные офицеры наперебой писали, что Варпаховский был нетерпим. Раздражало в нём всё: отсутствие манер, тупость, неумение выучить несколько слов по-французски, апломб, жестокость к солдатам и то, что он был настоящим «карточным вампиром»: обыгрывал свои жертвы, как под гипнозом, доводил до отчаянных шагов. Особенно раздражал он дворянина Н. Н. Пущина (будущего декабриста) и П. А. Габбе. Варпаховский догадывался, как относятся к нему в полку, и неоднократно жаловался цесаревичу Константину Павлович), что против него действует целая шайка с целью причинения ему, пострадавшему за царя и отечество, неприятностей. Действительно, поговаривали, что офицеры во главе с Пущиным составили письмо к цесаревичу, в котором просили перевести Варпаховского в любой другой полк, в противном случае грозились подать в отставку.
Макаров в своих «Семидесятилетних воспоминаниях» пишет, что Варпаховский «слыл хорошим товарищем в Литовском полку, пока служил в обер-офицерских чинах.
Когда же стал батальонным командиром, то совершенно изменился... и получил прозвище «шут гороховый».
Как-то Варпаховский порол солдата перед всем полком. Пущин увидел это, подскакал на лошади и, оставаясь верхом, закричал на своего полкового командира: «Ежели вы будете бить солдат моей роты, то я спущусь и сделаю с вами то же самое». Полковник прорычал в ответ, что будет бить того, кого считает нужным, а Пущина арестует.
Варпаховский пожаловался цесаревичу и потребовал через него удовлетворения своей задетой чести старшего по званию. Константин Павлович вызвал Пущина, любимца полка, к себе, усадил рядом. «Уладьте это дело, – ласково сказал он, – Думаете, я не знаю, какой дурак этот Варпаховский, но он будет жаловаться выше, пока не дойдёт до императора. Мне не хотелось бы неприятностей для вас. Уладьте быстрей это дело, и забудем об этом»[3]3
Видимо, Варпаховского не любили и при дворе. Однажды в разговоре с императором Н. Н. Муравьёв-Карский назвал его имя в числе претендентов на высокий военный пост, ссылаясь на его многочисленные ранения и славящие его увечья, уже ставшие легендой. Вежливо выслушав, император выдержал паузу и... заговорил о другом.
[Закрыть].
Пущин с приятелем отправились к полковнику, чтобы узнать, какое удовлетворение он желает получить. Варпаховский вышел к ним с бумагой:
– Подпишите это! Подпишите бумагу в том, что вы мне этих оскорбительных слов не говорили.
– Но я не могу этого подписать, – почти взмолился Пущин. – Я их говорил.
– Хорошо, – сказал Варпаховский, – тогда напишите, что эти слова ко мне не относятся.
– Нет, не могу, я буду посмешищем в глазах всего полка. Ведь все слышали, что я их говорил вам, – гневно ответил Пущин.
– Тогда можете идти, больше мне ничего не нужно.
Пущину ничего не оставалось, как снова отправиться к цесаревичу и рассказать о курьёзной неудаче с этим олухом. «Вы сами олух, раз не умели уладить это дело. Этот... (здесь, видимо, совсем крепкое выражение. – М. К.) пожалуется выше», – вмиг вспылил цесаревич и, вплотную подойдя к Пущину, возмущённо задышал ему в лицо.
Пущин неожиданно:
– Отойдите от меня, Ваше высочество!
Цесаревич:
– Что???
Пущин (твёрдо и уверенно, но словно в сомнамбулическом состоянии):
– Отойдите, не смейте стоять ко мне так близко.
(По версии Н. Макарова ещё хлёстче: «Ваше высочество, осторожно – вы плюётесь!»)
Цесаревич:
– Да как вы смеете со мной так говорить, я вас разжалую!
(По Макарову: «Как вы смеете это говорить! Я на своего лакея не плюну, не то что на офицера»).
– Я и сам не желаю носить мундир одного с вами полка. (Срывает эполеты).
Цесаревич:
– Я вас арестую, я давно подозревал в вас вредные мысли.
(В ярости цесаревич изорвал свою шляпу и стоял весь в перьях и вате).
Так Пущин был арестован из-за ссоры с Варпаховским. В результате Варпаховский был переведён командиром в один из армейских полков, но цесаревич с Литовским полком рассорился.
Когда он собрал приближённых и спросил, что, по их мнению, следует делать с зарвавшимся Пущиным, самый преданный из собравшихся тут же заключил: расстрелять в двадцать четыре часа. Без суда.
Но суд был, и Пущин был разжалован в рядовые. Через год благодаря личному обаянию и храбрости прощён.
Каким в старости был генерал-майор Варпаховский, неизвестно. Может, так и остался свирепым солдафоном, сёкшим крепостных, а может, это был оттаявший, добродушный человек, сам временами удивлявшийся своему прошлому: картам, ссорам... И можно допустить, что матушка Юлии воспитывала дочь в уважении к заслугам и увечьям отца, и тогда становится понятно, почему молодая девушка легко вышла замуж за пожилого человека, сродни отцу. Ипполит Александрович Вревский вполне мог оказаться его приятелем но Кавказу[4]4
Да вот и у Н. П. Вревской (1876—1961) в «Последней рукописи» сказано, что Юлия Петровна познакомилась с И. А. Вревским в Ставрополе, на Кавказе, где жила с родителями после окончания Смольного института. И в Старицком уезде Вревские владели имением Малинники. Так что в любом случае могли быть соседями.
[Закрыть].
СМОЛЬНЫЙ
– Где ты воспитывался?
– В Гёттингенском университете, Ваше высочество.
– Отчего же не в России?
– В России трудно получить хорошее образование.
– Ах ты, дерзкий мальчишка. В России воспитывался твой
император, воспитывался я. Что же, я дурак, что ли?
– Не могу знать, Ваше высочество.
(Из разговора Великого князя с побочным сыномграфа Аракчеева Пукаловым)
Наверное, не обошлось без слёз. Матушка уж точно плакала, да и ветераны народ на слезу лёгкий – сердце к старости размягчается, а тут ещё родная дочь. А сама Юлия, ещё вчера Юленька, Жюли – беготня по комнатам с сестрой, клумбы, вышивки, любопытство из-за матушкиной спины к гостям – отныне воспитанница Варпаховская, «смолянка» – что-то строгое, чужое, с отзвуком одиночества, тоски.
В слезах ли всё-таки уезжала или с радостью? Вдруг с радостью? Вряд ли! Маленькая девятилетняя девочка, одна, в казённый мир. Страх, дальняя дорога, каково ей было?
И как могло провинциальным родителям прийти в голову послать любимое беспомощное дитя за сотни вёрст? Такова сила идей на Руси, и одинакова эта сила и в чопорной столице, и в добродушной провинции. Попал в её жернова – ребёнок ли, взрослый, вертись, пока в пыль не перемелешься.
...Идея была замечательная: создать на Руси институт русских матерей. Смольный – детище Екатерины Великой. Царица была женщина образованная, дружила с энциклопедистами и любила говорить, что «корень всему добру и злу – воспитание». Основано в 1764 году общество для воспитания благородных девиц, которые в отличие от своих отцов и матерей, больше полагавшихся на нанятых учителей, могли бы сами отвечать на любые вопросы своих детей и имели тот нравственный и интеллектуальный статус, чтобы растить и образовывать своих детей, не рассчитывая, повезёт или нет с учителями.
Начиная с Екатерины II Смольный был заботой всех русских цариц, и каждая вносила посильные новшества и усовершенствования. Много сделала для Смольного Мария Александровна. Главное её достижение – она назначила нового инспектора, К. Д. Ушинского.
Педагогический гений Константина Дмитриевича озарил Смольный такой яркой вспышкой, что вся жизнь монастыря делится на период до Ушинского, период при Ушинском и период после, во время которого, по свидетельству образованных современников, «Смольный погрузился во тьму». Не в буквальном конечно же смысле, но таково свойство яркой личности. Блеснёт, как комета, – и вот уж кажется, что остаётся тьма.
Итак, до Ушинского: преподавали Закон Божий, русский и иностранный языки (французский, немецкий, итальянский), рисование, танцы, музыку и пение (церковное и итальянское), рукоделие, арифметику. Последнюю учили постольку, поскольку она была необходима в домашней экономии: в пределах четырёх правил. Дальше с годами прибавляли историю, географию, домашнее хозяйство.
Круг предметов со временем всё расширялся, и тринадцатилетние «смолянки» уже постигали архитектуру, геральдику и опытную физику (с улыбкой представляешь, как все эти нарядные, нежные существа сообща взрывали какую-нибудь жидкость в пробирке), занимались скульптурой, и что совсем трогательно – токарным ремеслом.
Смекалки требовала домашняя экономия на практике. Стряпать их не учили – всё же благородные девицы, но суметь не растранжирить, а разумно потратить деньги на съестные продукты, разбираться в счетах, чтобы не надул управляющий, и иметь всегда порядок и чистоту на кухне – всё это совершенно необходимо для будущей хозяйки большого дома.
Но ещё важней иметь терпение, кротость, твёрдую веру и любовь... к детям. В этом суть, венец смольного образования. И поэтому в пятнадцать лет девочки сами становились как бы мамами, воспитательницами и учителями. Ко всем предыдущим предметам прибавлялось ежедневное преподавание в младших классах. И выходили юные княжны и графини из стен монастыря не со страхом перед будущей жизнью, а только с лёгким нетерпением перед своей судьбой, со всем необходимым внутренним багажом, чтобы достойно, серьёзно и спокойно принять её. А судьбу женщины в прошлом веке (да, может, и во все века) определяло замужество. Удачное – счастливая судьба, нет – вся жизнь загублена.
На двадцать четыре учительницы, включая монахинь, – семь учителей. Танцмейстеры, рисовальщики и музыканты – только мужчины.
Иностранок-преподавательниц брали неохотно. Считалось, что они работали в основном для денег, а тут как-никак генерация новых матерей рождалась, вот и отказывали от места.
Учительницы из образованных монахинь и знатных дам всегда находились с девочками, чтобы те не перенимали дурной вкус и манеры от служанок. Журили их за провинности только наедине, чтобы не озлоблять сердце, а прочих не приучать к насмешкам и злословию.
Достаточно назвать Совет учителей, чтобы ясно представить, кто взял на себя дело образования: княгиня А. С. Долгорукова, граф Панин, князь Трубецкой – они же жертвовали и деньги.
В 1765 году открылось Мещанское училище, переименованное в 1842 году в Александровское, в память бракосочетания Великого князя Александра Николаевича и Марии Александровны. Почти точная копия Смольного по уровню и объёму знаний, с той только разницей, что девицы сюда принимались из купеческих и мещанских семей да вступительный взнос был 200 рублей против 350. Отсюда, как правило, выходили в услужение в богатые дома.
И в училище, и в институте девочки вставали весной в шесть утра, осенью и зимой в полседьмого. Полтора часа до начала занятий они имели на одевание, молитву, прогулку и мысли о том, как будет прожит наступающий день. Есть что-то удивительно правильное в этом неспешном, осмысленном приготовлении к новому дню.
С 8 до 8.30 – чай или молоко с булкой.
С 8.30. до 10.00 и с 10.00 до 11.30 – два урока с 15-минутным перерывом.
С 11.30 до 13.00 – завтрак и снова прогулка.
С 13 до 16.00 – два урока с перерывом на 15 минут.
С 16 до 18.30 – обед и отдохновение.
С 18.30 до 20.30 – приготовление к урокам и танцы.
В 20.30 – чай, а с 1 октября до 1 апреля вместо чая – лёгкий ужин из одного блюда.
Классы, где проходили занятия, назывались по цвету стен: радует слух, к примеру, кофейный класс, не хуже, правда, звучит – голубой класс или белый.
Заведены были три отделения: слабых, посредственно успевающих и наиболее успевающих. Может, и неправильно сразу указывать ребёнку его место (ты, мол, слабый, и всё тут), но зато меньше обид, зависти внутри класса.
На занятия отпускалось 25,5 часа в неделю и на учебную часть 25 тысяч рублей серебром в год.
Во времена Константина Дмитриевича Ушинского многое в Смольном изменилось[5]5
Ю. П. Варпаховская тогда не училась...
[Закрыть].
Вместо девятилетнего курса – семь лет, а вот арифметика поважнее, чем только для счетов наука, – логику и рассудок развивает, а в счетах и прачка разберётся. «Странные рассуждения для женского института», – перешёптывались классные дамы, но Мария Александровна была в восторге от смелости нового инспектора и просила ему не перечить.
На уроках литературы теперь стали прежде читать произведение, а уж потом рассуждать о нём, желательно, кто во что горазд, для чего и преподаватели подбирались с самыми разными взглядами.
Сочинения до определённого возраста (пока у ребёнка не разовьются собственные мысли) Ушинский вообще считал ненужными и даже вредными. Ну что толку повторять только слова преподавателя да списывать у товарищей... И Константин Дмитриевич, ко всеобщему изумлению, сочинения отменил, а вместо них ввёл переводы книг с иностранных языков на русский. «Но, позвольте, а переводы-то тут при чём?» – спрашивали его. «При том, что много надо ума и воображения потратить, чтобы приискать подходящее выражение». Консервативная часть педагогов недовольно пожимала плечами, но не перечила. На то и Мария Александровна со своим покровительством.
В биологии Ушинский предлагал начать с изучения человека, чтобы сразу заложить главное – сознание ответственности именно этого существа за всё живое: животных, растений и даже мир неорганический. Такой порядок был заведён в лучших немецких учебниках.
Считал необходимым краткий курс гигиены, необходимый для будущей матери и хозяйки дома. Смело шёл вразрез со старыми институтскими правилами: приказал отпускать девочек на каникулы домой – не отрываться совсем от той жизни, какой они заживут после Смольного.
Да, с приходом К. Д. Ушинского многое изменилось, но по-прежнему не допускалась на выпускные экзамены публика – не тревожить застенчивых девиц; по-прежнему только самые лучшие и знатные из воспитанниц сразу приглашались ко двору (Юлии Варпаховской не было в их числе); по-прежнему перед выпускным балом получали медали и подарки: серебряные игольники, золотые серьги, чернильницы и табакерки, оправленные в золото. Что нужнее молодой выпускнице, решал Совет учителей: просто ли подарок на память или деньги на жизнь. Беднейшим девицам выдавалось пособие.
Среди «смолянок», а их к 1864 году было более 3 тысяч, попадались и писательницы, и учёные, и музыканты, и сёстры милосердия.
А потом появился донос. Ушинский обвинялся в безверии и политической неблагонадёжности. Царица не поверила – чушь, сама жизнь и деятельность Ушинского отметали всякие подозрения, но вот тут – внимание – колорит века: «...сам факт доноса произвёл на него впечатление потрясающее. Он тут же подал в отставку, не смог больше работать...» А в семидесятом году скончался на 46-м году жизни!
«Я желал бы от всей души, – говорил перед выпускницами Константин Дмитриевич, – чтобы на моей родине развивалась в русской женщине наклонность и умение самой заниматься первоначальным воспитанием и обучением своих детей. Я желал бы, чтобы русская женщина, испытав глубокое наслаждение самой учить и развивать своего ребёнка, не уступала этого наслаждения никому без крайней необходимости».
С того момента, как генерал Варпаховский подал прошение в царскую канцелярию об участи дочки, жизнь Юлии Петровны круто повернулась.
Но можно поставить вопрос и по-другому: какой след в душе маленькой девочки может оставить дальняя дорога к чужим людям, отрыв от матери и привычного детского мира, отсутствие ласки и вживание в чужую, чуждую коллективную среду? Всякое закрытое заведение несёт серьёзное испытание, а иногда и надлом для личности. И не эти ли кофейные, голубые и белые стены целый год, одни они, приучили её быть замкнутой, сдержанной на всю оставшуюся жизнь?
Но, как бы там ни было, образование Юлия Петровна получила блестящее, вот только своих детей у неё не было.
Она и стала сестрой русским солдатам.