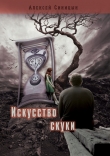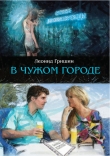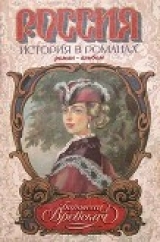
Текст книги "Баронесса Вревская: Роман-альбом"
Автор книги: Марина Кретова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
ДВЕ МОГИЛЫ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ
(Последняя тайна Юлии Петровны)
«...Глубокоуважаемый Пахом Фёдорович, пользуясь этим письмом, я с большим прискорбием должен сообщить Вам краткие подробности о гибели Вашего двоюродного брата Александра Раменского, участвовавшего в Балканской кампании...» (из письма А. А. Пушкина от 3 марта 1879 года).
Довольно древний и загадочный род – Раменские. Потомственные просветители и учителя, с XV века известные на Руси, Украине, в Болгарии. Образованнейшие люди (первый Раменский – Андриан – обучался в Греции и Риме) и в то же время тайные бунтари против строя и власти, хранители всего запрещённого, от манифеста Пугачёва до листовок РСДРП и оружия.
Древние летописи подтверждают, что первый из династии Раменских Андриан родился в Болгарии. «И зажегъ Андриан сын Раменский из Болгаръ светильникъ грамоты для народныя пользы въ Велицемъ граде Москве въ школярне своей, что у Никольскихъ воротъ.
А было сие въ день седьмый сентября лета 1479...»
Этот старик с длинной бородой и горящим взором был приглашён в Москву для исправления и переписки церковных книг, чем и занимался в Андрониковском монастыре, а также служил толмачом и реставратором. Два его сына Андриан и Фома – первые жертвы своей страстной натуры. Отправившись в Новгород по самому мирному делу – восстанавливать и переписывать книги, – они примкнули к новгородскому восстанию во главе с Марфой Борецкой против Ивана III. Борецкой помогли сбежать из-под стражи, баржу с медными деньгами из Новгорода умышленно утопили, а библиотеку новгородского посадника, где должны были трудиться, тайно вывезли из Новгорода и зарыли. Московский князь Иван III приказал схватить братьев и четвертовать на Лобном месте как бунтарей и злоумышленников, что и было исполнено.
Потрясённый участью своих сыновей, Андриан не захотел долее служить России, вернулся в Болгарию, где прожил до ста восьми лет. В 1526 году похоронили его в Рильском монастыре[30]30
Да, все они физически очень здоровые люди, выживающие кто с одним лёгким, кто с разрубленной головой, кто с отбитой селезёнкой. Все они, за редким исключением, имели большое потомство (до 18 детей); в XX веке от Раменских образовалось уже 38 родственных фамилий.
[Закрыть].
Но в Москве остались младшие сыновья Андриана, династия Раменских пустила корни и начала разрастаться, как грибница.
Пафнутий Раменский был толмачом Ивана Грозного и римского посла Антония Пасевича во время их встречи в Старице. Как со временем расправились с ним, говорят Успенские летописи: «И объявлено было Старицкого Успенского монастыря книгописца Пафнутия Раменского, что подмётные грамоты от вора и холопа Ивана Болотникова писал, и хулу в оных на великого князя возводил, и взывал побивати бояр своих, и приказано оного изловить и как злодея казнить».
Зачем ему, учёному, книжному человеку, понадобилось участвовать в кровавом бунте Болотникова, беглого холопа, бездельника и отщепенца, сказать трудно, может, не разобрался или так привлекателен для него оказался бунт сам по себе?!
Герасим Раменский построил по плану Петра I деревню Царёво, на берегу Меты, чтобы держать опального царевича Алексея. Пётр подарил ему на память палку, с которой ходил по строительству каналов.
В начале XVIII века Раменские проникают на Украину. Каким образом? Можно уже догадаться. Михаила Раменского (учителя из Москвы) посылают в 1707 году на подавление восстания Булавина. Скорее всего, примкнул к восстанию. «...Записавшись в украинцы, ушёл в Сечь».
От него осталось неисчислимое потомство, зовущее себя на хохляцкий лад Роменьски. Один из его сыновей – Степан – был в числе последних «кошевых батек» в Запорожской Сечи.
В 1763 году Алексей Раменский, сын Данила Раменского, приехал в село Мологино Тверской губернии, Старицкого уезда (чувствуете, читатель, что за этим адресочком кроется? – соседство с Юлией Петровной), где организовал школу в имении А. М. Юрьева[31]31
Впоследствии эта школа стараниями Раменских была превращена в земскую. Это важно! Раменские были знакомы с последними идеями всех направлений и горячо поддерживали всё, что происходило. Такой парадокс. Состояли они и на царской службе, но всегда вели и тайную деятельность, якшаясь с бунтарями всех мастей.
[Закрыть]. Друг юности этого самого Алексея Александр Радищев (тоже сосед по Старицкому уезду) всегда оставлял в Мологине на хранение свои рукописи. Когда его сослали в Сибирь, Раменские занялись перепиской и распространением «Путешествия из Петербурга в Москву» и делали это так же старательно, как и их предок, составляя подмётные грамоты. Екатерина II приказала схватить переписчиков. Суд 1800 года приговорил Никифора Раменского к смертной казни. Павел I заменил казнь ссылкой в Сибирь, предварительно наказав Никифора кнутом, вырвав ноздри и поставив на лице отметки калёным железом. В 1802 году Александр I помиловал Раменского, назначил ему пенсию и выслал деньги на проезд из Сибири. Но тот не захотел жить в России с изуродованным лицом и уехал, при содействии Радищева, в Лейпциг.
После самоубийства Радищева установилась в семье Раменских традиция: в этот день собираться вместе, читать предсмертное письмо Радищева и посвящать молодых Раменских в учителя.
Архив Радищева долгое время хранился в Москве у Матвея Раменского. После смерти Матвея бумаги перешли к его сыну, учителю Поливановской гимназии Александру Матвеевичу Раменскому.
Алексей Алексеевич Раменский помогал Н. М. Карамзину собирать материалы по истории, в благодарность за что тот подарил ему Полное собрание своих сочинений, вышедшее в 1820 году, с дарственной надписью. А также завещал дарить Раменским все издания и переиздания «Истории...». Первые тома в 1833 году в Мологино привёз Пушкин.
У Александра Сергеевича были причины интересоваться этим семейством. В их архивах он надеялся найти бумаги, подтверждающие привоз в Россию арапа Ганнибала, также его интересовал воевода Гаврила Пушкин и история Пугачёвского бунта. Он собирался написать историю Петра I, и здесь тоже без Раменских было не обойтись. Попутно, совсем на то не рассчитывая, Пушкин услышал от Алексея Алексеевича предание о дочери мельника, обманутой одним из дедов Вульфов – близких знакомых Пушкина – и утопившейся в Берново (Старицкого уезда). Из этой истории родилась поэма «Русалка».
Этот же Алексей Алексеевич Раменский был домашним учителем декабристов братьев Муравьевых и Анны Керн.
Воспитание в лучших классических традициях пушкинской музы Раменские отлично сочетали с хранением не только запрещённых бумаг, но и оружия. На какой случай держали они этот склад? И время от времени перед обысками топили его в речке Истоме.
В 1861 году, не дожидаясь официального оглашения манифеста о крестьянах, Пахом Раменский зачёл его в храме крестьянам после службы, «...сие привело к беспорядку и самочинному захвату земель, Пахомий Раменский посажен по распоряжению старицкого управника в острог на два месяца».
Раменский как центр, к которому стягивались самые разные люди, от ничем не примечательных, до таких, как Радищев, Карамзин, Пушкин, Писемский, Фёдор Глинка. Даже Гоголь побывал здесь как-то с Пушкиным и читал отрывки из «Мёртвых душ». Дарил свои фотокарточки и Лев Николаевич Толстой.
В «Хронике», которую из поколения в поколение вели старейшие в семье Раменских, есть и такая запись: «...Сюда (в Мологино, – М. К.) не раз приезжала украинская писательница Марко Вовчок... имеются воспоминания о приезде с нею художника В. Д. Поленова... Е. М. Бакуниной (родной тётки декабристов Муравьевых, – М. К.) из Торжка и Ю. П. Вревской из Старицы».
О Пахоме Раменском известно, что это был человек недюжинной физической силы, заколовший 42 медведя и любивший говорить: «У меня было 18 детей и одни сапоги». Он увлекался рыбной ловлей, музыкой, поэзией и приёмом у себя гостей, вроде Софьи Перовской. Знаменитая нигилистка прожила в Мологине несколько месяцев и на память оставила карту Петербурга с планом покушения на Александра II. Карту любовно зашили в икону мологинской церкви, где она пролежала до тех пор, пока священник не узнал и не уговорил убрать. Перовскую Пахом торжественно называл «новым человеком будущей России». Старший его сын Алексей во время службы в Симбирске в 1873 году был домашним учителем в семье Ульяновых, у маленького Володи.
Постоянно сочувствуя «революционным идеям», Раменские создали в Мологине тайную типографию и печатали «Искру», листовки РСДРП, стали членами тверского комитета той же партии, а в 1919 году не остановились и перед казнью волостного старосты Золотова. Весёлая семейка. Правда, после революции они изумлённо притихли, уничтожили вещи, принадлежавшие царям и дворянству, и в 30-е годы только робко просили об улучшении бытовых и материальных условий. Даже странно, такая кротость в Раменских. Что-то они «просекли» в наступившем «светлом будущем», за которое так рьяно боролись.
А теперь главное.
После смерти Пушкина, отслужив в Мологине тайную панихиду по «болярину Александру», Раменские решили создать музей Пушкина в Старицком уезде. Идея эта претворялась в жизнь многие десятилетия. За помощью они обратились к сыну поэта Александру Александровичу, и спустя время, в конце семидесятых, получили от него ответ, где он, растроганный до слёз любовью Раменских к отцу, обещает им кое-какие его личные вещи (крестильную рубашку и перочистку) и, в частности, пишет:
«...Глубокоуважаемый Пахом Фёдорович, пользуясь этим письмом, я с большим прискорбием должен сообщить Вам краткие подробности о гибели Вашего двоюродного брата Александра Раменского, участвовавшего в Балканской кампании. Я имел честь командовать 13-м Нарвским гусарским полком, которому были приданы болгарские дружины и русские волонтёры, в числе которых был и Ваш брат. Я пишу об этом потому, что вряд ли Вы успели узнать об этом трагическом событии, тем более что мы понесли большие потери. Ваш брат погиб как герой при штурме селения Арметли, где и похоронен в братской могиле у самого селения (это 70 – 80 км южнее Бялу, где похоронена Вревская – М. К.). Незадолго до этого за храбрость и отвагу был высочайше награждён. Смерть его настигла 20 ноября 1878 года (это явная опечатка, так как в марте 1878 года война уже кончилась. Так что – 20 ноября 1877 г. – М. К.), на его могилу приезжала наша героиня, организовавшая отряды сестёр милосердия в болгарской армии, Юлия Вревская, друг Вашего Александра и Ваша землячка, которую я знал по Петербургу, и был приятно удивлён, что Ваш брат Александр и Юлия Вревская находились в гражданском браке. Вскоре и эта героическая женщина погибла на полях Болгарии. Примите от меня и нашей семьи искреннее соболезнование.
Пожелаю Вам успехов в Вашем благороднейшем начинании.
С глубоким уважением
Александр Пушкин».
Ещё в «Хронике» Раменских сказано, что Александр Раменский погиб на глазах Юлии Петровны, что она прислала в Мологино его памятные вещи, орден и горсть земли с могилы; что на могилу возложила венок из белых роз (это в декабре-то месяце?). Этот факт, как и то, что погиб Раменский на её глазах, представляется красивой неточностью. Вревская после Ясс всё время находилась в Бялу, выезжала только в Обретеник (12 км от Бялу), где в то время не было боев и где она провела 6 – 7 дней после того, как санитарный отряд уже выехал оттуда (виделась с Александром Раменским?). Потом вернулась в Бялу, написала сестре, а вот затем теряются пять дней (возможная поездка на его могилу, хотя она ничего никому не говорила), а следом уже известное: «...около 4 января почувствовала себя плохо...» Съездила в Арметли и слегла, а вскоре умерла.
В «Хронике» имя Александра Раменского в революционных «подвигах» не фигурирует. Сказано только, что был он учителем Поливановской гимназии в Москве (60 – 70-е годы), что в 50-х сотрудничал с журналом «Русский архив», писал статьи об образовании, был поклонником идей Ушинского, хранил, правда, в своём доме рукописи Радищева, ну так это ему честь делает, хотя двоюродный брат его Пахом вывез вскоре радищевский архив в Мологино. Почему?
В русско-турецкую войну ушёл добровольцем на фронт, так как имел и болгарские корни, сочувствовал земле предков, хотя и был москвичом; ушёл скорее всего переводчиком (знал болгарский и другие языки) – пал, вероятнее всего, не в бою, а подстрелил его в лесных местах из засады турок, а Александр Александрович написал «погиб геройски», ну, так на войне все погибали геройски, вот и о Вревской так же. Хотя они скорее геройски жили, а погибали обыкновенно (она – от инсульта, он – от случайной пули)[32]32
Энергия и общие черты рода Раменских говорят о её выборе. Где они встретились? На войне или раньше? Что это было: брак или дружба? Есть и другая публикация письма А. А. Пушкина, где слова о браке деликатно опущены. Чем ближе к нам, тем туманнее эта загадка.
[Закрыть].
Мне очень нравилось поначалу делать из Юлии Петровны безутешную вдову, которая, схоронив мужа (годившегося ей в отцы, да и прожила с ним всего ничего), осталась на всю жизнь одинокой и несчастной, может быть, даже искавшей смерти, но не бесцельной (как пасынок Николай), а не иначе, как «послуживши ближнему своему».
Но так не было. Была опала, развод сестры, неблагополучие в семье, безденежье, любовь к царской семье и императрице – Красный Крест, был тайный брак с человеком не дворянского сословия, который она мучительно скрывала[33]33
То, что брак был тайным, точно даже потому, что ей разрешили пойти на войну – такое разрешение в прошлом веке давалось только вдовам и незамужним.
[Закрыть], настойчивые ухаживания Тургенева, его обиды и ирония, много всего – всякого неблагополучия внутреннего и внешнего. И началась война, и забрезжила надежда на выход. Какой? Может быть, снова милость у царицы. А может, надеялась на милость к Раменскому (титул, слава, можно будет объявить о браке). Или смерть – тоже выход? Да мало ли что там было. Сама Юлия Петровна очень оберегала эту тайну ото всех. Не стоит и мне быть чересчур назойливой из уважения к умершей более ста лет назад.
Во всяком случае, я благодарна Юлии Петровне за этот урок жизни, а то я тоже хотела бодро подверстать её судьбу к идее, пусть даже и такой привлекательной, как служение Отечеству.
ПАМЯТИ Ю. П. ВРЕВСКОЙ
На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращённого в походный военный госпиталь, в разорённой болгарской деревушке – с лишком две недели умирала она от тифа.
Она была в беспамятстве – и врач даже не взглянул на неё; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока ещё могла держаться на ногах, поочерёдно поднимались со своих заражённых логовищ, чтобы поднести к её запёкшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка.
Она была молода, красива; высший свет её знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы завидовали ей, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили её. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слёз.
Нежное, кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи... она не видала другого счастия... не видала – и не изведала. Всякое другое счастие прошло мимо. Но она с этим давно помирилась – и вся, пылая огнём неугасимой веры, отдалась на служение ближним. Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом её тайнике, никто не знал никогда, а теперь, конечно, не узнает. Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано. Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже её трупу – хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо.
Пусть же не оскорбится её милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на её могилу!
Сентябрь 1878 г.
Ив. Тургенев.
ПОД КРАСНЫМ КРЕСТОМ
(Посвящается памяти Ю. П. Вревской)
Семь дней, семь ночей я дрался на Балканах,
Без памяти поднят был с мёрзлой земли;
И долго, в шинели изорванной, в ранах,
Меня на скрипучей телеге везли;
Над нами кружились орлы – ветер стонам
Внимал, да в ту ночь, как по мокрым понтонам
Стучали копыта измученных кляч,
В плесканьях Дуная мне слышался плач.
И с этим Дунаем прощаясь навеки,
Я думал: едва ль меня родина ждёт!..
И вряд ли она будет в жалком калеке
Нуждаться, когда всех на битву пошлёт...
Теперь ли, когда и любовь мне изменит,
Жалеть, что могила постель мне заменит!..
И я уж не помню, как дальше везли
Меня по ухабам румынской земли...
В каком-то бараке очнулся я, снятый
С телеги, и – понял, что это – барак;
День ярко сквозил в щели кровли дощатой,
Но день безотраден был – хуже, чем мрак...
Прикрытый лишь тряпкой, пропитанной кровью,
В грязи весь, лежал я, прильнув к изголовью,
И, сам искалеченный, тупо глядел
На лица и члены истерзанных тел.
И пыльный барак наш весь день расставался:
Вносили одних, чтоб других выносить;
С носилками бледных гостей там встречался
Завёрнутый труп, что несли хоронить...
То слышалось ржанье обозных лошадок,
То стоны, то жалобы на распорядок...
То резкая брань, то смешные слова,
И врач наш острил, засучив рукава...
А вот подошла и сестра милосердья!
Волнистой косы её свесилась прядь.
Я дрогнул, – К чему молодое усердье?
«Без крика и плача могу я страдать...
Оставь ты меня умереть, ради Бога!»
Она ж поглядела так кротко и строго,
Что дал я ей волю и раны промыть, —
И раны промыть, и бинты наложить.
И вот над собой слышу голос я нежный:
«Подайте рубашку!» – и слышу ответ, —
Ответ нерешительный, но безнадёжный:
«Все вышли, и тряпки нестираной нет!»
И мыслю я: Боже! Какое терпенье!
Я дышащий труп, – я одно отвращенье
Внушаю; но – нет его в этих чертах
Прелестных, и нет его в этих глазах...
* * *
Но нет! Не забыть мне сестрицы святой!
Рубашку её сохраню я до гроба...
И пусть наших недругов тешится злоба!
Я верю, что зло отзовётся добром:
Любовь мне сказалась под Красным Крестом.
1878 марта 6.Яков Полонский
ПРЕКРАСНОЕ МГНОВЕНИЕ ВЕКА
(Постскриптум )
Создавая вымышленного героя, писатель
как бы добавляет новую личность к числу
граждан своей страны, а воссоздавая
историческую личность, стремится сделать
из неё соучастника своей эпохи.
Ян Парандовский
Вот и всё, Юлия Петровна, что удалось узнать о Вас. Биография довольно приблизительная.
Ваше имя (один его звук рождает печаль и приязнь), летящий почерк на прозрачных от ветхости листах, Ваше задумчивое и нежное лицо на фотоснимке – черты почти стёрты ретушью и временем, – вот те золотые точки координат, что освещали мой путь во тьме неизвестности. И ещё Ваш подвиг. Прекрасная судьба, сделавшая Вас легендой.
И уже не так важно, почему Вы пошли на эту войну. Это был Ваш выбор, и Вы сделали его осмысленно, рассчитывая на свои силы. И даже если неудачи толкнули отчасти Вас на этот шаг, то и в этом случае Ваш образ не разрушается: от отчаяния можно схватиться за нож, подлостью или храбростью устроить свою судьбу. Но Вы пошли ухаживать за ранеными, сумасшедшими, заразными. Молодая женщина в безукоризненном костюме среди оторванных рук, ног, гноя и крови, склонившаяся над умирающим – сестра. Утоление боли стало Вашей специальностью. Больше – Вашей судьбой. Вы были мужественны и нежны, Юлия Петровна, – редчайшее сочетание.
Цель жизни – не богатство и даже не сытость, а возможность взмыть над обстоятельствами (как бы невыносимы они ни были) силой духа. Так что, может быть, Вы, сделав этот шаг, воспарили и почувствовали себя счастливой. Ведь писали же с войны, что счастливы в бараке, в сапогах, среди стонов и тифа. Так что Ваш выбор – это не только жертва, принесённая на алтарь человеколюбия (хотя и жертва, конечно, в результате была принесена), но и точка отсчёта, мера и итог Вашей жизни. Так тёплые лучи солнца, попав в фокус увеличительного стекла, становятся огнём.
Легенда воздействует на жизнь, на Историю. Тысячи девочек-медсестёр на фронтах японской и первой мировой войны – эту белоснежную стаю выпустили в мир и Вы, Юлия Петровна. Мать Тереза – самый популярный в мире человек. Это тоже и от Вас. Прекрасная тайна этого предназначения.
«Язык дан нам, чтобы скрывать мысли» – так что получается, что, ничего не рассказав нам о себе, Вы открылись нам больше, нежели запутав нас словами.
Эта книга создавалась не на присутствии, а на отсутствии материала; так что передо мной стояла почти невыполнимая задача: по нескольким письмам и изображению, как по осколку античной скульптуры, предположить и показать гармонию всего остального. Воссоздать заново. Я шла на ощупь, помня, что закон гармонии един для всего мира.

Мне не удалось разгадать Вас, Юлия Петровна, и это не странно. Если бы это произошло, Вы стали бы литературной героиней литературного (плохого? хорошего?) произведения, а так Вы остались живым неповторимым человеком со своей великой (ведомой только Творцу) тайной, который дыханием своей далёкой жизни согревает эти страницы. И, возможно, это – только это – удача моего труда.
Девять десятых – то, что кроется за строчками любой книги, где речь идёт не о придуманном, а о реальном человеке. Девять десятых – большая часть огромного айсберга, тонущая в чёрной воде времён. Девять десятых – это работа читателя, чтобы почувствовать и вместить в душу Ваш облик и судьбу.
В легенде мало бытовой правды? Ну и что. Нет ничего реальней красоты... И снова я вижу Вас утопающей красными каблучками в росистой траве, хоть и знаю уже, что на фронте вы носили грубые сапоги. Ветер полощет стройные складки коричневого платья. Белые вершины гор тонут в облаках. Восходит солнце.
...С залива дует сильный ветер; весенняя Нева полнится тяжёлой водой, а в ней отражается Петербург.
Пушкинский Дом закрыли на ремонт, город шумит митингами, может, и он, очнувшись от многолетнего сна, вспомнит о Вас... Снимет шапку Питер и склонит изувеченное и усталое чело в Вашу честь.
Февраль 1988 – апрель 1991
Санкт-Петербург – София – Москва