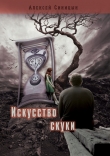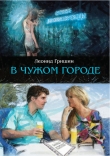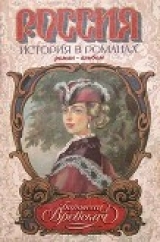
Текст книги "Баронесса Вревская: Роман-альбом"
Автор книги: Марина Кретова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
ПРИ ДВОРЕ...
«1853 г. Жена моя Любовь Дмитриевна Пупарева
поднесла чрез почту Ея Императорскому
Высочеству Великой княгине Марии Николаевне
собственной работы акварельный рисунок плодов
с натуры (апельсин целый и в разрезе, малина,
земляника и ежевика)».
«1854 г. В день тезоименитства императрицы
Великая княгиня Её Императорское Высочество
Мария Николаевна поблагодарила Любовь Дмитриевну
за присланные рисунки и подарила браслет и серьги».
(Из записей коллежского асессора К. В. Пупарева)
«...Я понимаю, как трудно получить согласие государя; я боюсь, что в наше время эта милость даруется чрезвычайно редко, но умоляю Вас и Н. И. Вольфа и других, знавших И. А. и имевших влияние, добиться этого. Я, конечно, смотрю на этих детей как на своих собственных, никогда их не оставлю своим попечением и постараюсь, насколько мне это будет возможно, сделать их людьми, достойными их отца...» – писала Вревская брату мужа Борису о присвоении фамилии отца детям Ипполита Александровича (незаконнорождённым от черкешенки Терской), носившим фамилию Терских.
В это время, в 1858 году, Юлия Петровна с семьёй – тремя приёмными детьми, старший из которых был ей почти ровесник, – жила в Тифлисе. Можно представить её отчаяние, растерянность перед будущим и ту нечаянную радость, когда государь откликнулся на просьбу. Она получила приглашение ко двору и глубокой осенью отправилась в Петербург.
Представим: Петергоф, низкие тяжёлые облака, на душе тоскливо; она без любопытства смотрела на дворец, на расчищенный от снега парк и закутанные фонтаны; экипаж остановился перед подъездом у дворца, и холодно-вежливая фрейлина провела в низкую комнату с тёмной мебелью и крошечными окнами; не решаясь сесть, Юлия Петровна подошла к зеркалу поправить причёску – и увидела позади себя императора. Это было так неожиданно, что она застыла, не в силах оборотиться. Он подошёл ближе и ласково заговорил с её отражением. И всё ушло: и серость дня, и неловкость, и тревога. Случилось то, отчего каждый вечер, стоя на молитве, она будет повторять: «Господи! Спаси Царя и услыши ны, в он же аще день призовём Тя».
Дети были приняты в привилегированные учебные заведения, получили фамилию отца и наследовали земли Баталпашинского округа, которыми был награждён их отец, а сама она стала почётной дамой в свите императрицы.
Девочка из незнатной дворянской семьи, прекрасно образованная, но не имевшая случая блеснуть, вдруг обрела возможность общаться со светскими людьми, не только придворными, но и лучшими людьми искусства, военными, учёными; и в свою очередь была ими замечена. Вот что писал известный литератор граф Соллогуб.
«Ведя светский образ жизни, Юлия Петровна никогда не сказала ни о ком ничего дурного и у себя не позволяла никому злословить, а, напротив, всегда в каждом старалась выдвинуть его хорошие стороны.
Многие мужчины за ней ухаживали, много женщин ей завидовало, но молва никогда не дерзнула укорить её в чём-нибудь, и самые злонамеренные люди склоняли перед ней головы. Всю жизнь свою она жертвовала собой для родных, для чужих, для всех.
Юлия Петровна многим напоминала тип женщин александровского времени, этой высшей школы вкуса, – утончённостью, вежливостью и приветливостью. Бывало, слушая часто незатейливые, но всегда милые речи, я думал: как желательно в нашем свете побольше таких женщин и поменьше других».
Жизнь придворной дамы – не такое простое дело, именно дело, а не развлечение. Это жизнь на виду, когда всё время подчинено выполнению многочисленных обязанностей, от скучных до приятных, но всегда почётных – и только на взгляд пролетария всё это было пустой тратой денег, – а между тем это была одна из великих традиций, без которых нет государства.
Дармштадтская принцесса – предмет обожания молодого цесаревича, восхитившая грацией и умом В. А. Жуковского, – эта девочка вместе с Великими княжнами и свитой в сороковом году подъезжает к Петербургу. В ридикюлях у них меховые маски, чтоб не обморозить лицо, у охраны – наизготове ружья, чтоб отстреливаться от волков, а в сундуках русские платья, в которые они переоденутся, въехав в русскую столицу. Ей предстояло научиться любить щи и кашу, а поверх одеяла класть не плюмо (покрывало на пуху), а, по русскому обычаю, – шёлковый салоп.
Венчалась Мария Александровна в белом шёлковом сарафане, на голове сиял драгоценными камнями русский кокошник.
Зимними ночами любила кататься в одном только домашнем платье. Гуляла до изнеможения, так что одежда делалась вся мокрая, а вернувшись, залпом выпивала большой стакан ледяной сельтерской воды и принимала холодный душ в шкафу. Была добра и это качество сохранила до конца своих дней. Именно при ней сотнями стали ехать на жительство в Россию немцы-соотечественники, и всех она старалась принять и помочь найти занятие. Вскоре просителей сделалось столько, что Мария Александровна, поначалу не умевшая отказать, пряталась от них, а потом, по воле императора, издала указ, что в России могут жить только те, кто имеет занятие, а прочим давала денег на обратную дорогу. О её характере говорит небольшой эпизод – она назначила пожизненную пенсию в 400 рублей камер-юнгфере, укравшей дорогое жемчужное ожерелье. Посочувствовала пылкой любви воровки к молодому проигравшемуся врачу, для которого та пыталась, продав жемчуг, достать деньги.
Мужа любила до самоотречения. Не отсюда ли это желание быть близкой, русской, своей? Если он с утра уезжал в Государственный совет и возвращался только вечером – обедать, она даже не завтракала без него и целый день ходила голодная.
После Екатерины II русские царицы не правили Россией, но занимались благотворительностью – Мария Александровна вместе с хирургом Пироговым создала в стране Общество Красного Креста, которое живо до сих пор, и попечительствовала образованию молодёжи. Была и ещё одна сторона деятельности, мало известная в русском обществе, – покровительство людям искусства. Любимым обществом Марии Александровны были (и защищённые ею от произвола цензуры) князь Вяземский, Фёдор Тютчев, граф А. Толстой. Поэты сложили ей вроде гимна:
Встречай же в солнце и лазури,
Царица, радостные дни
И нас, певцов, в годину бури
В своих молитвах помяни!
Согревала домашний очаг; как простая крестьянка, родила восьмерых детей; трудилась на ниве образования, медицины, милосердия; а могла и в ноги государю броситься и просить за кого-нибудь – сохранить чью-то жизнь. Такая бы и в Сибирь пошла. На серебряной свадьбе сказала: «Да, я имела много печали, но также много счастья и благополучия».
Маршруты царской семьи известны: Царское Село, Петергоф, Павловск, где так понравились во дворце часы с боем и куда императрица с императором ездили в английском экипаже – послушать музыку в павильоне в саду. И государь сам правил лошадьми. Ездили в Гатчину, в Александрию, летом – в Ливадию, в Крым, но самым любимым было Царское Село. Ещё был Монплезир – маленький дворец на берегу Финского залива... В саду пили чай, разливала какая-нибудь фрейлина (может быть, и Юлии Петровне выпадала удача быть хозяйкой за царским самоваром), а с моря неслись русские песни – это кадеты в шлюпках подплывали совсем близко; дамы вышивали, кто-нибудь читал вслух.
Каждый год путешествия за границу, за годы своей придворной жизни Вревская побывала вместе с императрицей во Франции, Италии, Сирии, на лучших курортах Европы, в Африке, в Палестине, Иерусалиме. Её альбомы тех лет пестрят автографами политиков, принцев, пашей, знаменитых певцов и поэтов. Путешествия сделались её страстью; она собиралась съездить в Индию, Испанию, Америку, о чём после не раз писала Тургеневу.
А зимой – Петербург с его чопорным этикетом, Зимний... Холодный блестящий паркет, по нему, цокая когтями, впереди императора бегут две собаки – рыжая и чёрная. Все, кто знал царскую семью, обязательно отмечали, как она проста в обращении – это признак высшего тона, Вревская сама была такой.
На Пасху императрица выходила в парадную залу в белом чепце, в кашемировом капоте с бриллиантовой брошью на груди и с корзиной, полной фарфоровых яиц. Государь позволял целовать себя в щёки, но, как правило, яиц не дарил, может, только изредка доставал из корзины красное мраморное и подавал бледной красивой рукой, в знак особого расположения.
Во время войны императрица отказалась шить новые платья, а все сбережения отдала вдовам, сиротам, раненым и больным. А через два года «сухо и долго кашляла. Зародыш её смертельной болезни разрастался. Её катали на кресле по комнатам, и несколько раз в день она вдыхала кислород посредством воздушных подушек для облегчения дыхания. В 1880 году, 22 мая, на пятьдесят шестом году жизни, скончалась. В суматохе не успели позвать детей. Она очень жалела об этом».
Приёмный сын Юлии Петровны барон Терский-Вревский окончил Пажеский корпус и служил в чине камер-юнкера. Женой его стала Наталья Варпаховская, сестра Юлии, красавица с античным профилем.
Ни Наталье, ни Николаю брак этот счастья не принёс. Черкесская кровь не мирилась с фривольными намёками на её прошлое, он ревновал жену, бил и без конца упрекал. Служить не хотел. Одно время увлекался исцелением страждущих в невской воде. Его вообще тянуло к воде. И, считая свою жизнь ненужной и конченой, он оборвал её, бросившись с городского моста.
Императрица по-своему истолковала неудачную семейную жизнь сестры своей приближённой дамы, усмотрев в ней подтверждение придворным слухам о том, что Наталья до брака испытала внимание Высокого лица. И поступила, как поступает всякая женщина: удалила Юлию Петровну от себя, но, видимо, потом чисто по-русски раскаялась в своём поступке – во время войны интересовалась её делами, выражала, как и император, заботу о её судьбе и здоровье.
«Ваше Императорское Высочество, – писала Ю. П. Вревская Великому князю Константину Николаевичу, – вот уже два месяца, как я в Петербурге, где я снова поселюсь, и до сих пор не имела счастья ни встретить Вас, ни увидать даже издали.
На первой неделе поста я была один раз в церкви, в Мраморном дворце, но на следующий день письмом от ген. Комаровской получила запрещение от Е. В. Великой княгини когда-либо приходить туда.
Не умею выразить, как мне было это больно, обидно, грустно; тем более что в этот день именно я горячо молилась о счастье всех, которые близки Вашему сердцу.
Простите... неуместность этих строк. Я ничего не прошу. Это от полноты душевной хотелось выразить Вам беспредельную и, к несчастью, ненужную преданность. Да пошлёт Милосердный Господь Вам здоровья и удачи во всём.
Вашего Императорского Высочества
верноподданная
баронесса Юлия Вревская
Литейная,
№ дома 27».
ЦАРСКАЯ ОХОТА
(Отступление от темы №1)
«Десятого декабря 1862 года Александр II
в 85 вёрстах от Москвы охотился на медведя,
которого и убил, и подарил обществу Владимирской
губернии, В память этого события Московское
общество охоты в 1866 году испросило Высшего
позволения носить членам общества значок
медведя на фуражке и пуговицах».
(Из записей коллежского асессора К. В. Пупарева)
Александр был прекрасным охотником, в отличие от батюшки своего Николая Павловича. Тот обыкновенно мазал, но на егеря – который под руку из азарта шептал: «Держите ниже и правее, правее» – цыкал: «Молчать». Егеря этого, Иванова, Александр Николаевич из уважения двадцать лет продержал на службе, когда тот уже меток не так был, а напоследок наградил золотой медалью с надписью «Благодарю» и своим портретом.
Охоты всегда устраивались летом и зимой. Весной в лес не проберёшься, топко. Приглашались русские генералы, иностранные послы, английские, германские наследники, гостившие при дворе. Не везло обыкновенно персидскому шаху – тот почему-то наезжал в самую распутицу. Неизвестно до сих пор, что больше восхищало иностранных гостей: меткость государя, охотничий азарт или блины с зернистой икрой и русской водкой – они подавались к завтраку прямо в лесу, в глуши, за длинным столом.

Выстрел государя, всегда смертельный, не причинял животным мучений; меток был так, что однажды егерь держал задние ноги оленя в овраге и совершенно не боялся, что пуля попадёт в него.
Охоты обыкновенно проводились между железных дорог – Варшавской и Балтийской, куда стекалась масса народа, хотя это и было запрещено. Хозяйки с сыроварен несли батюшке царю попробовать сыры, так сказать, представить свою продукцию – чем черт не шутит: приглянется царю сыр – всей жизни перемена, нет – память на всю жизнь, как царя сыром угощала; шли и с мёдом, и с холстами, и с прочим товаром.
Уверенно, с достоинством приходили отставные солдаты, изувеченные за отечество. Стояли в сторонке от конвоя, покуривали табак, ждали, когда подойдёт государь – подарит по рублю, а Георгиевским – по три заведено было. Все трезвые, подтянутые, руки (у кого есть) махоркой проедены; как-то затесался среди них один инвалид пьяный; приятели его за спины прятали, да государь всё равно углядел, а пьяных терпеть не мог. Вытянул его вперёд и спрашивает с неудовольствием: «Пьян?» Все притихли, сейчас рассердится батюшка, ничего не подаст. «Точно так!» – глядя на государя, гаркает во всё горло солдатик. «С какой же радости?» – ещё строже спрашивает царь. «С радости, что вижу Ваше Величество!» – отвечает тот и в ноги царю – бух! И получил такую же долю, как остальные.
В поисках царской милости хитрили. Мужику полагались хорошие деньги, если выследит, где медведь в берлогу залёг, и в егерскую контору об этом сообщит. Мужик деньги получит и бегом к берлоге вперёд егеря, выгонит медведя криками да стуком, медведь поворчит да на другое место уйдёт, а хитрец опять в контору, гонорар за него, как за нового, получит. Потом раскусили, деньги стали задним числом платить – после охоты, за убитого зверя.
И вот, бывало, крадётся государь за этим самым медведем, старается неслышно ступать, ружьё уж наготове держит, до назначенного места близко – целится, а тут из-за куста... растрёпанная голова в шапке. А чтобы царь со зверем не спутал и не выстрелил – пришпилен на шапке листок с просьбой. Так молча и стоят друг против друга: мужик по шею в снегу, потупив лукавые очи, и император, покорно разбирающий корявую надпись. Иногда, пока охотник до места доберётся, до пяти таких «говорящих» голов встретит. Но почему-то не сердился, хотя охотник был страстный. И просьб не забывал.
Так охотился царь. А как охотились на царя – речь впереди.
АМЕРИКАНСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК
(Отступление от темы №2)
«1872 г. Московский зоологический сад Нового
Русского общества обогатился всякими животными
из Египта, добытыми через нашего посланника
в Константинополе ген.-адм. Игнатьева».
(Из записей коллежского асессора К. В. Пупарева)
Он писал ей: «...Смешно сказать, но ничего не пробуждает во мне столько гордости и высокомерия, как любовь женщины, избранной мною из толпы».
Он упивался своей самостоятельностью, не зная, что это она выбрала его. Ещё в детстве мечтала любым путём пробиться к трону и узнать любовь коронованной особы. Это она выбрала его – статная белокурая красавица с шекспировской фамилией Лир, с весёлым именем Фанни, с туманной национальностью «американка». Кто она, из какой семьи, почему встала на этот путь – ничего не известно, кроме того, что выбрала возлюбленного и явилась за ним в Петербург, в громоздкой карете времён Екатерины, в 1871 году (Вревская уже в опале и удалена от двора). На границе с Россией её задержали за фальшивые документы, но всё уладил генерал Трепов, любезный, по её словам, начальник жандармов, с которым она когда-то познакомилась в Вене.
Первые впечатления: вкусный хлеб и россыпь орденов на груди у одного генерала – семнадцать штук. Петербург – столица военных, а военных она обожала. Её научили пить на брудершафт, и ужинать до семи утра. Фанни решила, что они с Россией созданы друг для друга, но «серебряная старость» – увлечение платоническое. Прицел был на «золотую молодёжь».
И она добилась своего: изысканно фамильярные, в военных мундирах, с кутежами у Дорота, под цыганские песни. Впервые в жизни Фанни «испытала от песен слёзы и восторг». Не удержалась и бросила в пёстрые шали бриллиантовый браслет.
На маскарадном балу в Большом театре она решила испытать удачу; залюбовалась молодым высоким красавцем – и сразу попала. Но как-то мало верится в то, что Фанни Лир отдалась только первому порыву[12]12
Скорее всего, кто-то уже описал ей внешность Великого князя, или по почтительному обращению она поняла, кто перед ней, или же просто чутьём, которым гончая угадывает добычу, она вычислила его. Но ей хотелось, чтобы встреча эта в истории осталась случайной. Пусть так.
[Закрыть].
Он подал ей руку – и кружок офицеров почтительно разомкнулся. Спросил, знает ли она его. «Нет, – благоразумно отвечала Фанни, – Но ты молод, красив, этого достаточно». – «Я сын богатого купца, но сам бедняк, потому что всё состояние проиграл и прокутил с женщинами». – «Да? – улыбнулась она. – Значит, ты ветеран любви. А это почётное звание».
Он повёл её в ложу, офицеры и дамы кланялись ему; а когда откинул бархат портьеры, чтобы пропустить её внутрь, увидела на шторах вензеля с двуглавыми орлами. Он сел рядом на диване и, перестав играть в подгулявшего купца, спокойно произнёс:
– Ну вот, Фанни, вы никогда не видели Великого князя, так можете теперь смотреть сколько угодно... Но снимите же маску, мне угодно знать, красивы вы или дурны.
– Судите сами, Ваше Высочество, – сказала она и открыла лицо.
Поехали в гостиницу ужинать. Кареты с лакеями, коврами, яствами, винами и цветами следовали за ними. Пройдя в комнаты, он очень внимательно осмотрел обстановку, подошёл к окну, долго молчал и, словно в продолжение своих мыслей, сказал:
– Дайте мне только честное слово.
Фанни молчала, понимала, что здесь нельзя торопиться.
– Так дадите или нет?
– Я слишком легкомысленна для честного слова, – без тени кокетства сказала она. И решила свою участь. Он взял бумагу, написал несколько строк, расписался и подал ей – это был брачный контракт. Великий князь предлагал постоянную связь. «Клянусь всем, что есть для меня святого в мире, никогда, нигде и ни с кем не говорить и не видеться без дозволения моего августейшего повелителя, обязуюсь верно, как благодарная американка, соблюдать эти клятвенные обещания и объявляю себя душою и телом рабою русского Великого князя». И вторую бумагу – его обязательство на сто тысяч рублей. Она подняла глаза, несколько раз вдохнула, чтобы заговорить, но не смогла. Заговорил он:
– Подпишите это, дорогая Фанни, и будьте моею жёнушкой.
«После этого, – взволнованно пишет Фанни, – он обнял меня, дал мне первый поцелуй и сказал: «Милая, ты отныне моя, я никогда не женюсь...» Он сказал чистую правду, но в отношении себя. И вынес себе приговор. Через несколько часов Великий князь уехал, сказав, что заедет вечером и повезёт её в оперу. Сказал, что пришлёт ей что-нибудь пошикарней и жемчужный парюр (комплект).
Она была вне себя, не знала, что делать, главное было – не потерять рассудок. До четырёх часов она лежала в постели с мокрым полотенцем на лбу и дикими глазами смотрела на людей, которые входили, оставляли коробки, корзины, телеграммы от Великого князя, низко кланялись и бесшумно выходили. Она чувствовала себя как человек, которому подарили слона. К пяти, больная и опустошённая, кое-как натянула парижское платье с драгоценностями, напудрилась, взбила волосы и, заслышав стук подъехавшей кареты, толкнула дверь и вышла... в другую жизнь, жизнь избранных мира сего.
Из оперы он повёз её в Мраморный дворец (в церкви которого уже было запрещено появляться Вревской), и больше они не расставались.
Ночью князь много откровенничал среди семейных портретов, каминов и гобеленов. Фанни слушала, и ей казалось, что она грезит наяву. Он показал портрет принцессы, в которую был влюблён и на которой ему не позволили жениться. Бой часов гулким эхом отдавался в бездонных пространствах дворца.
Потом они завтракали в маленькой уютной комнате, и им прислуживали пять лакеев, каждый в особой ливрее, в соответствии с кушаньем, которое он подносил. Дворцовая кухня показалась Фанни неудачной, но вина были недурны. От волнения и венгерского она не смогла подняться из-за стола, да так и заснула, откинув прелестную головку на высокую бархатную спинку стула. Фанни подружилась с венгерским и дни проводила в полусне – так было легче привыкать к новой жизни.
На третий день на половину Великого князя Николая зашёл его отец Константин Николаевич, родной брат императоров. В ужасе Фанни заметалась по комнате и спряталась на кровати, задёрнув полог и зарывшись лицом в подушки. Константин Николаевич, как нарочно, заинтересовался новой кроватью; после беседы с сыном о последних новостях и финансах он принялся её внимательно осматривать, громко рассуждая о том, что русский дуб всё же лучше карельской берёзы. Раздёрнул полог, обнаружил ворох платья и скомканного белья и среди этого дрожащую от страха и смеха одновременно (венгерское давало себя знать) Фанни.
– Что за женщина? – удивлённо спросил он сына.
– Пришла по благотворительному делу, – не моргнув глазом строго сказал князь Николай, – и спряталась, испугавшись вас.
– А хорошенькая! – Великий князь пытался заглянуть за подушку.
– Нет. И старая, и некрасивая, – признался сын.
– Ну тогда не стоит и смотреть, – согласился отец и покинул комнату.
Так была отбита первая атака августейших родственников.
На следующий день во время прогулки на санях в Павловск Фанни переодели мальчиком, чтобы её не увидела мать князя Николая, Великая княгиня Александра Иосифовна.
Морозная мгла летела в разгорячённое личико Фанни, и ей, не любившей холод, теперь приятна была эта перемена, она знала, что скоро войдёт в натопленный дворец и отогреется среди великолепных картин, золочёных диванов, бронзы, ковров. В Павловском дворце её встретили боем двадцать стенных часов различных эпох. Это было так красиво, что весёлая американка немножко поплакала.
Фанни привыкла. Да и Великий князь так душевно пел ей свои любимые романсы за ужином. Они бродили по дворцу ночью, взявшись за руки, и он показывал ей залы и комнаты, рассказывал истории их семьи, таинственные и трагические.
Великий князь рассказал ей о Павле I, и Фанни снова прослезилась от жалости к сыну, не любимому матерью. «Если бы у меня была любимая собака, то мать её велела бы утопить, – изображая Павла, говорил Николай. – Он произвёл в генералы солдата, который первым доложил о смерти императрицы». Великий князь Николай Константинович любил прадеда, чувствовал его близким себе и обещался поставить ему памятник.
Но больше всего любопытства у Фанни вызывал царствующий император Александр II. Однажды, гуляя утром во дворцовом парке, она увидела его – красивого немолодого офицера с задумчивыми глазами, к его ногам жались две большие собаки.
– Да, у него добрые, внимательные глаза, – согласился Великий князь, когда она поделилась с ним наблюдением, – а вот дедушка Николай гордился своим «змеиным» взглядом и всё время проверял, стынет или нет от него кровь в жилах у министров, фрейлин и вестовых.
Фанни хохотала, показывая белые крепкие зубки.
– Если со мной случится несчастье, дядя Александр один пожалеет меня.
– Только он?
– Да, потому что у него золотое сердце и он любит родню, а отцу всё заменяет власть и танцовщица Кора Парль. – И грустно добавил: – Видно, брачные измены у нас в крови.
И он принялся перечислять императриц, императоров и их любовные связи.
– Вот у дяди всегда настроение хорошее, и мягок он, и весел, отчего? Да оттого, что всегда в кого-нибудь влюблён...
Многое поразило Фанни в русском дворе. Например, то, что князя Николая били воспитатели-немцы, что с детства он питался в основном хлебом и чаем, имея состояние в двести тысяч.
Для развлечения она завела дневник, где записывала кое-какие рассуждения и свои чувства.
«Бездна неприятностей. Муки ревности, любви и ненависти попеременно терзают меня. Вчера я убила бы его, а сегодня душу в объятьях; нет, это не тот, о котором я мечтала. Отчего же я не в силах совладать со своей страстью?..»
«Если бы женщины были свободнее, было бы меньше таких, как я; но жизнь моя – не преступление. Я предпочла свободу тюрьме в стенах добродетели. За это свет меня осуждает и презирает, а я борюсь с ним и пренебрегаю его мнениями...»
«Женщину любят то как добычу, то как игрушку, то как богиню. Иные видят в ней любовницу и товарища – такова любовь ко мне Николая».
«Париж для меня то же, что Мекка для мусульманина. Там я желала бы жить и умереть. Я люблю Россию, но Франция с её дьявольской столицей мне милей всего...»
«Порой я чувствую усталость и отвращение ко всему: от служанки, которая распоряжается моими туалетами, до Великого князя, который распоряжается мной...»
«За пять месяцев нашей связи он ни разу не отлучился от меня...»
«В пятнадцать лет невинность женщины называется наивностью, в двадцать – простоватостью, а после этого – глупостью...»
«Накануне Пасхи я была в соборе вся в белом и со свечой в руках, как прочие православные. В полночь архиерей, обратившись к толпе, произнёс: «Христос воскресе!» После чего началось христосование. Государь должен был целоваться с публикой три часа кряду, отчего под конец походил лицом на мулата».
«Летом 1872 года мы отправились в Павловск, где Николай предоставил мне свою дачу с прекрасным садом. Я была счастлива его любовью и, со своей стороны, любила его как ребёнка, любовника и покровителя. Отчего не дали мне дольше платить своей преданностью за его доброту ко мне?»
Царская казна давно трещала от скромных запросов «благородной американки».
Фанни Лир внесла в отношения со своим возлюбленным южный темперамент и колорит. Бывали у них и потасовки, когда он орудовал кулаками, а она увесистой щёткой для волос; бывали и чувствительные обмороки, в основном у Великого князя – от страха, что она бросит его. Иногда Фанни нарочно подбивала его на ссору, когда ей хотелось новое платье или браслет с изумрудами. Она хорошо изучила родовые черты Романовых и помнила дворцовый анекдот о боярине, который в пору безденежья навлекал на себя царский гнев, чтобы вскоре разбогатеть (ведь раскаяние царей – это деньги).

В Вене, где Фанни было очень весело и она упивалась укоризненными взглядами дам и нескромными – эрцгерцогов, она застала в лесу своего возлюбленного с грязной и красивой цыганкой. Одной рукой он совал ей монеты и кольцо, другой пытался обнять стройный стан. Фанни завопила не своим голосом, цыганка улизнула, а Великий князь дал Фанни звонкую пощёчину, так как сам был смущён; они решили расстаться навсегда. Тут же подвернулся «любезный русский», увёз Фанни с собой и скрасил дни одиночества.
– Оставьте меня, я вас не люблю. Я люблю Великого князя, – говорила Фанни, расстёгивая перламутровую пуговицу на груди.
– Это мне совершенно всё равно, – хладнокровно отвечал «любезный русский» уже в одной длинной исподней рубахе и лез под шёлковое одеяло в двуспальную кровать.
Прожили месяца два.
Когда получила-таки покаянное письмо Великого князя, сбежала. Возвращение сулило много приятного. На радостях они поехали в Италию, с ними был воспитатель и доктор Великого князя Гаурович, который и «стучал» на них аккуратно императору, наслаждаясь красотами Рима.
В Бари Великий князь полдня проторговался с папой Григорием XVI, предлагая суммы, от которых у Фанни мутилось в голове, за мощи святого Николая-чудотворца. Папа не уступил. За границей Великий князь покупал, менял и снова продавал разные мелкие вещицы с таким жаром и упоением, что Фанни было не по себе. Они побывали в Неаполе, Риме, Флоренции, Генуе, Милане, Венеции и Варшаве – и полки с музыкой торжественно выходили навстречу. Фанни гордилась своим возлюбленным и собой, а маленький плешивый доктор всё слал депеши и не скупился на описания алчной и ветреной американки.
В это время готовился Хивинский поход, и юный Скобелев умирал от желания броситься очертя голову в самую кровавую кашу. Туда же Великий князь Константин звал и сына, суля славу и Георгиевский крест (вожделенную мечту Скобелева); когда в уговоры вступил обожаемый дядя-император, Николай сдался.
Уходил в канун Рождества и, как мог, позаботился о подруге. Нанял прекрасную квартиру на Михайловской площади, подарил рождественскую ёлку, короб платьев и драгоценностей, а также сани, запряжённые парой вороных, с медвежьей полостью и кучером Владимиром. Весёлое было у Фанни Рождество, хотя, по её собственным словам, она и «горевала после разлуки». Его письма тревожили, он мечтал убежать с ней в Америку – вот уж что ей совершенно было ни к чему.
Понимая, что его могут убить, Великий князь составил завещание, очень выгодное для Фанни, и оставил у неё. Оба рыдали. На груди он увёз прядь волос возлюбленной. Ему не нужны были ни подвиги, ни кресты; ему хотелось в отставку.
И понеслись отчаянные любовные письма. Фанни читала их за бокалом шампанского с очередным кавалером – в Париже.
«Чувство к тебе, – писал Великий князь, – будет иметь влияние на всю мою жизнь. Такие чувства нынче не в моде. В них, может быть, нет шика, но что до этого!.. При тебе я способен на великие дела, без тебя в Россию не вернусь... лучше пойду на смерть. Думай почаще обо мне, и это принесёт мне облегчение...» И последнее – оно звучит мольбой: «...не ужинай с военными, не щеголяй нарядами. Это скучно и трудно, но необходимо. Мы так будем счастливы, когда снова увидимся».
За поход в Хиву ему не дали Георгиевский крест. В нём совсем не было честолюбия – одни чувства. Любовь занимала все помыслы, отнимала все силы. Он был очень молод – двадцать три; американская авантюристка вскружила ему голову, и всего себя он сложил к её ногам. Чувства его были обострены до предела, обострилась и болезнь. Он страдал клептоманией, но это была только его тайна. Стыд делал его бдительным и осторожным. С тщательностью и неутомимостью паучка её возлюбленный тащил в свои комнаты шкатулочки, веера, скляночки с духами, ложечки и ножи. Как вспыхивали его глаза в грошовых меняльных лавках, с каким упоением он покупал понравившуюся вещь, но тут же обменивал её на другую, да и ту вскоре продавал. Он был очень замкнут и одинок, но Фанни могла бы догадаться, ведь даже у неё иногда пропадали вещи, но она, не задумываясь, говорила о пропаже возлюбленному, и тот, залившись краской, поспешно покупал «жёнушке» что-нибудь с бриллиантами взамен веера или кошелька; преподносил, целовал руки, низко склоняясь головой, словно извинялся; она с удивлением и восхищением вскидывала брови.
Из образа, принадлежавшего Великой княгине (матери Николая), украли драгоценные камни. Схватили адъютанта Великого князя Евгения. Видя, что тот не может оправдаться и ему грозят каторга и позор, Николай сознался в краже. Вошёл в залу дворца, где у перепуганного адъютанта требовали признания, сказал: «Это сделал я». Теперь Фанни мечтала только унести ноги с ценными подарками и бумагами. Один Господь, верно, только и утешил его, ведь изо всех дорожек он выбрал прямую. Был объявлен сумасшедшим, лишился всякой собственности, над ним издевались даже солдаты, потому что он больше не имел власти, он ходил в рубище и сам добывал себе огонь и пропитание, он освободился от всего суетного – стал почти юродивым или святым.