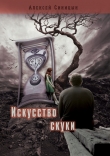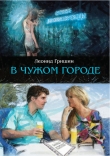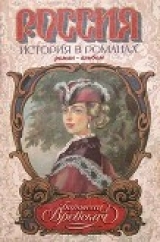
Текст книги "Баронесса Вревская: Роман-альбом"
Автор книги: Марина Кретова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Вот в этом-то и дело. Боткин – врач, и на его глазах шло истребление русского народа (в войну погибло более 100 тысяч, искалечено – без счёта), отсюда и его раздражение на болгар, а на самом деле – на идею. Но патриотизм не позволял ему критиковать «святую», как говорили славянофилы, идею этой войны, вот он и брызгал желчью на всё и на всех.
Бердяев где-то заметил, что русское сознание всегда применяло к истории моральные и религиозные категории. И всё же трудно примирить религию и кровь, мораль и приказ: «Убей». Даже во имя?!
Болгария недолго пробыла независимой. Её завоевали в первую мировую войну, завоевали и во вторую, она была то фашистской, то социалистической. Свободы не получилось. Колесо Истории, как дыба, неумолимо.
Да, возможно, болгары не давали бесплатно воды и хлеба русским солдатам, но это не их вина. Можно ли судить раба за то, что он не смел и не силён? Рабу не надо быть смелым и сильным, ему надо быть хитрым, приспособиться, чтобы выжить. И наивно требовать от него патриотизма, смелости и ума. Как и любой народ живёт – «нипочёмствует», сеет рожь, жнёт, холит скот, ткёт холсты – хоть под турком, хоть под... чёртом лысым. И в этом его сила и спасение. Это не плохо и не хорошо, это так, как есть.
БЕЛЫЙ ГЕНЕРАЛ НА БЕЛОМ КОНЕ
– Аномнясь у Покрова мужик замёрз.
– Ну и что ж?
– Оттаял.
(Из разговора двух купцов в трактиреза чашкой чаю)
Местное руководство стесняется отвезти братьев-болгар поклониться праху боготворимого героя в село Спасское. В Болгарии и парк Скобелева, и памятник, и каждый знает – кто это такой... У нас фамильный склеп в Спасском разрушен, могильные плиты расколоты, усадьба Скобелева в руинах.
Памятник ему в Москве своротили в восемнадцатом. Тащили через весь город за ноги, а отлит он был на народные деньги, как и храм Христа Спасителя. И площадь перестала носить имя Скобелева. Город Скобелев в 1924 году переименован в Фергану.
Скобелев был не просто генерал. Он был Белый генерал. Сколько в этом звании солидного, седовласого, мудрого. Да и портрет... Пышные длинные усы и густая борода, высокий лысый лоб, глаза чуть навыкате – крупные черты лица всегда старят. В год смерти ему исполнилось тридцать девять лет.
Был знаком с Ипполитом Александровичем Вревским. Его батюшка Скобелев-старший божился, что один Вревский стоил четырёх конных дивизий. Знал и Юлию Петровну. Да и она писала о нём сестре: «...Скобелева слава велика, и о нём говорят и много хорошего, и много дурного; и то и другое, говорят, правда, но всё же говорят, что он человек, отмеченный судьбой на великие подвиги, ему всего 33 года, он уже генерал с белым орлом».
Они были почти ровесниками[25]25
М. Д. Скобелев родился в 1843-м, умер в 1882 году.
[Закрыть]. Поговаривали, что влюблён в неё. Разумеется, тайно.
Сейчас никто не скажет о нём и двух слов, разве то, что генерал, а тогда... Под него одевались, на него молились, подражали и завидовали славе.
Мишенька любил военные парады, часами сидел над любимой книгой и выучил наизусть статус Георгиевского креста. Уже с детства почувствовал призвание – быть героем. И стал. Но не сразу.
В двадцать четыре года штаб-ротмистр Скобелев получил приказ объехать с дозором бухарскую границу. Объехал, никого не встретил, это показалось ему несправедливым, и в реляции он написал, что разгромил огромный отряд разбойников. Вышел скандал – распекли сверху, высмеяли снизу, советовали из военных податься в сочинители, даже дуэль была, после которой, слава Богу, все остались живы. Оставаться в полку сделалось невыносимо его самолюбию, и он добился нового назначения.
В Хивинском походе Скобелев решил действовать наверняка. Генерал Кауфман был немало удивлён, когда мимо него с криками «ура», вздымая облака пыли, в блеске сабель промчался на штурм эскадрон во главе со Скобелевым. Удивился генерал потому, что несколько часов назад город был сдан, и он ехал получить ключи от города, а жители, проведав о русских обычаях, уже приготовили хлеб-соль.

Всё же кавалером Георгиевского креста Скобелев стал, немногим позже, в Кокандском походе – сбылась мечта мальчика.
– Вы исправили в моих глазах прежние ошибки, – заметил генерал Кауфман, отмечая наградой, – но уважения моего ещё не заслужили.
– Ничего, – без обиды отвечал молодой офицер, – буду ждать. Я ждать умею.
Слукавил. Он ничего никогда не умел ждать.
Поначалу русско-турецкая война не сулила генерал-майору с Георгием на шее славы; смеялись: мол, и роту солдат опасно доверить этому мальчишке, и отправили под начало к отцу, Дмитрию Ивановичу Скобелеву, осторожному дисциплинированному старому генералу, чем смертельно обидели сына.
Скобелев-младший, изнывая от скуки и бездействия, больше всего на свете хотел воевать, а даже приказа перейти Дунай всё не отдавали – река была в разливе. И вот в воспалённом от страсти, бессонницы и жажды славы мозгу родилась прекрасная идея. Он потребовал созвать военный совет и выступил с предложением... переплыть Дунай казачьим полкам вместе с лошадьми.
– Невозможно, перетонем, – раздался голос.
Все засмеялись, а старик Скобелев от стыда за сына склонил голову к столу.
Но Скобелев поплыл. С ним – ещё несколько безумцев. Ледяная вода быстро отрезвила их, все повернули обратно. Скобелев не мог – стыдно.
Несчастный отец бегал по берегу и кричал:
– Миша, воротись, утонешь! Миша!
Но Скобелев плыл. Лошадь его утонула. Незадолго до берега его приняла лодка. Он переплыл Дунай.
На этом, как по волшебству, кончаются дурачества молодого Скобелева, и начинается другая история, где ошельмованный когда-то штаб-ротмистр за несколько месяцев сделался народным героем, добыв отличия свои и звания не протекциями, а подвигами и удачей в бою.
Он командовал отрядом под Плевной, потом дивизией при Шипке – Шейново. Эти два сражения, по существу, определили победу русских в войне. Его напор и нечеловеческая храбрость ошеломляли и врага. Он был как заговорённый – его не брали пули, и сам вид его в белом мундире на белой лошади вселял в турок мистический ужас. Белый генерал – белая смерть.
Немирович-Данченко расхваливал его в своих очерках, а сам Скобелев говорил о себе так: «Что за вздор: меня считают храбрецом, но я признаюсь, что я трус. Каждый раз, когда начинается перестрелка и я иду в огонь, я говорю себе, что в этот раз, верно, худо кончится». Но кончалось всегда хорошо.
Как добывают славу? Славу храбреца? Её добывают смелостью почти безрассудной (Скобелев никогда не пригибался под пулями); жестоким куражом (за пять минут до атаки кричал перед строем: «С Богом, братцы, да пленных не брать!» – «Рады стараться, ваше превосходительство!») и горьким презрением ко всякой осторожности (когда Немирович-Данченко вернулся от атакующих – «Василий Иванович, пожалуйста, уйдите прочь!» – сказал Скобелев и отвернулся с досады). А славу героя добывают победами. И они были.
Стремительные и блестящие, как в кино. Через три с половиной месяца Плевна пала. По убиенным «скобелевского редута» отслужили панихиду. Легендарный генерал рыдал в голос, рассказывая, как подняли на штыки майора Горталова, как руками рыли траншею для укрепления.
Но Михаил Дмитриевич Скобелев был не просто храбрецом и героем – он был легендой. А чтобы ещё при жизни заслужить легенду, надо быть ещё и любимцем.
Как добыть славу любимца? Это, пожалуй, самое грудное. Для этой славы Скобелева выбрала сама природа. Она дала ему лицо, голос, улыбку, очаровывавшие всех. Она дала ему энергию, ту самую мощную, взрывную энергию, в которой так нуждалась Россия на войне. Сам же он помогал природе и себе. Делал из себя героя, храбреца и любимца по своим представлениям об этих понятиях.
Например, все нижние чины у него были до того распущенны, что ничего не делали без его угроз и затрещин. И всё это происходило так, будто Скобелеву приятно эти затрещины раздавать, а солдатам и денщикам получать. Может, именно поэтому говорили о нём, как только о женщине скажут, любя: очень чувствителен и обидчив. А ещё: вспыльчив и отходчив. Ну не прелесть?
Герою нужны и слабости. Очаровательные, юношеские. Он очень любил шампанское, и дядя, некий «князь А.», ящиками слал бутылки прямо на поле битвы, в любую точку земли, чтобы потрафить любимому племяннику. Также сильно любил духи, и матушка присылала ящики с духами. В сражении Белый генерал благоухал, как розарий.

Всё заботился, как бы кто не заподозрил его в серьёзном отношении к женщинам, хотел казаться ветреником, а сам боготворил семью, мечтал жениться, и обязательно на умной и образованной.
И умереть только на поле битвы! И никогда не мог поверить, что ему не двадцать лет. Никогда!
И скуп не был, скорее очаровательно забывчив. Увидит нищего – прикажет ординарцу дать золотой на бедность. И забудет... «Так что встречи с нищими выходили для ординарцев страшней столкновений с неприятелем». Как все русские, был очень суеверен: как огня боялся просыпанной соли, не мог сидеть за столом с тремя свечами, загадывал числа, делил дни на счастливые и несчастливые. Подарил как-то на память художнику Верещагину свой боевой значок (есть такая форма военного братства). Значок этот побывал с ним в 22 сражениях. Уезжая в Туркменский поход, Скобелев хватился талисмана. Верещагин пообещал прислать новый; сам скроил его, жена сшила. По словам Василия Васильевича, значок получился очень нарядный: с голубым Андреевским крестом, буквами «М. С.» и годами 1875—1878. А дальше началось. Неудачная вылазка к врагу – Скобелев шлёт депешу за депешей: «Отдай старый, новый приносит несчастье». Победа – значок снова входит в милость. Так они и боролись: Скобелев и значок, но победил-таки последний. Так и остался при хозяине – осенял гробницу Скобелева в Спасском.
Даже белая лошадь под ним – и та не что иное, как дань суеверию. Кто-то нагадал ему, что на белой не возьмёт его пуля. Так и носился по полю, надушенный, не наклоняя головы, но на белой. Во время атаки под Плевной лошадь под ним упала – запалил. Ему подвели другую.
– Это что за гнедая стерва, – грозно прорычал генерал, – не хочу! Нет ли белой?
Белой не оказалось, пули и ядра жужжали, как мухи, сошла тут и «гнедая стерва». Унесла от смерти не хуже белой.
Говорил не много, но метко. «Россия – единственная страна, где достаточно идеализма, чтобы воевать из-за чувства». Что в этой фразе, ещё при жизни Скобелева ставшей цитатой? В ней точное попадание в настроение общества. И больше ничего. Усталая от внушённого бесплодного раскола интеллигенция искала нового символа для гниения. И Скобелев подсказал: «чувство». Все обрадовались. Это точно. В интеллектуальном багаже России накопилось достаточно чувства, пора было и его соединить с делом. Чувство не только воевать, но и освобождать. Страна, где нет теперь рабов, шла освобождать от рабства других. Шла по чувству.
Да, Скобелева было очень легко любить. Даже народ что-то добавил к его славе. Во всех деревенских избах во время войны хранились лубочные картинки – целый сериал, посвящённый Белому генералу и загадочному Гурко, который, по крестьянским слухам, был к тому же переодетой девицей. «Скобелев с Гуркой». Была и такая открытка.
Он знал, что у него много завистников, знал, что многие ненавидят его за удачливость, знал и как огня боялся этой зависти и словно хотел её задобрить. На Главной квартире или в штабе на него жалко было смотреть: шинель скособочена, фуражка съехала на затылок, сутулится, смотрит в пол, часто моргает – сирота с паперти, да и только. Когда друзья спрашивали, что это за диковинное превращение, он воровато оглядывался и оправдывался приглушённым басом: «Чтоб хоть щегольство в вину мне не ставили». Как ставили храбрость.
Вообще же робел до трусости перед высоким начальством. Перед парадом ничего от разумного человека в нём не оставалось: метался по комнате, заучивал наизусть команды, приёмы, уловки этикета, вертел что-нибудь в руках, за столом весь хлеб сминал в мякиш и нервно катал по скатерти. Все мысли о том, какое впечатление он произведёт на Великого князя, не наговорят ли на него, не оболгут, не будет ли он выглядеть посмешищем без знания тонкостей парадного учения. Как школьник, до поздней ночи зубрил, где ему, бедному, встать!
К чести Скобелева, он никогда не рисковал чужой жизнью попусту, а если и рисковал, то шёл всегда впереди.
– Коли будут упрекать, что не штурмовал с одним полком, – оправдывался он в том, что совесть не позволила ему вести на верную смерть людей, – подам в отставку.
Можно себе представить, что такое с его темпераментом «не штурмовать». Но, как только действие перемещалось с боев на интриги, дела его становились совершенно плохи. Он так и норовил влипнуть в какую-нибудь скверную историю, и здесь уж только советы близких друзей его хранили. Советы ценил.
Только закончилась русско-турецкая война, а уж Скобелева зовут занять пост военного министра в Болгарии, чтобы снова затеять войну с Турцией и снова втянуть туда Россию. Скобелев страшно загорелся, он всегда загорался, когда речь шла о войне, и искренне считал, что чем больше будет драк, тем больше для России счастья. Ему отсоветовали, и он потух. Вообще же его вмешательства в государственные дела никому не были нужны. Хоть и прекрасно владел он языками, знал литературу, поклонялся военному таланту Наполеона I, а всё в дипломаты не годился.
После Туркменской экспедиции по завоеванию Средней Азии в 1881 году он снова ввязался в обсуждение военных вопросов, теперь уже с индийским правительством. На этот раз в переговоры вмешался Василий Верещагин.
– Михаил Дмитриевич, вам это не нужно, – с нажимом в голосе, косясь на встревоженного посла, сказал он.
– А если мы дойдём до Индии?! – сверкнул глазами Скобелев и вздрогнул, как гончая, взявшая след.
– Ничего вам не нужно, – холодно повторил Верещагин. – Вам нужно только хорошенько вздуть туркмен, и всё.
Отговорил и на этот раз. Но остановить его было невозможно. Ему, молодому генералу, оставшемуся без дела, слава словно оказалась не по плечу. Надо бы остепениться, а он всё не мог поверить, что ему не двадцать лет. Не смея рисковать другими, он принялся испытывать судьбу один. И посыпались, как горох, его выходки против австрийцев и немцев. Его выступления в Париже, где он болтал, что война с немцами «буквально на носу»; жизнь в Берлине, где задирал всех подряд, пальто не мог по душе выбрать, кругом одна «немецкая дрянь». Увлёкся славянской идеей, написал письмо Каткову и всё хотел «кликнуть клич славянам». В полный голос. Не успел. Да и должен был кто-нибудь «заткнуть» его; в такой игре, как политика, – свои правила. Связываться со Скобелевым было не резон никому. Его и убрали. Кто? Он всем мешал одинаково. В политику с воинской доблестью лучше не соваться. Бесстрашное сердце и обаятельные замашки тут не козырь. И не аргумент. А прямо наоборот. Такие дела.
Да, генерал Скобелев был героем, храбрецом, любимцем, но, чтобы стать легендой, нужно выполнить ещё одно условие. Пожалуй, последнее и самое необходимое. Чтобы стать легендой, нужна не только славная жизнь, но и славная СМЕРТЬ. Последнего иногда достаточно для легенды даже без первого. Герой не может умереть в постели от ревматизма, то есть герой может, но человек из легенды – никогда. У Скобелева была загадочная смерть. Ему и здесь повезло.
Его гибель приняли как весть о стихийном бедствии или войне. «Москва была придавлена... нет, хуже – убита! – пишет очевидец. – В воздухе точно повисла тяжесть, не встречалось ни одного улыбающегося лица...»
Между простыми людьми ходили самодеятельные стихи на смерть героя:
Уж Белый генерал на аргамаке белом
Пред батальонами на бой не полетит:
Недвижимо, с челом, от смерти побледнелым,
В дубовом гробе он лежит!
Удивительно, как люди утешаются этой нехитрой поэзией в торжественные и тяжёлые минуты.
Отпевали Скобелева у Красных ворот, в храме Трёх Святителей.
Повсюду царило угрожающее оживление. Мясники в Охотном ряду точили огромные ножи, по подворотням скрывались кучки людей; отель, в котором умер Михаил Дмитриевич, собирались громить, а хозяев перевешать. Жадно ждали газет. Наконец появилось первое сообщение: «Скончался от паралича сердца», но тут же поползли слухи об отравлении, и шёпотом передавались новые детали.
Говорили, что врач вышел со вскрытия в слезах и пробормотал: «Скоты! Мерзавцы!» Кто?
А придворный лейб-медик профессор Боткин увёз внутренности в Петербург. Зачем?
И что это за диагноз: «паралич сердца»?
Пытались что-то разузнать у коридорного «Англии», гостиницы на Петровке, где умер Скобелев, но тот исчез при загадочных обстоятельствах.
Окна номера, в котором жила известная кокотка не очень дорогого пошиба Шарлотта Альпенроз, выходили во двор. В этот двор и вошёл, громко чертыхаясь на темноту, в ночной час Белый генерал, и отсюда же спустя четыре часа его «вывели» мёртвого, под руки, со свесившейся головой, бледного, как холст, на негнущихся ногах, люди князя Долгорукова, «усадили» в карету, а точнее, положили, прикрыли накидкой и «высадили» у отеля «Дюссо». И только потом поднялся шум. Но по тому странному закону, что всегда найдётся пара глаз, чтобы тайное сделать явным, и в этот сонный предутренний час какой-то мирный обыватель, выйдя на кухню попить воды, приник к окну да всё и увидел.
Народ требовал правды, и вскоре в газетах выявилось второе сообщение, что смерть наступила от разрыва сердца, синяки и кровоподтёки на теле объяснили попыткой Шарлотты привести генерала в чувство. Перепуганные слуги рассказывали, что всю ночь в номере слышались ссорящиеся голоса, шум и ругань и они от страха не смели заглянуть в дверь. А около трёх утра Шарлотта в накидке и шляпе разбудила приказчика и спокойно сообщила, что Скобелев умер. Пока тот стоял с разинутым ртом и переваривал новость, она деловито добавила, что пойдёт делать заявление в полицию, махнула шёлковой юбкой, и... больше её никто не видел.
Кто-то проведал, что на столе в номере стояли кружки с пивом; назывался даже яд, остановивший сердце генерала, – кураре.
Проклинали и винили немцев, но возникла и другая мысль, и она показалась очень вероятной: его убили из зависти.
Да, Россия выбирает героев, она же их и убивает. Всё – в нужный момент. Молодой удалец, Скобелев был максимально затребован наставшим временем в своей помолодевшей стране. Его ждали все: государь, готовившийся к трудной войне, пресса, оттачивавшая перья для блестящих репортажей, модницы, чтобы шикануть новым туалетом, простые крестьяне, чтобы подивиться и почесать языки – «знай наших», – и, наконец, толпа, уже выстроившаяся дружными рядами и ждущая клича. Его ждали все, и он явился.
Добряк, сорвиголова, обидчивый и великодушный, простой и аристократичный, смешной и величественный, а главное – свой, с обаятельной улыбкой, светлым взглядом и бесстрашным сердцем. Что рядить, почему именно он? Выбор историей сделан.
ПОДВИГ
Подвиг – есть только движение к Богу.
Творя память таких людей, мы пересматриваем
свой нравственный запас и пополняем его.
В. О. Ключевский
«Свято-Троицкая община сестёр милосердия с прискорбием извещает, что в г. Белая (Болгария) скончалась после тяжёлой болезни вследствие неусыпных трудов по уходу за ранеными и больными воинами сестра Красного Креста, прикомандированная к Свято-Троицкой общине, баронесса Юлия Петровна Вревская».
Всё предельно лаконично и понятно. Но вот странность: военный врач Павлов, тот самый, что исполнил последнюю волю Юлии Петровны и сжёг небольшой пакет с письмами, перевязанный тонкой ленточкой, написал в ответ на запрос Топорова[26]26
Когда пришло это письмо, Топоров уже умер.
[Закрыть] о Юлии следующее:
«Покойная баронесса Вревская в короткое время нашего знакомства приобрела как женщина полную мою симпатию, а как человек – глубокое уважение строгим исполнением принятой на себя обязанности, а потому я с тем большим удовольствием отвечаю на Ваше, м. г., письмо, полученное только вчера, 29 марта.
Баронесса Юлия Петровна состояла в общине сестёр, находящихся в Яссах, но, движимая желанием быть ближе к военным действиям, взяла отпуск и приехала к нам в Белую, около которой в то время разыгрывалась кровавая драма, и действительно имела не только случай быть на перевязочном пункте, но и видела воочию самый ход сражения. По возвращении в Белое (Бялу. – М. К.) после 10-дневной отлучки, хотя стремление её было вполне удовлетворено, она отклонила мой совет ехать в Яссы, пожелала ещё некоторое время пробыть в Белой и усердно занималась в приёмном покое 48-го военного временного госпиталя, в самый разгар развития сыпного тифа. При этом условии и при её свежей, по-видимому, здоровой натуре, она не избежала участи, постигшей всех без исключения сестёр госпиталя, и заразилась. Неоднократно посещал я больную, пока она была в сознании; всё около неё было чисто, аккуратно, и вообще уход и пользование не оставляли желать ничего лучшего.
Казалось, болезнь уступала, и температура понизилась, так что все мы верили в благополучный исход, но на 10-й день, как объяснили врачи, вследствие порока сердца у неё сделалось излияние крови в мозг, паралич правой половины, полная бессознательность, и на 7-й день она тихо скончалась.
Как до болезни, так и в течение её ни от покойной, ни от кого от окружающих я не слышал, чтобы она выражала какие-либо желания, и вообще была замечательно спокойна. Не принадлежа, в сущности, к общине сестёр, она тем не менее безукоризненно носила Красный Крест, со всеми безразлично была ласкова и обходительна, никогда не заявляла никаких личных претензий и своим ровным и милым обращением снискала себе общее расположение. Смерть Юлии Петровны произвела на всех нас, оторванных, подобно ей, от всего нам близкого, тяжёлое впечатление, и не одна слеза скатилась при погребении тела покойной.
При описи её имущества, находящегося с ней в Белой, кроме денег (около 40 полуимпериалов), деловых бумаг, нескольких фотографий и носильного платья, были между прочим найдены два небольших пакета с надписью на них карандашом: «В случае моей смерти прошу сжечь». Эта воля покойной была тут же, в присутствии свидетелей, мною выполнена, деньги и имущество сдано на хранение уполномоченного Красного Креста кн. Щербатова. Впоследствии наезжал ко мне брат баронессы гвард. офицер Варпаховский, распорядился имуществом и взял у меня свидетельство для беспрепятственной перевозки тела в Россию, но о том, когда это будет исполнено, мне неизвестно.
Вот всё, что я знаю относительно баронессы Ю. П. Вревской, и буду очень счастлив, если это краткое описание будет в состоянии удовлетворить её близких.
Примите, м. г., уверения в моём к Вам совершенном почтении и преданности.
Бело в Болгарии
30 марта 1878 г.
Мих. Павлов».
«...Состояла в общине сестёр, находящихся в Яссах...» И буквально через абзац: «Не принадлежа, в сущности, к общине сестёр, она тем не менее безукоризненно носила Красный Крест...»
Так принадлежала или не принадлежала Вревская к общине сестёр? Или сначала принадлежала, а затем была освобождена? И по какой причине? По законам Красного Креста на войну разрешалось идти только вдовам и незамужним – это было обязательным условием для светских женщин (большую часть общин милосердия составляли монахини). Где Юлия Петровна, там и тайны! Попробуем разобраться.
В одном из писем Тургеневу в 1877 году Вревская пишет, что посещает курсы медицинских сестёр, которыми руководит одна её «старая приятельница», и утешается тем, «что делает дело». Так вот: старая приятельница – это Елизавета Александровна Кублицкая-Пиоттух, прослужившая 28 лет начальницей Свято-Троицкой общины медицинских сестёр в Петербурге (позже её сменила В. А. Абаза). И 19 июня 1877 года вместе с 10 дамами из высшего света Вревская отправляется из Петербурга именно в составе Свято-Троицкой общины под началом Кублицкой-Пиоттух, и не являясь официально членом Красного Креста – любимого «детища» императрицы. А некролог? Так кто же сводит счёты с мёртвыми? Им милостиво позволяют то, что запрещали живым.
Конечно же с тем, что Кублицкая-Пиоттух была «старой приятельницей» Юлии Петровны, что-то связано. Почему именно в составе Свято-Троицкой, а не какой-нибудь другой общины? Ведь были же ещё и Крестовоздвиженская, Георгиевская и Покровская общины – они, кстати, первыми отправились на фронт. Выходит, что-то мешало обычным путём вступить в Красный Крест. Что же?
Вот имена аристократок, прикомандированных к монахиням и сёстрам Свято-Троицкой общины; нетрудно понять, что это именно тот круг, где Вревской было всего привычней находиться: княгиня М. М. Дондукова-Корсакова – сестра князя А. М. Дондукова-Корсакова; княгиня А. Н. Нарышкина; княгиня А. В. Голицына; А. Н. Философова; М. Н. Новосильцева; В. А. Абаза; В. А. Цурикова; Булгакова; сёстры Корниловы (с ними Юлия Петровна жила в одном бараке в Яссах; с Цуриковой и Булгаковой позже, после возвращения Корниловых в Петербург).

По неподтверждённым сведениям, накануне войны Вревская продала орловское имение, столь ею любимое, то есть окончательно разорвала нить, связывающую её с прежней жизнью, как будто сжигала за собой все мосты, и на эти деньги собрала небольшой медицинский отряд из 22 сестёр.
Отряд Кублицкой-Пиоттух при отправлении из Петербурга разделился. Девять сестёр с двумя дамами поехали в Киприановский монастырь на границе с Румынией, недалеко от Кишинёва, а остальные, и среди них Юлия Петровна, дальше на юг Румынии, в Яссы. До конца октября она работала в 45-й военной больнице Дунайской русской армии.
Главный уполномоченный Красного Креста в Румынии Н. А. Абаза писал, что весь персонал Ясской эвакуационной больницы работал очень напряжённо в конце июня – начале июля 1877 года. 21 июня в Яссы прибыл первый поезд с ранеными. Тот, кто мог перенести дальнейшую дорогу, отправился в Южную Россию, самые тяжёлые остались здесь. Сёстры перевязывали раненых, раздавали лекарства, стирали и штопали, кормили и мыли, писали под диктовку письма домой и утешали. Княгиня Нарышкина заведовала кухней, Юлия Петровна была среди тех, кто ухаживал за ранеными и умирающими. Она не сторонилась тяжёлой работы и в сентябре 1877 года писала сестре: «...Я очень рада работе, хотя всё моё бельё стало в лохмотьях, а платье страшно обтрепалось, завтра ждём 1500 раненых, сегодня было 380, писать почти не нахожу минуты». Она и дальше будет «почти не находить минуты» писать, то лёжа на носилках, то на сундуке, то стоя, – и тем удивительнее тон её писем, всегда ровный, приветливый, с лёгким юмором и печалью.
Боткин, насмотревшись на то, как «переносят» войну аристократы, записал: «Ни у кого нет достаточного внутреннего содержания, чтобы с известным приличием переносить, в сущности, только не совсем удобную для них жизнь». Он был не прав.
В русско-турецкой войне участвовали 1600 врачей и 2000 медицинских сестёр. Впервые в истории войн – сорок из них женщины-хирурги. И, возможно, тоже впервые в истории на войну отправились княгини и баронессы.
Условия для врачей на войне очень тяжелы. Хирурги вспоминали с ужасом, как после блестяще проведённых операций больные умирали от того, что операционная была заражена, а старший врач не хотел этого признавать. Виртуозы, профессионалы – они работали как на конвейере: война – это поток. Организовать его – рассортировать больных. А сортировка – вещь жестокая, так как требует самому тяжёлому оказать помощь в последнюю очередь, потому что у него меньше шансов выжить. А самое, пожалуй, важное – оказание первой помощи – сестринская работа. Сёстры милосердия находились не только в госпиталях и лазаретах; они сопровождали санитарные поезда и корабли, создавали «летучие отряды» и появлялись на поле боя. Подбирали живых солдат «и часто были единственными, кто провожал в последний путь...». Да, они должны были уметь не только лечить, но и хоронить.
Болезни войны всегда одни и те же: кровавый понос, тиф, лихорадка. Лохмотья, в которых раненые прибывали в госпиталь, кишели насекомыми, от непромываемых ран шёл «одуряющий запах», косил тиф, не хватало медикаментов и чистого белья, интендантское воровство и неорганизованность – неотлучные спутники любой войны. И именно сёстры милосердия и призваны были лаской и терпением как-то смягчить этот кошмар. Из Ясс Вревская писала: «Мы сильно утомились, дела было гибель – до тысячи больных в день, и мы целые дни перевязывали до 5 часов утра, не покладая рук...» Многие из дам устали и собирались в отпуск; Юлия Петровна не знала, на что решиться: «Буду оставаться, пока здоровья хватит». 18 октября она получила всё-таки двухмесячный отпуск (с 5 ноября), обещала приехать к «своим» на Кавказ, провести вместе Рождество, писала сестре, что очень соскучилась и видит её во сне, почему-то от описаний этих снов – тяжёлая печаль; обещала, ссылаясь на усталость, приступы лихорадки, сердце, но всё переиграло, круто и бесповоротно повернуло колесо судьбы.
За эти два месяца отпуска она вместо того, чтобы поехать на Кавказ, в Россию, отдохнуть и вернуться, отправилась на юг Болгарии как частное лицо. Уехала в Бялу. Госпитали располагались в тылу. Бяла же была действительно опасным местом – почти фронт.
С ноября 1877 года она работала в сорок восьмом военно-полевом госпитале в трёх километрах от села Бяла за рекой Янтра. Жила в небольшом домике Ивана Ходжиева в самом селе, вместе с болгаркой и её детьми. После тяжёлой работы в госпитале её ждал ещё утомительный обратный путь по заснеженной дороге и при сильном пронизывающем ветре. Спала на носилках. Маленькое оконце в холодной комнате с низким потолком вместо стекла загораживалось лишь куском ткани. Утром умывалась снегом и шла к раненым.
«...Я приехала в Обретеник – деревушка, где живут постоянно две сестры при лазарете, это в 12 вёрстах от Бялу... мы были на самом передовом пункте... Я так усовершенствовалась в перевязках, что даже на днях вырезала пулю сама и вчера была ассистентом при двух ампутациях... Ни газет, ни книг мы не видим. Снег у нас по колени, и дороги всюду очень дурные...» И дальше: «Интересно, почему всё реже и реже вспоминаю я о балах и о Петербурге? Нет, наоборот, о Петербурге я думаю часто...»
В декабре сюда поступали раненые солдаты Азовского и Днепровского полков, отбивавших атаки турок, решивших любой ценой прорвать линию обороны на правом фланге и пробиться к Бяле. Здесь был каменный мост, удобные для маневрирования войск дороги, а высокий берег реки Янтры мог служить хорошей оборонительной позицией.
Госпиталь был под постоянной угрозой нападения. Каждый день прибывали раненые. Каждый день увеличивалось число тифозных больных. Сестёр милосердия было мало. Ещё меньше было решившихся входить в тифозные бараки...