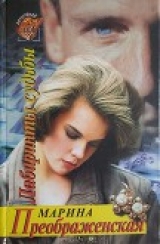
Текст книги "Лабиринты судьбы"
Автор книги: Марина Преображенская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
5
Вечером я не вернулась домой, но и к Кириллу пойти не посмела. Просидела всю ночь на вокзале в полутемном зале ожидания и рыдала крокодильими слезами.
Утром я забралась в первую электричку и укатила невесть куда. На одной из станций, не выдержав очень уж пристального взгляда и въедливых расспросов участливого попутчика, я, неожиданно для себя, быстро поднялась с сиденья и выбежала в тамбур.
Двери уже с шипением закрывались, но я, извернувшись, выскользнула на платформу. Прямо от платформы в глубь леса скатывалась с пригорка вьющаяся тропинка. Выбора не было, и оставалось, проваливаясь по колено в снег и путаясь в отяжелевших полах промокшего пальто, идти по редким, неявным следам предшественника-аборигена.
Мне все казалось, что вот сейчас выскочит из-за угрюмых елей голодная волчья стая, и клочья моей одежды разнесет ветер, кровь заметет поземка, а кости растащут лисы, и только душа моя останется нетронутой и светлой дымкой вознесется к небу.
Было жалко себя неимоверно, и от явственности воображаемого исхода я вновь зашлась в плаче.
Но волков не было, утро входило в свои права, и на горизонте показалась заснеженная, богом забытая гуцульская деревушка.
– Здравствуйте, – обратилась я к первой встреченной мною женщине.
– Здрастуйтэ.
– Я могла бы здесь у кого-нибудь остановиться?
– Та хоч у нас.
– У меня нет денег.
– А шо – деньги? Как надо остановиться, так просим до хаты. Побудь, поживи, как надо… Миша! Гэй, Миша, до нас гостья! Иды до хаты, а я подою в хлеву.
Миша, кряжистый, сухощавый, чернолицый дедок гостье не удивился. Словно то и дело шастают по горам в городских обновах заплаканные девки.
Он поставил на стол самогону, нарезал толстыми ломтями хлеб, выложил на блюдо обожженной глины квашеную капусту и рядом поставил два граненых стакана.
– О…О! Расстарався! Дивчина ж ще. Прячь горилку, гэть! На, доця, це молочко.
– Галь, та ты спытай, може, граммульку?
– А шо пытать? Прячь, кажу!
Хлопотливая баба Галя налила полную кружку молока, обтерла руки о передник и торжественно вручила мне молоко на расписном подносе. Поднос в употреблении был нечасто, видно, предназначался он исключительно для обслуживания дорогих гостей. Вот, мол, и мы не лыком шиты, культуру тоже знаем.
Молоко растеклось по жилам дурманящим теплом, и меня неодолимо потянуло в сон. Глаза, иссушенные до самого донышка, жгло, веки слипались, и хозяйка, подоткнув на печи перину, пригласила:
– Ты прыляг, прыляг, доця.
И я провалилась в сладкий, глубокий сон. Покой мой нарушала только мышка, упорно скребущая в своем углу непонятно что и непонятно зачем. Все ж остальные обитатели дома, включая хозяйку, хозяина и кота по прозвищу Мурик, ходили неслышно и, видимо, общались жестами, поскольку ни одного звука я так и не услышала, хотя, проснувшись, долго лежала, пытаясь затылком увидеть, что происходит за спиной.
Поведать, какая такая беда меня сюда пригнала, все же пришлось, и баба Галя сокрушенно качала головой, поглаживая мои волосы заскорузлой ладонью, а дед Михайло лишь цокал языком и громко причмокивал вставной челюстью.
– Та шо, доця, я ж книжек умных не читаю, а жизнь свою просто жила. Я же и телевизер тока у соседки смотрела да в клубе раз с пяток. А везде все едино. Вот придешь в эту жизнь, и какая она тебе дадена, такую и проживешь. И, не замечая, живешь, раз – и крест. И так ее мало, что кого еще мучить? Себя только. Любить надо. Свет не там, где вокруг светло, а там, где внутри светло, и грязь не та, что в тебя, а та, что из тебя. А что ж, такой умный, в сорок-то не женат? Али женат?
– Не знаю.
– Как так? Не спрашивала? А ты спроси!
– Нет, баб Галь, не женат, наверно.
– Любит тебя?
– Любит.
– А коли любит, так шо ж по-справедливому не сделает? Вон Михайло сватов засылал аж три раза. Все ждали, как подрасту, только в третий благословили.
– Времена не те. Сватов не засылают.
– Для сватов, может, и не те, а для справедливости – они самые. Пусть придет и честь по чести скажет, люблю, мол, не обижу. И тебя не мучит, и матушку твою. И живи с ним.
– Просто все у вас, баб Галь.
– Я ж, доця, и говорю, свою жизнь просто жила. И пришла – просто, и жила – просто, и уйду – просто. Гроб простой, крест простой.
– Баб Галь, а не жалко, чтоб вот так прийти просто и уйти просто? Зачем тогда все это?
– ТАМ узнаем.
– А если нет?
– Ну, на нет и суда нет. Это, значит, будет, как уснуть и не проснуться. Так хоть на земле зла не творишь – и то хорошо.
– Ну шо, Галь, по граммульке? – Дед крякнул и согнулся пополам, чтоб достать из нижнего ящика заветную бутылочку, да так и застыл в вопросительном ожидании.
– О…О! Ну ставь!
Меня никуда не гнали, не читали нравоучений, а с тихой жалостью, свойственной деревенским жителям, отпаивали молоком и медом, кормили картошкой, яйцами и солеными «белыми», изумительными в своей бочковой неповторимости.
Спустя три дня я скинула поутру шерстяные гамаши домашней вязки, байковую дедову рубашку, обняла бабу Галю, пустив напоследок слезу в ее острое плечико, и пошла по знакомой тропинке в обратную сторону.
Отойдя на приличное расстояние, я оглянулась и заметила, как баба Галя правой рукой осеняла крестным знамением мой путь, а платочком в левой, должно быть, промокала блестящую капельку у самого века.
Губы ее шевелились, и мне подумалось, что она читает молитву, с этой молитвой душа моя взвилась ласточкой, сердце заколотилось и переполнилось благодарностью к этим простым и добрым людям.
Дед Михайло догнал меня спустя пару минут. Он нес большие черные валенки в высоких галошах.
– Давай до станции подсоблю.
Я села на пенек, переобулась, и до самой станции он травил мне свои деревенские небылицы.
За эти три дня город преобразился неузнаваемо. Вокзальная площадь звенела капелью и птичьим гомоном. Искристый свет утреннего солнца был плотен и настолько осязаем, что, если повернуть голову навстречу этому потоку, упругие лучи растекались золотистым нектаром по лицу, проникали в кожу, пропитывали ее…
– Н-да. А знаете ли вы, Демина, что вас исключают из школы? – произнесла хриплым голосом географичка. – Знаете ли вы? А?
– Нет.
– Ну что ж, теперь знаете. И к тому же, кха-кха, – грузная кривоногая дама, тяжело перекатывая астматические хрипы сквозь бронхи, сухо закашлялась, – и к тому же вас ищет весь город. Вас, милочка, поставили на учет в детскую комнату милиции. И будет решаться вопрос о вашем членстве в ВЛКСМ.
– Так я же не комсомолка!
– Тем хуже для вас. Но, ко всему прочему, у вашего отца по вашей милости инфаркт.
Она повернулась ко мне толстым задом и, подобно гусыне, заваливаясь то вправо, то влево, вразвалку зашкандыбала прочь.
Господи, если ты есть на этом свете, ответь мне: это бессмысленное существование и есть твой самый бесценный дар? Я ненавижу тебя, Господи!
Я ненавижу этот город, эту весну, этих орущих птиц с их надрывным ликованием в царстве смерти. Ты обманул меня, посулив перемену, подложив в свою мышеловку сладко пахнущий шмат надежды, и, едва лишь я, поверив этому запаху, наивной дурехой распахнула душу, ты тут же захлопнул дверцу.
Но если это не так, если ты создал нас, чтобы любить и жить вечно, то отчего же мы беспрестанно страдаем?
– Ирка! Привет, Ир! Ну, наконец-то ты объявилась! Ты знаешь, чего здесь, ужас просто. Мрак… Я тебе щас все расскажу, будь спок. Славик сказал, что твой труп нашли в реке, и у всех уши в попе! Е-мое! А врун-то, грит, сам видал! А врун… Ты че, как столбняк какой? Тормоз, что ль? Пошли в стекляшку, только бегом – он там. Грит, труп удавленный. Грит, скандал у вас был – старуха твоя буянила, а потом ты удавилась и в речку. Я и не пойму! Грю – или удавилась, или в речку, или удавили и в речку, а чтобы сама и то и другое, так не бывает. И правильно, грю! Не бывает? Пошли, подтвердишь! Не… Ну ты – тормоз. Че в одно место два раза ступаешь и все в лужу?
Ларкин голос ворвался в мои уши, подобно вихрю. Он свистел там, клекотал, шуршал. Он напоминал большую раковину, подаренную мне приятелем. «Слушай, там море». Это было давно, но я часто с тех пор слушала море. Приятель уехал, а море осталось. И я его слушала и воображала себя то медузой, то моллюском, то огромным китом, то чайкой. И море тоже бывало разным.
Вот и сейчас я представила себе море, а я – легкая лодочка в нем. Ларкин голос, подобно вихрю, захватил меня, завертел, качнул на зыбкой волне. Хлесткой пеной наполнил парус и неожиданно стал запрокидывать утлое суденышко. Все ниже к волне, ниже. Брызги разлетелись в разные стороны. Мачта взвизгнула…
Или это голос? Ларка, что ли? Ботинки, сапожки, кроссовки, туфли… Сюрр! Они плясали вокруг меня в шаманском танце.
Вот какая-то туфля окунулась в воду и, дернувшись, вынырнула оттуда, поддев носком каскад брызг. На его место тут же плотненько встали серые ботинки и застыли напротив моего лица.
– А что с ней? – спросил взволнованный голос сверху.
– А вы врач?
– Нет.
– Ну и вали, козел любопытный! – нервно крикнула Ларка.
– Эпилепсия, наверно… – предположил кто-то.
– А пена? Я знаю. И припадок должен быть с конвульсиями, – возразили ему.
– Нет, ну что с ней? – снова вмешался взволнованный голос.
– Тебе ж сказали, вали!
– Девушка…
– Что девушка?! Ирочка, Ирочка, вставай. Ой, «скорая»! Тормозни, мужик! – Ларкины кроссовки кинулись вбок, ботинки тоже встрепенулись, туфля снова хлебнула из лужи.
Звук пропал, свет отключился, и остался невесть откуда возникший запах нашатыря.
Большая палата была тихой и уютной. Меблировка ее состояла из четырех коек, две из которых пустовали, четырех тумбочек, двух пластиковых стульчиков голубого цвета и небольшого прямоугольного стола под окном.
На столе поблескивала неровностями и бугорками старенькая, но чистая клеенка. В углу стола примостилась банка с засушенными цветами. Претензия на икебану. И, наконец, чуть правее стола, над стулом из голубого пластика, висело небольшое мутное зеркальце.
Кровати были заправлены слегка отдающими в желтизну простынями, поверх которых лежали сложенные вдвое байковые, некогда, видимо, тоже голубого цвета, тощие одеяла…
Интерьер более чем скромный. Но отсутствие излишеств и легкие пастельные тона успокаивали нервы, не раздражали глаз и, вообще, как нельзя лучше соответствовали ситуации.
Моя койка располагалась у окна, в стекло которого то и дело скреблась, будто живая, веточка пока еще безлистого дерева. Я часами смотрела на эту веточку, и на моих глазах она набухала живительным соком. Проклевывалась нежными почками, расцветала дымчатой зеленью.
Время шло. Соседка по палате выздоровела и покинула больницу, так и не дождавшись от меня исповеди. А уж как она распиналась, как изощрялась в рассказах и расспросах. Ну, просто эталон коммуникабельности. И чем больше остроумия и артистизма вкладывала она в попытки вытащить из меня хоть что-нибудь этакое душещипательное, тем меньше мне хотелось участвовать в диалоге.
Отсутствие обратной связи в конце концов измотало ее, богатство жестов и интонаций иссякло, и гений общения сник.
Ее выписали в подавленном состоянии, и, разобиженная моей неадекватностью, она вышла из палаты молча, бросив лишь в мою сторону взгляд, полный презрительного недоумения.
Потом была другая, менее разговорчивая, видимо, по причине своего незаметного постороннему взгляду нездоровья, соседка.
Она участливо предлагала то яблочко, то открыть-закрыть форточку и, натыкаясь на мою индифферентность, лишь виновато улыбалась. Она могла мне не нравиться в каких-то частностях, но в целом была мила, доброжелательна и ненавязчиво корректна. К ней приходил такой же молчаливый муж и приводил с собой великолепного, с умными глазенками малыша.
Отец семейства молча чистил апельсин и делил его на четыре части. Одну из них он клал мне. Развернув самодельную вышитую салфетку, покрывал ею блюдце с моей долей. Вторую давал ребенку, и тот аккуратно, отделяя по дольке, съедал ее, по-стариковски медленно пережевывая. Еще одну четвертинку муж очищал от мельчайших волокон кожуры и из рук кормил жену.
Та, блаженно улыбаясь, подбирала капельки оранжевого нектара острым кончиком языка, откусывала маленькими кусочками подносимое лакомство и была столь восхитительна в своем трогательном добродушии, что, будь я мужчиной, наверное, просто растворилась бы в этих глазах, губах и улыбках.
И, наконец, оставалась последняя четвертинка апельсина. Она аккуратно завертывалась в кожуру и зачем-то убиралась в карман.
Эта превосходная семья казалась мне каким-то незыблемым монолитом. Будто Всевышний создал их друг для друга. Причем сразу всех вместе. Они были объединены не только особой внутренней гармонией, но и внешним сходством, таким поразительным, что спустя годы, вырисовывая черты каждого в отдельности, я все равно не могу вычленить их различия из одного, застрявшего в памяти, общего лица.
Эту соседку вскоре перевели в другое отделение, и, хотя я с ней практически не общалась, она иногда возвращалась ко мне в палату с непременным: «Здравствуйте, Ирочка. Я вам гостинцев принесла», – и выкладывала все то же яблоко или неизменную дольку апельсина, пару печенюшек и еще какие-нибудь приятные мелочи.
Она ласково улыбалась, открывала форточку и смотрела на меня большими грустными глазами, словно знала про меня что-то такое, о чем мне будет позволено узнать, как минимум, через десять жизней.
Она умерла. В тот же день от сердечного приступа скончался ее муж, а спустя неделю под колесами автомобиля погиб сын. Бесспорно, Всевышний создал их друг для друга.
Одна только веточка за окном моей палаты, в своем изменяющемся становлении, представляла собой некий жизненно важный символ. Я неотрывно следила за ней, словно боялась упустить момент постижения тайного смысла, которому подчинены все законы нашего бытия.
Кира пришел ко мне в больницу за неделю до выписки. Но с того момента, как он пришел, и до того, как я покинула эту палату, неотлучно находился при мне. Говорить нам было особенно не о чем. Я смотрела в потолок или за окно, а он опускал свою ладонь на мой лоб и разглаживал подушечками пальцев морщинки, водил по переносице, по векам. Едва касался подбородка и мягкими штрихами очерчивал скулы, нос, бороздку над верхней губой.
Губы его при этом беззвучно шевелились, а глаза – две застывшие льдинки – являли собой глубинное угасание жизни, овеществленное, словно веточка за окном, в обратном временном течении: от зеленой дымки до гибельной черноты.
Щеки его впали, под глазами проступали серым отливом мешки. И, казалось, он медленно уходит в небытие.
Настал день, когда Кира посадил меня в машину и повез к себе.
6
– Счастье мое. Знала бы ты, как я по тебе соскучился. Я не мог приехать раньше. Ты уж прости, что так задержался. После того скандала, ну, с твоей мамой… Когда она увела тебя… Я решил, что ты больше не вернешься ко мне. Никогда не вернешься. И все-таки ждал, что на следующее утро ты придешь и мы хотя бы поговорим, но ты не пришла.
– Меня повели к гинекологу.
– Зачем?
– Зубы лечить. Зачем! Как ты думаешь, зачем водят к гинекологу?
– Так у тебя же… Ну… Ты же… Ни с кем… Или не так?
– Что же я же? – передразнила я его. – Так! Так! Но об этом знаю лишь я, а вот маме тоже захотелось удостовериться.
– Ну?
– Ну и проверили. Удостоверились.
– А потом?
– А потом… Кирочка! Мне так плохо!
– Я ждал тебя до вечера! А вечером позвонила сестра, ей нужно было отлучиться на день-другой, а мама заболела, и я поехал. Тамарка, как всегда, задержалась, и я застрял там… Если б хоть рядом где, а то восемь часов на машине… Вот. Когда приехал – тут такой переполох. Я к вам ходил. Мамаша твоя меня выгнала.
– А отец?
– Он хороший мужик. Он сказал, езжай, мол, к ней. Она никого видеть не хочет. Ну… Ты то есть.
– А что у него с сердцем?
– Ничего. Не знаю, а что? – засомневался Кирилл.
– А инфаркт?
– Какой инфаркт? – удивился он.
– Ну что ты дурачка корчишь? У него же инфаркт был! Был?
– Нет. Ну… Не думаю. С чего ты взяла?
– Мне Зося сказала! И из школы, сказала, исключат. И в милицию на учет, и про инфаркт… Я, когда приехала, вышла только, а она у вокзала прямо, еще до остановки дойти не успела…
– Кто не успел? Зося? А кто это Зося?
– Я, когда из поезда вышла, Земфира Рашидовна, географичка наша, встретила меня. Чуть ли не на перроне. И сказала все. Что меня ищут, что на учет в милицию ставят, что инфаркт у отца, что из комсомола исключают. Да комсомол-то ладно. И школа – тьфу…
– Чучелиндушко! Да ты же ребеночек еще! Наивная какая. Зося тебя попугать решила, чтоб неповадно в другой раз. А ты… Маленькая моя! Ну какой учет? Искали – да. Еще бы! Исчезла, и все тут. Только и искали-то не больно. Меня нет, тебя нет – решили, что вместе уехали. Вот и мамаша твоя на меня за это. Говорит, уехали вместе, а домой отправил одну. Что, говорит, наигрался? Три дня – и как щенка во двор? А я – ни сном, ни духом. А где ты была? – Кирилл тревожно поднял на меня глаза. – А правда, где ты была?
– Не знаю. – Я посмотрела сквозь него, сама немало удивившись этому очевидному обстоятельству.
– Как не знаешь? – Тревога его стала перерастать в подозрительность. Нотки беспокойства напрягли голос, и Кирилл вдруг как-то странно умолк.
– Ну, чего ты? Правда, не знаю. Села на электричку и поехала.
Мой рассказ, в деталях и подробностях живописующий трехдневный вояж, был принят с повышенным вниманием. Порой мне казалось, что я на допросе у следователя, и тот, вооружившись всеми передовыми методами ведения дела, старательно отделяет редкие крупицы правды от сплошной лжи.
Потом я вдруг поняла: Кирилл ревнует! И, когда я поняла это, мне вдруг стало весело. Не потому, что я ощутила некое эгоистичное чувство власти над этим умудренным жизненным опытом человеком. Скорее оттого, что ревность его была такая неловкая, неуклюжая, как если б ему было не тридцать семь, а семнадцать, и перед ним сидела не семнадцатилетняя дуреха, наивная, витающая в своих розовых облаках, доверчивая до невозможности, а искушенная, зрелая интриганка, опутывающая липкими сетями все и вся.
– Я боюсь тебя потерять. Солнышко мое, знала бы ты, как я запутался. Понимаешь, мне нужно тебе сказать… Я только не знаю, как…
Было чувство, что Киру когтит какая-то тайная мука, что ему нужно высказаться, но слова свились клубком, спутались, сплелись и никак не найдут того состояния, которое необходимо, дабы явить их свету. И он только повторял:
– Я люблю тебя, маленькая моя…
Овал луны, слегка затуманенный облаками, рысьим зрачком пробивался сквозь зашторенное окно. От движения облаков он то мутнел, то ярко вспыхивал, словно подмигивал или сообщал что-то тайным сигналом.
Это забавляло, рождая неистощимый игровой азарт, и страстный порыв Киры казался мне по меньшей мере неуместным.
Мне захотелось потрепать его по шелковистым волосам, легонечко щелкнуть по носу, а потом пройтись колесом по зеленой ковровой дорожке.
С тех пор как меня выписали из больницы, прошло уже около месяца. Из школы меня, конечно же, не исключили, и, чтобы достойно завершить обучение, я окончательно перебралась к Кире.
Он уходил на работу, а я на тренировку, затем в школу. Обедать мы всегда ходили вместе. Моя большая перемена и его обеденный перерыв совпадали по времени, и получаса нам вполне хватало для посещения уютного маленького ресторанчика, который в обеденное время работал в режиме столовой.
Затем я бежала домой, готовила уроки, нехитрые салатики к ужину и стремглав летела на вечернюю тренировку.
После бассейна Кирилл встречал меня в парке, и мы медленно, растягивая удовольствие, шли домой.
Нет, все-таки жизнь полосатая штука. Ну, безусловно, не может быть человеку все время плохо. Вообще, оптимизм – это врожденное чувство. И если воспринимать все с тобой происходящее непредвзято, то наслаждаться можно почти каждым мгновением.
Бывают моменты, заграждающие темной стеной радость бытия, но, когда боль достигает своего апогея, вдруг наступает прозрение и приходит свет.
«Вот только как бы не забыть об этом, когда ад растворяет свои зловещие глубины?» – думала я в одну из ночей, когда Кира тихонечко паял на кухне какую-то безделицу и беспрестанно чадил канифолью и «Космосом».
После того как мы расстаемся с детством и вместе с ним утрачиваем способность незамутненного, радостного, открытого восприятия мира, где все так надежно и оправданно, где солнышко греет всех и шарики продаются даже в будни, а стало быть, можно купить их и устроить себе праздник в любой из самых пасмурных и холодных дней, после того как мы расстаемся с детством – вдруг приходит понимание, что шарики, какие бы они ни были развоздушные и расцветные, – еще не праздник. А солнышко может не только греть, но и сжигать, убивать, а на определенном уровне и опалять неимоверным холодом.
Но именно тогда, когда мы расстаемся с детством и нас колотит, катает, мнет, терзает жизнь, утратив наивность, мы приобретаем нечто большее. Несравненно большее, что дает нам право вернуть утраченную способность незамутненного, радостного, открытого восприятия мира.
Мудрость? Может быть. А может, и нет. Не знаю.
Но в тот вечер я неожиданно для себя вдруг обрела ясность окоема, благость души и потерянную было надежду. Все встало на свои места. Я глубоко вздохнула и поплыла в нежные объятия Морфея. Мне снился сон.
Длинная, золоченая лестница устремлялась вверх. Она вилась спиралью и рассыпала свет, подобно новогоднему бенгальскому огню. Там, в вышине, на другом конце искрящейся спирали, восседал ОН.
Он излучал свет неописуемой природы и притягивал к себе. Сила притяжения была такой нежной и неодолимой. Она обволакивала тело, подчиняла себе мозг и звучала божественной музыкой.
Я подымалась по лестнице. Я подымалась медленно, хотя все мое существо рвало вверх, ступени мягко удерживали мои ноги. И в этом не было никакого насилия, лишь теплое упреждение суетливой развязки. Было легко, и хоть я по-прежнему поднималась медленно, вдруг стало ясно, что движение мое ускоряется.
ЕГО лицо приближалось и в приближении своем казалось знакомым. Но я никак не могла рассмотреть его вполне, и неутоленность желания познать, кто же ОН, увидеть лицо, разглядеть черты жарко билась в груди, сладкими излучениями пронизывая все тело.
Я неслась навстречу ЕМУ все быстрей и быстрей, но, мне казалось, все равно невыносимо медленно. Внезапно, напрягшись всем телом при очередном шаге, я оторвалась от ступеньки и взмыла над миром.
Узкой чешуйчатой змейкой лестница осталась где-то внизу, а плоть моя переполнилась обладанием пространства. Ужасающим и пронзительным в неописуемом восторге.
Где-то у основания моего черепа мягким толчком затеплилась сладкая звездочка, и от нее растеклось по телу чудное блаженство. Блаженство стремительно напитывало собой каждую клеточку. Точка у основания черепа разгоралась, наполнялась сочным цветом, увеличивалась в размерах до необычайных масштабов.
И вот уж я – не я, а сама эта точка, одновременно стремящаяся заполнить собой Вселенную и тут же истекающая в мизерное ничто.
Я – ничто, и я – бесконечность и вечность. Мне страшно и сладко. Безумно сладко! Что это?! Я вижу ЕГО!! И – взрыв!
Слепящая вспышка, сладострастный ужас, и где-то в низу живота, далеко – как на другой планете, распадаются отзвуки взрыва. Тело тает в истомной зыби. Я открываю глаза и ощущаю, как по груди моей скользят горячие губы. Мягкая волна ладоней перекатывается по коже и бережной повелительностью выводит меня из состояния сна.
Губы у Киры неимоверно нежные. Он касается моего соска, обволакивает его, прикусывает тугую горошинку, а волна его ладоней, обтекая живот, струится к бедрам, потом в обратном направлении. Легкими движениями он ласкает мое тело, словно случайно задевая нежный пушок заветного холмика, и это приятно возбуждает.
Случайные прикосновения становятся все более частыми, быстрый ток крови звенит в висках, и, наконец, все мое естество переполняется неимоверным возбуждением.
Я обнимаю руками его шею. Я тянусь к нему, мне хочется врасти в него, врасти и стать им, как только что я была Вселенной. Я хочу, чтобы он стал мной. Я хочу, чтоб мы были единым целым, заполняющим собой бесконечность и истекающим в ничто.
Мои губы встречаются с губами Киры, из моего горла вырывается сдавленный стон. Я слышу стон со стороны, и он еще больше сводит меня с ума.
– Кирочка. Я хочу тебя. Хочу тебя, сладкий мой. Мой родненький… Никому тебя не отдам! Никому, никогда.
– Маленькая моя, не уйду я, Чучелиндушко.
Кира целует мое лицо, покусывает ушко. Он шепчет мне сказочные слова и… отстраняется.
Но даже если бы я и хотела, все равно не смогла бы противиться нахлынувшему желанию. Жаркое дыхание Киры, его объятия, язык его, вводящий меня в безумие своей живостью, – страстной мукой переполняют меня.
– Чучелиндушко! Сладкая моя ягодка… Нельзя нам… Ну нельзя.
Он напрягся. Замолчал и, уже не справляясь с собой, обхватил мои бедра и медленными, почти неощутимыми толчками проник в меня.
Слабый отзвук неявной боли возник где-то там, в низу живота, и тут же растаял, растворяясь в неописуемом блаженстве, граничащем с сумасшествием.
Сон вырвался и воплотился в яви, а затем тело мое вдруг как-то обмякло и обрело вполне овеществленные формы. Стало стыдно и больно, но Кира шептал:
– Маленькая моя, счастье мое, перышко невесомое.
Звук его шепота успокоил, утешил, и безмерная радость наполнила мою душу.
Утро ворвалось вместе с пронзительным телефонным звонком. Последние пушинки сна сорвало истошным воплем из телефонной трубки:
– Что але? Алекает еще тут! Сучка дворовая! Я вам устрою райскую жизнь. Ишь обнаглела, как у себя! Алекает еще! Выметайся оттуда, стер… – Прерывистый зуммер поставил многообещающее многоточие.
Кира уже стоял за спиной, и, когда наши взгляды пересеклись в зеркале, я с изумленным недоумением обнаружила, что Кире страшно. Всего лишь мгновение длилось это его состояние, он тут же взял себя в руки, но как-то неестественно и почему-то шепотом произнес:
– Повесь трубку.
– Что? – тупо спросила я.
– Что – «что»? – не понял Кира. – Трубочку повесь, слышишь: «ту-ту-ту».
И я действительно услышала «ту-ту-ту» и опустила трубку на рычаг.
– Дура какая-то. Истеричка, – пожала я плечами. – Хоть бы спросила у меня, кто я. Попала не туда и орет. «Алекает еще», – передразнила я противным голосом.
Я пошла в ванную и уже оттуда крикнула:
– А ты чего испугался? Вскочил. Спи, рано еще.
– Ирочка, нам нужно уехать на время.
– Это еще зачем?
Я промокнула лицо махровым полотенцем, и тут меня осенило.
– Кир, кто это?
– Жена, – не сразу ответил он и отвел взгляд.
– То есть?
– Ну что то есть? Жена это.
– Какая?
– Обыкновенная.
– Кира, может, я чего-то не понимаю? Может, я дура набитая… Но мне кажется, если есть жена, то хоть как-то она должна обнаруживать свое наличие. Ну, с работы приходить, обеды готовить, носки стирать, что ли… Да и все время вместе – и днем, и ночью. Полгода считай. И никого не было. А тут на тебе – жена. Кто это, Кир?
– Же-на, – тихо, но очень отчетливо произнес Кирилл.
– Понимаю… Же-на… А я кто?
– Ты? – Он глянул мне в глаза, взял за плечи и притянул к себе. – Ты лю-би-мая. Ирочка, я давно хотел сказать тебе. Но все как-то не до того было. Ну что ты? Не плачь, маленькая моя. Мы придумаем что-нибудь. Дай только время.
– Время? Сколько тебе нужно времени? Час? Два? Год? Я не плачу! Слышишь, я спокойна! Я – спокойна! Как никогда. Как дуб. Нет, как Китайская стена! Поговорка есть такая, знаешь: жена – не стена… А я – стена! – выкрикнула я на одном дыхании, и слезы хлынули из моих глаз.
Я никак не могла взять в толк, почему же это случилось. Почему, если она жена, то я – любимая, а если я любимая, то почему эта визгливая истеричка – жена. То есть нет, чисто теоретически, умозрительно, если не относить это ко мне, а словно бы существуют иные я и она, я бы смогла все объяснить. Но вот так…
– Ты же умненькая, Ирочка. Я по дороге все объясню, давай собирайся. Мы сейчас быстренько оденемся и по дороге…
– Куда?
– К приятелю моему, Валерке. Позавтракаем там.
Странные дела творятся порой с людьми. Там, где, казалось бы, так очевидны ложь и предательство, где следовало бы стремглав бежать прочь, вдруг зашкаливает что-то в мозгу. Вот и здесь, мне показалось, что все на своих местах, все утрясется, вопреки сюжетным коллизиям откроются радужные перспективы, и погружусь я в сказочное великолепие хеппи-энда.
– Что невесела, нос повесила? Ириш, так надо. Ты поживешь у Валеры. Он славный. Он тебя не обидит. Да и недолго это… Хельга снова укатит в Данию присматривать за детьми своего братца. Вот увидишь, я разведусь с ней. Да она теперь сама на развод подаст…
– А ты, почему ты не подашь? Почему – она?
– Ну что я? Ну что я?! У нас же ребенок. У матери он… Она то есть. Дочка… Да и люди. Что скажут? Старый хрен, дите бросил ради…
– Ради кого? Договаривай!
– Ну не я же, не я – люди. Ты же понимаешь. На чужой роток… А я? Я буду выглядеть подлецом. Понимаешь?
– Да что ты все: понимаешь, понимаешь. Заладил! Понимаю. Только вот почему – выглядеть?
– А потом я разведусь. – Кирилл пропустил мимо ушей последнюю реплику.
– Когда?
– Когда Хельга подаст на развод, я же сказал. – Потоки раздражения все настойчивей прорывали в нем оболочку едва удерживаемого спокойствия.
– А если нет? Если не подаст? Так и будем дальше? Только дальше так не получится. Я не смогу ТАК, Кир!
– Ну как же не подаст?! Ты издеваешься, что ли? Я же сказал – подаст. Ну, не мучай меня, мне и так тошно!
– А мне? – Было ощущение, что этот бесстрастный, глухой голос и не мой вовсе. Что он рождается где-то помимо моей воли. А будь моя воля, я говорила бы совсем другое. Что-то нужное, веское, чему не могло бы найтись возражений. И Кира бы все понял. Но он ничего не понимал.
Он затормозил и вышел из машины. Достал пачку сигарет, повертел в руках, словно не мог найти применения этому предмету, затем скомкал и бросил в траву.
Кирилл обошел машину, открыл дверцу с моей стороны и присел на корточки так, что его лицо оказалось на уровне моих колен. И взгляд его снизу вверх был таким жалобным, таким умоляющим.
– Ну что ты? Думаешь, мне сладко вот так? Ждать чего-то, таиться, лгать? Как топор над головой. Вот-вот грохнет и расколет черепушку. Ирочка! Кто бы знал, как я люблю тебя! Но Хельга… У нее сердце больное. Ей уже тридцать семь! А тебе семнадцать. Чувствуешь разницу? Чувствуешь?! Кому она теперь будет нужна, если я брошу ее?
– Но она же далеко. Она же в Дании! Я год тебя знаю – и никакой Хельги. Что ей в этой Дании от тебя надо?
– Она там работает, но вернется сюда. Это подло с моей стороны не дождаться.








