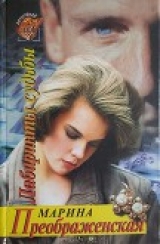
Текст книги "Лабиринты судьбы"
Автор книги: Марина Преображенская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Насколько я могу помнить, отец, не чаявший души во мне, всегда жил своей отстраненной, непонятной для тебя, веселой и бесчинствующей жизнью. Он так и не стал поверенным соучастником твоей судьбы, если не считать хитрого переплетения генов, доставшихся нам с братом от обоих родителей.
Сейчас, спустя столько лет, мне кажется, что, поведи ты себя иначе в то роковое утро, по-другому, жизнь моя была бы совершенно иной.
Я бы не хлопнула дверью, не выскочила на улицу и не ринулась бы диким зверенышем в мир урбанизированных джунглей, где все устроено просто и грубо.
Но даже за это я бесконечно благодарна тебе.
3
Кирилл вырос на моем пути неожиданно. Я лбом ударилась о его грудь, резко развернулась и побежала обратно. И вновь он вырос на моем пути.
Всякий раз меняя направление, я снова и снова натыкалась на его грудь, будто он был везде. Как пинг-понговый мячик, я металась в смыкающемся пространстве, но по закону всеобщего угасания энергии, в очередной раз столкнувшись с препятствием, я не ринулась от него, а уткнулась в прохладный мягкий шелк рубашки. Я тоненько заскулила и как-то обмякла под его сдержанными и нежными ладонями.
– Ну, успокойся… Успокойся, – ворковал он, поглаживая мои растрепавшиеся волосы. – Не плачь… Что за горюшко-печаль? Съешь сухарик, выпей чай.
Я плакала, а он гладил мои волосы, расправляя кончиками пальцев напряженную гармошку лба, касался губами мокрых щек и ни о чем не спрашивал.
Он не спрашивал, и я знала, что, если бы он вдруг спросил о причине моих слез, стало бы ясно, что говорить об этом тягостно и унизительно.
Он бережно повел меня к машине, усадил на прежнее место, и мы поехали.
– Один мудрец, – начал Кирилл, – перед смертью позвал к себе сына и после напутственных слов и краткого завещания дал ему ларец. Ты слушаешь? – он посмотрел на меня.
– Слушаю, – кивнула я, утирая слезы.
– В ларце были две прорези. «Когда тебе станет невыносимо плохо, посмотри в одну прорезь, – сказал мудрец. – Когда невыразимо хорошо – в другую».
Мудрец умер, а сын зашагал по жизни. Он выстроил дом, женился, у него родились дети, но грянула война. – Лицо Кирилла было обращено на красный свет светофора. Он притормозил и замолчал.
– Ну? – напомнила я нетерпеливо.
– Сын ушел на войну и вернулся калекой. – Кирилл мельком посмотрел в мою сторону. – Вернулся калекой и обнаружил на месте дома пепелище. От людей он узнал, что красавица жена, которую он любил до беспамятства, погубив детей, сбежала с вражьим солдатом…
Жизнь показалась ему адом. Он увидел уцелевший погреб и полез туда, чтобы отыскать веревку, но… наткнулся на ларец. – Кирилл сбросил газ на повороте. – Наткнулся и вспомнил наставление отца. Он заглянул в первую прорезь. «Крепись, сынок, все пройдет», – прочитал он надпись, сделанную отцовской рукой.
– …Понимаешь, маленькая моя, все пройдет. Всякая боль, какой бы силы и глубины она ни была. – Кирилл помолчал, обогнал ползущий автобус и посмотрел на меня. – У-у-у, какая ты… – протянул он игриво, подмигнул и скорчил забавную рожицу.
– Какая? – Я наклонилась к зеркалу.
– Чучелиндо чумазое, – сказал Кирилл, едва коснувшись тыльной стороной ладони моей щеки. Потом он опустил руку на мое колено и ласково провел по нему теплой ладонью.
– Как ты сказал?
– Чучелиндушко мое чумазое. Щечки заплаканные, коленки грязные, волосы всклокоченные. – Он приблизился ко мне и заговорщически поинтересовался: – Ты не подрабатываешь пугалом? А то бы пригласила, вдвоем-то оно сподручней.
Так и осталось между нами за мной это «Чучелиндо».
Мы приехали к речке, я умыла лицо, вошла в прохладную воду по скользким голышам, присела на огромный валун и закрыла глаза.
Вода мерно перекатывала камушки, оттачивая их, отполировывая, доводя до глянцевого блеска и округлого совершенства. Уж она-то наверняка знала, в чем заключается ее земная миссия.
Юркие мальки, осторожно приблизившись к моим ногам, описали пару концентрических кругов и, осмелев, стали тыкаться носиками в озябшую кожу, словно птички, склевывая предполагаемый корм.
– Я прочел в городской «брехаловке», что в нашу речку любители экзотики напустили пираний. А ты не читала, а? Пираньи всегда так, – он медленно подходил сзади, понижая при этом голос, – сначала приклевываются, а потом ка-ак с-с-с-хватят!
Кирилл резким движением взял меня за плечи, и я от неожиданности вскрикнула. Рыбки веером разлетелись в разные стороны.
– Читала. А как же! Только пираньи предпочитают мужские ноги, их хозяин так приучил, – с энтузиазмом подхватила я.
Кира присел рядышком. Мы несли всякую чушь, смеялись и по-детски болтали ногами, вздымая каскад брызг и разгоняя осмелевших рыбешек.
Я чувствовала, как уходит в прохладную зыбь мое первое горе.
Лето закончилось быстро. Морщинистые, постаревшие как-то вдруг листья покидали свои утлые пристанища, приникая к остывающей земле.
Почему-то в те минуты, нет, в те годы – от шестнадцати и примерно до двадцати – я все время думала о смерти.
Казалось, ее костлявый палец уже манил меня последовать мудрому примеру легкокрылых старцев.
– Я боюсь умереть, – плакалась я своей бессменной подруге Ларке, и она смеялась в ответ.
– Тебе до смерти, как медному самовару: еще поплюешь кипяточком.
– Все равно… – возражала я, показывая на шаркающих старушек. – Посмотри, какие они страшные. Будто изнутри разлагаются.
– Ты жуткая натуралистка. В зеркало посмотри, а не на этих старушенций. Кто разлагается, а кто и расцветает.
Ларка всегда восторженно относилась к жизни, намереваясь прожить триста лет и при этом остаться нераспустившимся бутоном.
Я смотрела в зеркало и подмечала душераздирающие подробности увядания. Мне отчаянно не хотелось стареть и умирать.
– Дурочка! – пресекла мои душеизлияния Ларка формальной констатацией факта.
Кирилл уехал к занедужившей матери, и страдания мои как-то зарубцевались, лишь нет-нет да вскинется у сердца саднящая, необъяснимая тревога.
Я часто вспоминала Кирилла, мысленно прослушивая и разбирая все наши разговоры.
– Умей взглянуть на себя чужими глазами, – решительно втолковывал он мне, – но не просто чужими, а отстраненно-беспристрастными. Так, будто ты врач, и все твои болячки не имеют к тебе совершенно никакого отношения. Они чужие.
– Но так не бывает, – возражала я. – Если болит у тебя, то болит именно у тебя, а не у какого-то мнимого пациента. Разве можно, наблюдая, как рушится твой мир, предположить, что это как бы и не твой мир. Когда все рассыпается и начинается хаос…
– Хаос не начинается. В мире все подчинено порядку. Начинается паника. Вот она-то как раз и губительна. Она дезорганизует и опустошает. Собери свою волю в кулак, и ты увидишь, что на самом деле нет безвыходных ситуаций. Но если уж событие заворачивается так круто, что ты не в силах изменить что-либо, измени свое отношение к нему.
Я понимала, что это не его откровение, что этой мысли уже много-много лет, но, возможно, она и есть предел познания человеком всех законов бытия.
– Да, – согласился Кирилл. – Я не претендую на авторство. Но узнать что-либо еще не значит – постичь. Понимаешь? – Он почесал затылок, как первоклашка, решающий сложнейшую философскую проблему цивилизации. – Я в твои годы тоже частенько думал об этом, а вот осознал лишь недавно… До этого надо дорасти, что ли. Не возрастом, понимаешь? Не количеством прожитых лет. Господи, как же попроще? – Он отвел глаза, сосредоточившись на какой-то таинственной точке в пространстве, и медленно продолжил:
– Мудрость, конечно, приходит с жизненным опытом… Только вот… Жизненный опыт – понятие относительное, и зависит он не столько от возраста, сколько от способностей души, что ли… Впитывать истину и не забывать о ней, а аккумулировать в себе. Понимаешь? И любое событие воспринимать сообразно его значимости… Понимаешь? – Он беспомощно смотрел на меня своими зелеными глазами.
– Нет, – отвечала я, пряча эти выкладки в самый дальний ящик памяти, убежденная, что наступит день, и мое бестолковое неведение сменится внезапным постижением глубинного смысла его слов.
На уровне подкорки я чувствовала его правоту, потому что сплошь и рядом мне встречались по-детски наивные старцы и дети, похожие на тысячелетних халдейских мудрецов-звездочетов.
В тот достопамятный день мы объездили пол-Закарпатья. Пообедали в маленьком ужгородском ресторанчике, насладились ореховым мороженым в привокзальном кафе Свалявы, поужинали в мадьярском Берегове и, заглянув в приграничный Чоп, возвратились домой, в вечереющий полумрак Мукачева.
Я вновь вышла из машины за квартал от дома, обогнула притихший детский сад и увидела мать. Даже силуэт ее источал горькую неприкаянность.
Она не ругалась, не плакала, она вообще ничего не говорила, но, когда я поравнялась с ней, она просто пошла рядышком. Мать молчала, судорожно заглатывая очередную порцию воздуха. Казалось, ей с трудом удается протолкнуть живительный глоток кислорода в легкие, а затем выплеснуть обратно, вместе с мучительной безнадежностью.
Мы пошли рядом, изо всех сил бодрясь и не подавая виду, что обе чувствуем непоправимость происходящего. И вроде бы все образовалось, выровнялось, но что-то неверное, зыбкое поселилось в нашем доме.
Я натужно улыбалась, вежливо рассказывая о своих школьных делах. Однажды попробовала излить душу, но слова оказались вязкими, и я без вдохновения скомкала неудачную попытку, закрылась и больше не проявляла порывов к сближению.
А весело и беззаботно щебетать на кухне за вечерним чаем, делиться полушепотом своими сокровенными девичьими тайнами, просить совета в сомнениях и доверять свои вдохновенные мечты родителям я уже не могла.
Даже к обеду я стала преднамеренно опаздывать, чтоб в одиночестве, когда они уйдут на работу во вторую смену, поесть, не подвергая себя лишний раз мучительному потоку обоюдного лицемерия.
– Ирочка, я приготовила твои любимые голубцы, – встречала меня мама, с усилием сохраняя маску праздничного благополучия.
– Спасибо, – отвечала я.
– Ты задержалась? – задавала она риторический вопрос, надевая плащ и пряча в сумку зонтик.
– Класс убирали, – врала я, – и автобусы к тому же… Ты ведь знаешь.
– Да, – соглашалась мама. – Что-то в последнее время ходят из рук вон… Ну, побежала! Опаздываю!
– Давай, – провожала я ее на лестничную площадку и, заперев дверь, обессиленно прислонялась к стене, вслушиваясь в удаляющиеся шаги.
Школьные заботы, уроки музыки, тренировки в бассейне отнимали у меня почти все время и силы.
Единственное удовольствие, которое я позволяла себе, это чтение поэтических сборников. Вначале я читала все, что попадалось мне под руку, но эта неразборчивость быстро набила оскомину, в то время как наслаждение высокой поэзией дарило мне чувство неописуемого восторга.
Я стала посещать центральную библиотеку и просиживать в читальном зале, находя в затрепанных книжках с пожелтевшими листками и аккуратно реставрированными обложками то, чего мне не мог дать никто из окружающих.
Очень скоро я ощутила, как мои собственные мысли упорядочиваются, чувства находят свое выражение в словах, слова, в свою очередь, складываются в строки и строфы, обретают мелодию и завершенность. Я засыпала и слышала стихи, меня убаюкивали завораживающие напевы и гениальные рифмы… О да, пожалуй, это были гениальные стихи! Но у меня не было сил подняться и закрепить их на бумаге. Да и зачем? Красота – единственное, что не поддается приручению, и потому эти гениальные стихи вольно уносились в эфир и жили там особой непостижимой жизнью, напрочь позабыв о своем создателе. Я просыпалась с улыбкой, зная, что через много-много лет какой-нибудь поэт сядет за стол, возьмет перо, поднимет лицо к небу… У него чистая и светлая душа, а из глаз исходит неземное сияние, и вся его сущность распахнута навстречу звездам. Это будет именно тот Поэт, которому космос подарит право приручить Красоту. И мои стихи, позабывшие о своем создателе, словно звездные пчелы на цветок, полетят к нему из эфира.
Он примет их бережной душой и так же бережно понесет к людям. А что я? Я только искалечу их, изуродую своей неловкой рукой. Пусть витают в эфире, дожидаясь того, кто сумеет подарить их людям.
4
Кирилла я встретила случайно, ранним декабрьским утром, когда бежала через парк к бассейну на тренировку.
Он шел по хлипкому снегу небритый, понурый, в неряшливо болтающейся дубленке и оттирал замерзшие уши красными от холода руками. Я с трудом опознала в этом едва протрезвевшем мужике своего Киру.
Застыв, как вкопанная, с сомнением протирая глаза, я решила дождаться, когда он приблизится.
– Кира!.. – Наверное, в моем голосе прозвучало недоверие и изумление. – Кира! – крикнула я решительней, но он шел и, казалось, напряженно о чем-то думал.
– Кирилл Михайлович! – наконец остановила я его. Он посмотрел на меня глазами, зрачки которых плавали в какой-то мутной пустоте.
– А, это ты?
Я невольно сделала движение в попытке схватить его за рукав и хорошенечко встряхнуть, но, переведя дыхание, с волнением произнесла только одно слово:
– Здравствуй.
– Да-да… – ответил он совсем чужим, низким голосом. – Ну, как ты? Не забыла еще? – Он почему-то злорадно усмехнулся, и мне стало не по себе.
– Что случилось? – спросила я, превозмогая волнение. – Почему ты в таком виде?
– Хм… В таком месте, в такое время… – безучастно продолжил Кирилл.
– Ну, и это тоже, – тотчас согласилась я. – Что ты делаешь в зимнем парке в шесть утра?
Мой душевный порыв разбивался о его нарочитое стремление отстраниться, отмежеваться от меня, сделать вид, что мы никогда не говорили о самом сокровенном, о том интимном, что можно доверить лишь очень близкому человеку.
– Да так… – Он откашлялся и посмотрел на пихтовый ствол, скользя по нему к небу напряженным взглядом. Его странный голос поверг меня в панику.
«Так. Стоп! – приказала я себе. – Паника дезорганизует».
– Что «так»? – Я попыталась взять себя в руки и поняла, что не имею права так безжалостно лезть в его душу. Как можно мягче я, с отчаянной робостью приблизившись к его уху, спросила:
– Ты не в огороде всю ночь провел? А то пригласил бы… Вдвоем – все веселее.
Он посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Лицо его не изменилось, но я все равно почувствовала, как он улыбается нежным светом, идущим изнутри.
Я поправила шарф у него на шее, застегнула дубленку и подняла до самых ушей воротник. Когда мои руки легли на его плечи, чтоб дотянуться до воротника, он уткнулся мне в шею и порывисто пробормотал:
– Ирочка, Чучелиндушко мое!.. Забудь все, о чем я тебе говорил… Нет никакой мудрости. – Вдруг взгляд его упал на мою руку, он поднес ее к губам и стал целовать, обдавая горячим паром дыхания. – Нет мудрости! Есть судьба и бесконечное сожаление о своем бессилии.
Я прижала ладони к его вискам, подняла его лицо, и вдруг он запел:
– «Я спросил у тополя…»
И я, не раздумывая, подхватила:
– «Где моя любимая…»
Неожиданно он замолчал, изумленно взглянул на меня, будто только что обнаружил мое присутствие и, глубоко переводя дыхание, тихо, почти шепотом, произнес:
– Я тебя люблю.
Тело мое захлестнула горячая волна, и в этот краткий миг, когда я сквозь облачко пара посмотрела на него, глаза Кирилла вспыхнули ярким светом, и шершавый ком застрял у меня в горле.
– Я люблю тебя, маленькая моя, – повторил Кира и побрел мимо меня в свою безысходность.
Ведомая безмолвным договором, я пошла за ним, вслушиваясь в тающий звук. На несколько секунд я остановилась, звук слился с шумом ветвей пустынного парка, и только удаляющиеся шаги отчетливо обозначали реальность происходящего.
Я посмотрела вслед уходящему Кире и вспомнила, как однажды он мне сказал: «Не позволяй плохому проникать в твою душу. Вернее, береги в своей душе хорошее, потому что, как только хорошее покидает тебя, там сейчас же поселяется плохое».
Что же произошло с ним? Каким правильным и умным казался он мне прежде. Я думала, что в его светлой голове припасены ответы на все вопросы. Я видела его сильным и самоуверенным. Он лечил мою душу. И вот теперь…
У меня нет ни сил, ни мудрости, да и слов-то я не знаю таких, чтоб помогли ему справиться с болью.
– Кира! – окликнула я. Он остановился, посмотрел на меня и тяжело побрел дальше.
Ну и пусть я не знаю слов! Можно просто идти рядом и ничего не говорить. Потому что ничего говорить и не нужно. Потому что истина не в словах, она в вере. И если верить, что все должно быть хорошо, что непременно все будет хорошо (а ведь так оно и будет!), и просто прижаться к плечу, взять в руки его стынущие пальцы, попытаться согреть их, то по высшим законам эта вера не останется безответной, она непременно возродит в больной душе исцеляющую надежду.
Вы слышите, если вам нечего говорить, не говорите!
Главное – быть рядом, а все остальное – так, суррогат, искажение, заблуждение, ложь, бред…
Все непостижимое вдруг обрело смысл. Я догнала Кирилла, поравнялась с ним, и мы пошли вместе.
Как-то непонятно все происходит. Вот душа – она нашла для себя выход. Она постигает мудрость бытия и любви.
Вот тело – в нем нет измены. Оно изначально чисто, и даже жаркая страсть его чиста. Ведь не станете же вы обвинять все живое в стремлении к страстному порыву, подчиненному инстинкту продолжения рода. Но всему свое время, и пока в нем нет даже страсти, а только тепло и нежность.
Вот разум – он синтезирует, идентифицирует, анализирует, интегрирует, в конце концов. Самый сложный компьютер – мозг человека.
И все правильно по отдельности, все хорошо, а как попытаешься все эти составные собрать воедино – сплошной разлад, борьба, мучительное несоответствие.
Душа парит в розовых облаках, разум искрит микросхемами, а тело в плену у разбушевавшейся стихии мечется в горячечном ознобе. Где оно, гармоничное целое.
Завертелась жизнь моя каруселью в дешевом луна-парке. Что ни цепь, то слабое звено и, в какое кресло ни сядь, обрывается, летит в тартарары, сжимая в комок оцепеневшее сердце.
Я приходила к Кириллу и просиживала там ночами. Мне было хорошо с ним. Он был мне и отцом, и братом, и другом. Он научил меня играть в шахматы и плести сети. Наверное, никогда мне не пригодятся плоды этой науки.
Он жарил картошку. Он так вкусно жарил картошку, что розовые хрустящие ломтики, тающие во рту, до сих пор остались для меня одним из самых ярких впечатлений тех времен. Я, досконально следуя его рецептуре, ни разу так и не сумела достичь уровня его кулинарного мастерства по части картофеля-фри.
Мы хрустели в полной темноте солеными огурцами, запивая их холодным сладким чаем, и сочиняли страшилки, от которых было безумно весело.
Потом мы играли в буриме и глазели в старенький школьный микроскоп, невесть каким чудом завалявшийся на антресолях. А перед сном он разговаривал с Богом, раздвигая шторы и глядя на остроносый профиль ночного светила:
– Боже, прости нас! Прости нас, Боже! Мы виноваты, но не ты ли соединил наши души? Так продли же милость свою! – И он смеялся, когда месяц, оттеняемый наползающими тучами, словно кивал нам в знак согласия. Он целовал мои руки, лицо, шею и шептал мне: «Маленькая моя, Чучелиндушко, кровинка родненькая, солнышко нежное…»
Он смотрел на меня и вздыхал с неподдельной тоской:
– И у меня когда-то был такой же четкий контур губ…
– Почему был? – Я проводила пальцем по его губам, очерчивая их детскую пухлость.
– Я старый. Уже старый… – вздыхал он.
– Ты? Да нет же, нисколько! – убеждала я его, окунаясь в зеленую дымку глаз.
– Нет, – оживлялся он, – так-то не старый, а для тебя…
А потом я возвращалась к родному порогу. Я не могла сидеть у Кирилла всю ночь, испытывая страшное чувство вины перед родителями и неодолимую потребность вернуться домой. Но всегда получалось так, что раньше четырех утра я не приходила.
Затравленным зверьком я прислонялась к коричневой обивке двери, вслушиваясь в глухие звуки. Из квартиры доносились стоны изможденной бессонницей матери, и я долго еще не решалась нажать кнопку звонка. Приглушенные всхлипывания взвинчивали мои натянутые до предела нервы, а непреодолимое чувство вины порождало во мне плебейскую агрессию.
В ответ на упреки я вскипала раздражением, накаляя и без того взрывоопасную атмосферу, или замыкалась вовсе.
– Что, вытурил? Или жена в ночную смену работает? – всегда цинично вопрошала мать. – Или, может, остохренела ты ему за ночь? Иди, мол, попользовался, и хватит.
Леденящее кровь презрение разрывало мою душу. Оправдать себя, объяснить все – было невозможно. У меня возникало ощущение, что я, только что млевшая в райском блаженстве, вдруг неожиданно срываюсь с высоты и стремительно лечу в черную омерзительную бездну. Я видела это падение с такой сверхъестественной четкостью, что невольный ужас затмевал мой разум.
Мне становилось не по себе, и я, напялив жестокую маску бесчувственной хамки, по-идиотски смеялась в ответном желании досадить матери, причинить ей такую же страшную боль, какую испытывала сама.
Мать опасалась за мою психику и делала вкрадчивые попытки объясниться, вызывая во мне бесконечное ощущение фальши.
Мы истерично метались по квартире: я от матери, она за мной. Она что-то спрашивала, я что-то отвечала. Она дипломатично сулила покой в обмен на покаяние с моей стороны, я же не знала, в чем должна каяться, и со свойственным всем молодым людям эгоизмом предлагала матери не трепать себе понапрасну нервы, а спокойно ложиться спать. Отец ведь спит, и ничего, крыша не рушится…
– Но я волнуюсь! – восклицала она.
– А ты не волнуйся, – возражала я.
– Но с тобой может что-нибудь произойти, и я об этом даже не узнаю, – увещевала она, взывая к моему дочернему благоразумию.
– Если со мной что-нибудь произойдет, ты непременно об этом узнаешь, – успокаивала я ее, тяжело присаживаясь на диван.
– А если тебя убьют? – с горечью в голосе разводила она руками.
– Тогда ты не будешь страдать при виде меня, как страдаешь сейчас. Ты станешь носить на мою могилку хризантемы и спокойно ожидать старости. А я не буду выслушивать эти скандалы и отругиваться в ответ. Ты ведь даже жалеешь, что родила меня? – Я поднимала на нее усталый взгляд, видела, как она мучается, и находила в этом какую-то извращенную усладу.
Нам обеим было больно, но мы говорили на разных языках и в силу этого обстоятельства никак не могли понять друг друга.
Тот, самый первый, скандал, когда я, понурив голову, стояла перед разъяренной матерью, впервые сознавая нашу отчужденность, пророс во мне надвигающимся, злым недоверием, как сорняк прорастает в культурном поле и глушит, забивает его жестокой бездарной мощью…
Такая расстановка сил изматывала нас. Длиться до бесконечности это не могло, и однажды я безо всякой видимой причины, когда на дворе стоял безмятежный и тихий вечер, а в квартире царил полный покой, объявила как можно уверенней:
– Я ухожу.
– Ира, что, опять? – Мать выключила телевизор и подошла ко мне, пытаясь заглянуть в глаза. – Что с тобой происходит? Ну что? – Она затрясла руками. – Почему, Ира?
Я поднялась с кресла, обошла ее и выглянула в окно.
– Я не знаю, почему… Я не могу объяснить, почему! – внезапно крикнула я. – Не мо-гу! Тошно мне здесь! Тошно, понимаешь?
– Ира… – мать взяла меня за руку. – Подумай, а, Ир. Тебе некуда идти. Тебе нечего там делать! Он поиграет с тобой и бросит.
– Мам!
– Послушай меня, ты не знаешь себе цену. Да раскрой же глаза: старый, плешивый. А ты – молоденькая, симпатичная, все при тебе…
– Какой же старый, ма? И сорока нет. И не плешивый. Ну что за ерунду ты говоришь? А хоть бы и так! – вскинула я на нее взгляд. – Мне хорошо с ним.
– Хорошо… Что ты знаешь про хорошо? Что ты можешь знать про хорошо и плохо? – Она взяла со стола хрустальную вазочку, обтерла ее носовым платком и поставила на место. – Ира, ты еще не знаешь жизни и ничего не понимаешь… А я, – она как одержимая замотала головой. – Я прошла через это.
– Через что «через это»? Мама, я знаю, ты меня все еще воспринимаешь как ребенка. Но постарайся вдуматься в то, что я тебе говорю. Мне хорошо с ним! И ты не могла пройти через ЭТО. У тебя было свое «это». Понимаешь – свое. Мое «это» и твое «это» – не одно и то же.
– Тебе так только кажется! Они все одинаковы. И все презирают нас. Все! Им, кобелям, можно все!! У них что ни постель, то любовь, а твоя любовь для них знаешь что?
– Что?
– И ты еще спрашиваешь?! Блядство! Разврат! Твое чувство для них – тьфу. Им, когда свадьба, девичество подавай, непорочность. Чтоб простынку подстелить да родне показать.
Я обескураженно притихла, ошеломленная ее мировидением.
– А ты с отцом…
– Что я с отцом? – она агрессивно понизила голос.
– Ты с ним с самого начала жила так?
– Как? – Она оторопело смотрела на меня, не понимая, чего же я требую от нее, какого ответа. – Что ты имеешь в виду?
– Ничего… Мне показалось, что именно с ним у тебя родилось это… Понимание отношений…
– Может, и с ним… – как будто успокаиваясь, произнесла она. – Он ведь тоже презирает меня. Но мне не из чего было выбирать. А… – Она всплеснула руками. – Мы, знаешь, как со свекровью жили? С голоду дохли, я, как вол, пахала, руки отваливались. А свекровь сало гноила, на жиру крестики рисовала, чтоб я, не дай Бог, не полакомилась. – Она расплакалась, вытирая слезы передником, который почти никогда не снимала.
– Мам, – растерялась я, – при чем тут сало?
– Ирочка! – всхлипнула мать. – У тебя любовь, а он, черт старый, попользуется и выгонит. Вот попомнишь мое слово – выгонит… А им девичество…
– Не надо, мама, – пыталась утешить я. – Это когда о девичестве пеклись? А сейчас времена другие. И простынку не стелют. Но не в этом дело… Я бы не стала жить с человеком, который презирает меня.
– Много ты знаешь… – обессиленно повернула она в мою сторону мокрое лицо. – Когда жить негде станет, да еще и дети пойдут, когда он тебе будет деньги давать, которых и на две недели не хватит, а нужно будет на месяц растягивать, вот тогда запоешь, никому не нужная, с детьми под мышкой и чемоданом в зубах. Вот тогда запоешь, – провидчески пообещала мне мать и отвернулась, пряча хлынувшие с новой силой слезы.
– Может, ты так и жила… Что ж… – Я хотела вызвать в себе чувство жалости к ней, но возникало нечто иное, совершенно противоположное. – Как хотела, так и жила. И не нужно искать оправданий, а уж тем более давать советы.
– Что? – удивленно повернулась она в мою сторону.
– А то, что если сама не сумела свою жизнь устроить, то как же ты мою собираешься устраивать? Ты жила – как умела, и дай жить мне! Может, у меня и лучше получится.
– Не понимаешь? Добром не понимаешь? Все равно не позволю! Мала еще, пока что я за тебя в ответе. Я да отец!
Мать металась между мной и сумкой, в которую я тщетно пыталась запихнуть то тетрадь, то платье. Все, что я укладывала, она тут же извлекала наружу и отбрасывала в дальний угол комнаты.
Когда в углу образовалась довольно приличная куча, я в сердцах плюнула, схватила со стола будильник, зачем-то сунула его во внешний кармашек сумки, надела пальто, сапожки и ринулась вон.
Мать устроила грандиозный скандал на лестничной площадке перед дверью Кирилла Михайловича.
Такие скандалы умела закатывать только она, ни до, ни после я не сталкивалась с более продуманной постановкой скандального действа.
Вот, вероятно, откуда мои лицедейские зачатки!
Вначале каким-то образом на месте действия была собрана масса народу. Уж откуда они появились еще до спектакля, Бог весть!
Впечатление создавалось такое, что не менее месяца по городу шла рекламная кампания, и, казалось, в толпе непременно должны продаваться программки, иллюстрированные буклеты и календарики для коллекционеров с фотографиями главных действующих лиц.
Предшествовало всему короткое вступительное слово с пояснениями и ремарками, потом звонок в дверь, и, когда ничего не подозревающий Кирилл гостеприимно распахнул дверь, сюжет стал развиваться так интенсивно, с таким напором динамичного потока интонационных перепадов, подкрепленных вполне конкретно физической динамикой, что Кире ничего не оставалось, как ретироваться в глубь помещения, увлекая за собой всех поклонников самодеятельного спектакля.
Большего унижения я в своей жизни не испытывала.
На следующее утро мать повела меня к гинекологу, где в изумлении обнаружила, что вела войну с ветряной мельницей. Для меня это был шок, для нее – повод для новой вспышки гнева и яростного желания отстоять право на неподсудность своих действий.
Перестав взывать к моему благоразумию и девической порядочности, она перешла в наступление.
– Ты специально издевалась надо мной! Специально! Ты выставила меня на посрамление перед людьми.
Я пыталась оправдываться, но те редкие слова, которые мне удавалось вставить, вызывали в матери еще большее кипение негодования.
– Но почему ты не сказала, что между вами ничего не было! Тебе без позора жить скучно?
Мне надоело оправдываться.
– А почему ты решила, что ничего не было?
– Но врач… – затормозила мать, вопросительно взглянув на меня.
– Что врач? Что он знает, этот твой врач?
– Он же видит… – осеклась мать. – Или не так?
– Нет, мамочка, не так! Он ничего-ошеньки не видит!
– Так, значит, не в постели?.. – Она вновь закипала. – Я его посажу! Посажу кобеля драного! За развращение!!! Малолетних! Так и передай, пусть адвоката ищет.
– Адвоката… В постели, не в постели… Какая ты примитивная! – Я тяжело вздохнула и отвернулась от нее. – Главное, чтоб в постели не было? – Я резко повернулась к ней и со злостью крикнула: – Не было! Ничего не было! Врач твой знает про это, а что в душе было, он знает?
– Ирочка! При чем здесь это? – Перепады настроения матери поражали и бесили меня своей неожиданной сменой.
– Конечно! Конечно!! При чем здесь душа?! Главное, чтоб простынка чистая, а душа, она – что? Так! Тонкие материи, кто их видит? Их, по-твоему, и в грязь можно, и в дерьмо!
– Ирочка… – Мать приблизилась ко мне, пытаясь взять меня за руку.
– Только простынку отстираешь, откипятишь – и она беленькая. А душу как? Как душу? – Я заплакала и уже сквозь слезы непонятно к чему приплела: – Говоришь, свекровь сало гноила? С голоду дохли… Как же ты…
– Ирочка!
Ну вот и все. Мать обрела подтверждение моей девственности и окончательно потеряла меня.








