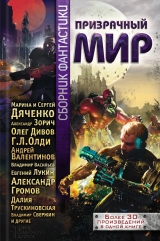
Текст книги "Призрачный мир: сборник фантастики"
Автор книги: Марина и Сергей Дяченко
Соавторы: Генри Лайон Олди,Элеонора Раткевич,Святослав Логинов,Александр Зорич,Олег Дивов,Евгений Лукин,Александр Громов,Андрей Валентинов,Леонид Каганов,Владимир Свержин
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 40 страниц)
Денис Тихий
Как поймать эльфа
За прилавком, между длинным парнем с морскими рыбками и приземистой бабусей со столь же морскими свинками, расположился мужчина, замотанный по брови шарфом. Он открыл клетчатую сумку и вынул оттуда трехлитровую банку. На ее дне, среди кусочков цветной бумаги, сидели разноцветные эльфы.
Парень с морскими рыбками согнулся во втором своем метре и заглянул в банку.
– Это что? – спросил он с тоном превосходства хордовых над жесткокрылыми.
– Эльфы.
– Почем?
– Пятьсот рублей.
Парень уважительно протянул мужчине руку:
– Борис.
– Семен, – буркнул мужчина, снимая рукавицу.
Тут из-под локтя заглянула приземистая бабуся.
– И зачем они?
– Ну а хомяки твои зачем?
– Это морские свинки, – обиделась бабуся, – детям развлечение.
Морские свинки нахохлились, всем своим видом выражая нежелание кого-то развлекать.
– Эльф. Волшебное существо.
– И чего они умеют? Желания исполняют?
Лицо, замотанное шарфом, изобразило саркастическую гримасу.
– Ага. Стоял бы я тут тогда.
– Может, удачу приносят?
– Мне не носили.
Бабуся замолчала. Эльфы лениво ходили по банке, зевали, взмахивали крылышками. Ярко-оранжевая парочка прижалась личиками к стеклу.
Между рядов с клетками и аквариумами неспешно проходили разнообразные люди в пальто и пуховиках, с сумками и просто, взрослые и дети. Все это разнообразие бубнило, перемешивалось и выдыхало пар из ртов. К Борису подошел большой, ватой набитый дед. В ногах у него мыкался мелкий ребятенок непонятного пола с варежками на резинках.
– Черви есть?
– Трубочник есть, мотыль.
– Деда, смотри!
– Мотыля покажи.
– Деда-а-а!
– Вам два коробочка? Три?
– Чего он дохлый такой?
– Деда, это чего в банке, а?
– Где дохлый, мужчина? Нормальный мотыль.
– С какого он бока нормальный?
– Деда, смотри – девочка с крылышками!
– Розовый. Вкусный. Берите!
– Сколько просишь?
– Двадцать пять.
– Де-е-е-е-е-д-а-а-а!
– Уступи десятку за два коробка.
– Не могу, мужчина. Себе в убыток торгую.
– Дед!
– Три шкуры дерете! Торгаши!
– Вы сколько брать будете?
– Да уж не ведро!
– Берите три коробка, десятку уступлю.
– Де-душ-ка!
– Ладно, давай два коробка, коль уступаешь.
Ватный дед отслюнявил червонцы и спрятал пакет во внутренний карман. Поближе к сердцу. Ребятенок похлопал деда по колену.
– Деда! Ну смотри – фея!
Дед приблизил левый глаз к трехлитровой банке, поморгал и отодвинулся.
– Чего за звери?
– Эльфы.
– Деда, давай купим!
– Сколько просишь?
– Пятьсот.
Дед отодвинулся и загнал взглядом Семена, банку и прилавок во внутреннюю прицельную рамку.
– Иди ты. На птичьем по двести никто не берет.
Семен подтянул шарф и пробубнил:
– А я и не навязываюсь.
– Самцы?
– А кто их разберет.
– Мотыля едят?
– Не. Они как бы любовью питаются.
– Ась?
– Любить их надо. Тогда живут. Без любви дохнут.
– Деда, бери! Я их уже люблю.
– Молчи, Валька! – ответил дед, оставив половую принадлежность ребенка под вопросом.
– Мужчина, возьмите лучше морскую свинку! Полкило восторга!
– Нет, свиней вокруг и так полно. Свинья на свинье.
– Деда!
– Мелкие они у тебя. Мореные. Давай за триста возьму.
– Четыреста.
– Совесть есть? Есть совесть у тебя, я спрашиваю?
– Ладно. Чтоб почин не спугнуть.
Семен подвинул банку к краю прилавка и кивнул Вальке:
– Протяни руку.
– Выбирать, да?
– Не. Они сами выбирают.
Крошечный эльф морозно-синего цвета вспорхнул Вальке на палец, ухватился ручонками и забрался в ладошку.
– Ну вот. Кормить его не надо, поить тоже. Люби только, одного не оставляй, а то заболеет.
У прилавка остановилась немолодая пара. Жизнь их склеивала, отрывала и опять сминала вместе. И вот уже они друг без друга не полны. Выпуклость к впадинке.
– Что это? Здрасти! – сказала женщина удивленно.
– Эльфы.
– Посмотри, Сереженька, чудо какое!
Мужчина что-то буркнул и остался на месте.
– Они продаются? – Женщина приблизила глаза к стеклу, осторожно постучала ногтем.
Семен вздохнул.
– Продаются. Пятьсот рублей.
Женщина завороженно извлекла из кармана кошелек. Семен пододвинул банку, но ни один к ней в руки не пошел.
– Дайте вот этого, зелененького.
– Видите, не идет он к вам.
– А вы достаньте.
– Не могу. Сам должен прийти.
– Так он не идет.
– Вижу. Значит, не продам. Извиняйте.
– Как? Почему же?
– Им, эльфам, любовь нужна, иначе помрут.
– Ну вот и хорошо! Я его буду любить, ухаживать буду за ним.
– Ухаживать… Не продам, коли сам не идет.
К прилавку пододвинулся муж.
– Я что-то не понял, тут рынок?
– Рынок-то он рынок, но… не продам. Ну сдохнет он у вас.
– Идем, Лен, – сердито дернул жену за рукав Сереженька.
– Но…
– Пошли. С психами еще связываться.
– Хотите, я вам тысячу заплачу? – сказала Лена.
Семен всплеснул руками.
– Барышня, да это тут при чем? Вот я его вам продам, а он любовь к себе притягивает, требует. А ежели пересилит супруга вашего?
– Как это?
– Да просто. Магическое существо. Без пропитания ему нельзя, тем более что оно материального-то и в рот не возьмет! Или супруга разлюбите, или эльф помрет. Хорошенькая покупка.
– Вы… шутите, да?
– А вот, дамочка, возьмите у меня свинью морскую! Или две!
– Свинью? – испуганно спросила Лена, недоуменно уставившись на бабусю.
– Ага! – радостно сказала бабуся и соломинкой простимулировала свинку показать свои стати.
Рыжий, косматый, угрюмый жирдяй забрался в колесо и сделал несколько шагов вперевалку.
– Вот! Глянь, какие кунштюки ушкваривает!
Зеленого, как свежий салатный лист, эльфа получил пятиклассник без шапки. Лимонно-желтый выбрал себе в хозяева смешливую девушку с пирсингом. Вид железных шариков в носу, в губе и даже на языке потряс Семена, но эльф, не задумываясь, вспорхнул ей на воротник. Бирюзовый эльф устроился в варежке сухонькой старушки с сияющими глазами. Она дала за него Семену сто рублей мелочью и веснушчатое зимнее яблоко.
За три часа он распродал всех эльфов, кроме одного. Оранжево-красный, как язычок пламени, ни к кому не хотел идти.
– И часто они так… кочевряжатся? – спросил Борис.
– Да бывает.
– И чего тогда?
– Ну чего. Обратно отпускаю.
Борис достал термос кофе и развернул из фольги два бутерброда с копченым салом. Приземистая бабуся скребла ложкой в кастрюле с картошкой и вареной рыбой. Семен перекусом не озаботился.
– Ты их где ловишь-то? Или секрет? – спросил Борис, активно жуя.
– Внучка ловит.
– А где?
– Да не скажет он, – сердито постучала ложкой о край кастрюли бабуся, – жмот.
– А чего не сказать-то? Я секретов не делаю. Берет внучка моя, Милка, коробку акварельной краски. Только медовая нужна, и вообще лучше меда добавить для густоты. Липового. Дальше – надо в ванной все зеркало разукрасить акварелью, погуще так. И разрисовывать надо в темноте, и чтобы девочка разрисовывала. Как высохнет – вносим свечку, только зайти надо спиной вперед. Самое оно, если на стекле останется одно окошко или два, тогда, может, и приманишь. Потом просто – банку трехлитровую приготовь. Перед зеркалом бумаги цветной настриги. У них же там все серое, у эльфов, вот они на цвет-то и клюют. Ну а как они, стало быть, из зеркала полезут, ты их банкой и накрывай. Да! Забыл совсем! Одежду надо надеть шиворот-навыворот, эльфы тогда не увидят. И булавку медную хорошо прицепить на ворот. Чтобы того… глаза не отвели.
– Чего?
– Ну, мне раз глаза отвели, так я целый час в ванной стоял и в зеркало пялился.
– Зачем?
– Выход искал.
– Из ванной?
– Тьфу, пропасть. Из зеркала!
Слушатели расхохотались. Бабуся прохрюкалась и вытерла рот платком. Борис, опершись о прилавок, некоторое время еще побулькивал, но вдруг поднял глаза и осекся. Семен сплюнул под ноги и выпустил сквозь шарф кубометр ротового пара.
– Да чего вам объяснять – все равно не поверите!
Перед прилавком невесть откуда оказался неприятный, известный всему рынку детина. Звали детину Соплей. Но звали его так за глаза и в верной компании.
Был он высокого роста, лицом широк – по блину на каждой щеке поместится. Волосы, брови и даже реснички – бесцветные, как подвальная плесень. Глаза васильковые и пустые, по меткому слову поэта: как два пупка. Сын директора рынка и сволочь крайнего разбора. Сейчас он был слегка поддавши. В такие минуты его настроение колебалось на кромке. С одной стороны – буйная радость, когда он бегал по рынку, натянув на голову отобранный у вьетнамцев малиновый бюстгальтер арбузного размера. С другой стороны – гадючья злоба, плевки в суп обедающим торговцам, затоптанная корзинка с котятами. А переход осуществляется легким толчком с любой стороны.
Сопля привалился к прилавку спиной, иронически глянул на толкущихся покупателей. Ухватил лапой плюгавого мужика с косенькими глазами.
– Эй, китайса, курить дай!
Китайса вынул пачку, Сопля поплевал на пальцы, вытащил две сигареты, одну сунул в рот, вторую уронил. Китайса дал прикурить. Сопля почавкал, окутался дымом, забрал пачку и зажигалку, отвесил добродушного пинка. Покурил, осоловело, наблюдая за дерущимися воробьями. Развернулся к Борису.
– О! Здорово, барбус!
– Здрасти, Эдуард Иваныч, – улыбнулся барбус Борис, приветливо прогнувшись.
– Ну, че тут? Как торговля?
Барбус неопределенно скособочился, всем видом показывая, что хотя он и тронут заботой Эдуарда Ивановича, но мотыль квелый, рыбок не берут и свободных денег совершенно нет.
– Ладно, будет шлангом прикидываться. Курить будешь?
– Я, Эдуард Иваныч, завязал. Здоровья-то нет, как у вас!
– Потому что здорово… это… здоровый образ жизни веду!
Сопля придвинулся к Борису. Свернутая бумажка перекочевала из руки одного в обширный карман другого.
– Ладно, торгуй, мотылек. Ах-ха-ха! Ловко подколол? Мотыля продаешь, значит, мотылек!
– Хрю-хрю-хрю! Здравия желаю, Эдуард Иванович! – улыбнулась пластмассовыми челюстями бабуся.
– Здорово живешь, Микитична!
– Вы вроде как с лица схуднули, Эдуард Иванович?
– На фитнес хожу. Знаешь, что такое? Это когда спорт.
– Ну, дай-то бог! – истово перекрестилась Микитична. – Нам и без надобности уж.
– Ладно. Хватит мне зубы это самое. Чего там у тебя?
– Как перед иконой, чтоб у меня руки отсохли, если вру!
– Так.
– Нету! Ни одной не продала! А все конкуренты!
– Какие конкуренты?
– Да вот, – сказала подлая бабка и указала на Семена, – пять клиентов отбил!
Семен и отчасти Борис опешили. Сопля вдруг увидел Семена с его банкой, как будто они только что вывалились из зазеркалья.
– Оп-па! Ты кто такой? Ты чего тут стоишь, а?
– И чего? Купил вон место и стою. А что?
– Чего ты тут толкаешь?
– Эльфа вот.
– Дрянь какая-то летучая, – вклинилась Микитична, – больная, наверное, не ест ничего! Сам говорил!
– Нуксь!
Сопля залапил банку. Она почти целиком поместилась в его ладони.
– Оппа! Зашибись! Засушу и на зеркало в тачилу повешу!
– Ты давай не борзей! Поставь банку!
– Пасть закрой, дедушка! – элегантно парировал Сопля, для верности положив вторую ладонь Семену на лицо. Лицо поместилось в ладони целиком.
– Эт! Ты руки-то убери!
Сопля потряс банкой, отчего крохотный эльф свалился и стукнулся головенкой о стенку. Потом он сунул банку под полу и пошел в сторону дирекции, задевая шапкой жестяные козырьки навесов.
Семен перелез через прилавок и крикнул:
– Да что же делается?! Воруют уже средь бела дня!
Соседи по прилавку превратились в болванчиков с отпущенными нитками – стояли, глазами хлопали, внутренне радовались чужому унижению. Сопля невозмутимо удалялся.
– Эй! Харя!
Сопля продолжал уходить. Эльф в банке попробовал вылететь, но опять стукнулся о стекло.
– Тьфу! Да и пошел ты! Щенок! Трус! Сопляк!
Такого оскорбления Эдуард Иванович не вынес. Он повернулся, сделал четыре шага, подкинул банку с эльфом и запустил в голову обидчику.
Машина «скорой помощи» долго пыталась протиснуться к рыночным воротам. Наконец встали как-то между бородатым дедом с гусями и бабой с крупами. Румяные, вонючие от табака санитары резво помчались в толчею. Принесли Семена с черным от крови лицом. Он лежал такой маленький, жалкий, вцепившийся в ниточку жизни. Шептал: «Убил… убил… убил». Хлопнули двери, распугала жирных воробьев сирена. Баба с крупой охнула и уселась на мешки.
Трупик эльфа, раскатанный коваными ботинками в лоскуты, пролежал в грязном снегу недолго – зашипел и превратился в ничто.
Сопля сидел в рюмочной. Перед ним стояла тарелка пельменей со сметаной, стопка, графинчик. Он налил стопку, выпил, с хрустом откусил пол-луковицы, пожевал, закинул в рот пельмень. Самое оно после физических упражнений да на морозце выпить ледяной водки под пельмешки. Настроение у Сопли вновь было превосходное. Солнце проплавило в ледяной корке на окне полынью. Раскаленные добела пылинки плавали в косом луче, взвихряясь прихотливыми протуберанцами. Сопля налил еще одну стопку, закусил, запил стаканом горького шипучего пива. Разжевал еще один пельмень и пошел отлить. Потом в туалетном предбаннике долго мыл руки, поскольку был он великий аккуратист.
Перед самым выходом Сопля заглянул в мутноватое зеркало. Вскочивший утром над губой прыщик почти уже созрел. А сразу под третьим писсуаром лежала толстая золотая цепь. Сопля резво обернулся и подошел к писсуару: на метлахской плитке распластана обертка от конфеты.
Сопля вернулся к зеркалу и опять всмотрелся в ненаглядный прыщик. Но глаза уже сами скосились на писсуар. Цепь! Цепяра толстенная! Лежит в пятне солнечного света – даже звенья можно разглядеть. Что за чертовня? Сопля опять подбежал к писсуару и даже заглянул в него. Ничего нет. Солнечный зайчик вдруг появился у Сопли на ботинке. Сполз с замши на пол, скользнул к выходу из туалета, замер на месте. Вот она! Толстая цепь, нездешняя, как из скифской усыпальницы, лежит на полу. Сопля наклонился над ней – цепь рассыпалась на солнечные пятна! Голова закружилась. Зайчики глумливо запрыгали по полу, вскочили на стену, подползли к зеркалу. С той стороны тупо смотрел мордастый юноша. Сопля подбежал к зеркалу, зацепившись ногой и вывернув плитку с куском бетона. Стекло превратилось в прямоугольное окошко, стремительно зарастающее какой-то серой изморозью. В окошко смотрел он сам, длинная нить слюны свисала на воротник. За спиной стоял бледный юнец и вытаскивал из его кармана кошелек. Второй юнец притоптывал в нетерпении у двери.
– Эй! – крикнул Сопля, ударив в окошко кулаком. – Эй там! Пацаны!
Увы, и его двойник, и тощие наркоманы совершенно ничего не видели сквозь зеркало. Сопля обернулся. Мир выцвел. Все покрылось черно-серой плесенью. С шипеньем истаивали и блекли краски. Он всплеснул руками – спортивный костюм мазнул в воздухе алым. Цвет сползал и с него, стремительными акварельными дымными струями. С визгом Сопля рванул на тусклый свет в проем двери. Снес плечом часть крошащейся стены, выбежал в огромную залу с мутным, взболтанным воздухом, стал посреди нее и взвыл совсем уж по-волчьи:
– Отче мой! Еже веси на небеси! Ну чего?! Пусть светится имя! Я больше не буду! Выпустите меня отсюда! Во имя Отца и Сына, аминь!
И дикая молитва помогла – в сажевой тьме Сопля увидел маленький квадратик живого цвета! Он пополз к нему сквозь какие-то осыпающиеся шершавые столбы. А тьма наливалась силой, высасывала реальность, уже и руки стали как стеклянные – кости видно. Того и гляди – растворится. Но – нет. Успел. Успел, чтоб ему сдохнуть! Протиснулся сквозь радужное окошко! А тьма зашипела бессильно да и сгинула. И он смеялся, смеялся до икоты, смеялся, пока сверху не опустилась трехлитровая банка.
Федор Чешко
Кое-что о закономерностях
Хорошо быть муравьем – коллективная ответственность. Беги себе по краю тарелки и воображай, что держишь курс на Полярную звезду…
А. Мирер
– Внимание! Три… два… один… разряд!
– Есть разряд. Контакт устойчивый, начинаю отслеживание.
* * *
Надоедливые гремучие отголоски не таких уж и дальних беспрестанных раскатов каким-то чудом умудряются корчить из себя тишину – всеподминающую, свинцовую, мертвую.
Улица-ущелье. Узкая – шагов с десяток – извивистая лента брусчатки, стиснутая серыми двух-трехэтажными фасадами; скуповатые количеством и размерами окна закрыты ставнями – плотно, вроде как судорожно; острые гребни высоких черепичных крыш притворяются этакими скальными гребнями на фоне сплошного полога буроватых, словно бы далекими пожарами подпаленных туч… И все это подернуто тяжким мутно-белым маревом – то ли каким-то болезненным нечистым туманом, то ли зримым воплощением несокрушимого страха, которым прямо-таки сочится эта оцепенелая улица, похожая на трещину в сплошном скальном монолите…
Хотя нет. Не вся улица сочится этим, а только один дом – там, впереди, близ недальнего поворота… А может, то и не поворот вовсе, может, продолжение улицы просто задрапировано плотным саваном белесого чада… Да-да, никакой это не туман – это чад. Плотными тягучими струями вытекает он из щелей меж створками запертых дверей и ставней, оплывает из-под кровельной нависшей закраины… Он горит, тот дом. Горит боязливо, украдливо, даже агонией своей боясь накликать на себя чье-то внимание… Чье?
А-а, вот оно!
Струйчатая дымная завеса мало-помалу начала будто из самой же себя вылепливать что-то массивное, угловатое, покуда еще неопределенное – не разобрать даже, одна ли это химера какая-то или много их там… Чувствуется только: то, что вылепливается – оно уродливое, смертельно опасное и как-то дико, не по-живому, живое. А гул далекой канонады уже раздавлен, подмят надсадными взревываниями, размеренным стальным лязгом, скрежетом, хамским сытым урчанием…
Уверенно, по-хозяйски прет оно, это достижение передового инженерного гения, наставив вдоль вымершей от бессилия улицы зияющую ноздрю орудийного хобота, кроша брусчатку неспешными жерновами ходовых траков, то и дело пуская в низкое кудлатое небо смрадные столбы выхлопов… А на плоском броневом лбу – черный крест, кокетливо отороченный белыми полосками, смахивающими на бельевое кружево; чуть выше креста – мертвая голова, череп то есть, вырисованный с преизрядным знанием прозекторского дела и с преизрядной же к этому делу любовью…
Эге, а улица-то, оказывается, затаилась отнюдь не от бессилия! Чуть приоткрылось окно на втором этаже одного из домов; меж ставнями промелькнул человеческий силуэт (серая гимнастерка, тусклый зеленый блик на округлом шлеме), и тут же что-то темное вылетело наружу, неуклюже укувыркалось за башню упоенного собственным могуществом бронемонстра… В следующий миг оттуда, из-за башни этой самой, хлестнуло грохотом, пламенем, мерзостной жирной копотью, и тяжелый штурмпанцертанк, вскрикнув сиреной, дернулся, сбился со своего неудержимо-всепобедного курса и беспомощно вломился окрестованным лбом в кирпичную кладку…
* * *
– Эксперимент номер триста восемнадцать выполнен. Тысяча девятьсот сорок первый год нашей эры, Витебск. Проникновение нормальное, контакт устойчивый.
– Хорошо. Продолжаем. Внимание на пульте! Три… два… один… разряд!
– Есть разряд. Контакт удовлетворительный, стойкий.
* * *
Пламя. Яркое, слепящее, радостное… прямо-таки праздничное. Настолько яркое, радостное и праздничное, что даже не сразу приходит в голову заинтересоваться: а что же это, собственно, горит?
А горит площадь. Верней сказать, не площадь, а постройки вокруг нее. Еще вернее – не постройки, а то, что от них осталось. И чему бы это так полыхать в ощетиненных арматурным ломом грудах бетонного крошева? Чудеса, да и только.
Единственное мало-мальски целое сооружение в обозримом пространстве – столб. Правда, торчит он под углом к линии горизонта градусов этак тридцать-сорок, но торчит же все-таки! И даже провода не все с него пооборваны, и даже изоляторы фарфоровые не все добиты.
И громкоговоритель на нем уцелел – поучает невесть кого сочным дикторским баритоном, бубнит себе и бубнит по-английски откуда-то чуть ли не с самого неба… Э-эх, небо… Линялое от пыли и многодневного жестокого зноя, пропитанное дымом да копотью, зализанное-выполосканное дрожащим пожарным маревом… Да разве же это небо?!
– …величайшее достижение за всю историю человечества, – распинается громкоговоритель. – Нам посчастливилось жить в эпоху, когда окончательно побеждена угроза не только глобального вооруженного противостояния, но и масштабных региональных войн. Даже локальные конфликты, которые в прошлом иногда тлели десятилетиями, поглощая сотни тысяч жизней, теперь мгновенно обуздываются скоординированными усилиями держав развитой истинной демокра…
Менторский баритон вдруг на полуслове перебился другим голосом – сипловатым баском с этакими холодными железными пролязгами; и заговорил этот новый голос вроде как тоже по-английски, но как-то слишком уж правильно:
– Внимание! Внимание! Обращение главнокомандующего миротворческим контингентом! Передвижение любых транспортных средств допускается только по заранее утвержденному графику и при наличии письменного разрешения за подписью главнокомандующего миротворческим контингентом. В случае выявления нарушителей имеется приказ открывать огонь на поражение. В случае неподчинения распоряжениям военнослужащих миротворческого контингента имеется приказ…
На доедаемые пламенем руины лавиной накатился гремучий механический рев. Вверху, меся лопастями дымную муть, завис хищный акулоподобный силуэт боевого вертолета с неестественно четкой ооновской эмблемой на поджаром серо-зеленом брюхе.
Из-под какой-то закопченной бетонной глыбы близ подножия столба немедленно выставился рубчатый окожушенный ствол зенитного ракетомета. Выставился, чирканул рубиновым бликом дискретного лазер-прицела точнехонько по вертолетному опознавательному знаку… Вот, собственно, и все, на что хватило невидимого-неведомого зенитчика. На борту вертолета замигали суетливые сполохи, и руины вокруг столба расплескались огнем, пылью, бетонными ошметьями…
* * *
– Эксперимент номер триста девятнадцать выполнен. Проникновение нормальное, контакт устойчивый. Между прочим, Эль-Нарис – это где такое?
– А ч-черт его… Плевать, с географией определимся потом. Дата?
– Тринадцатое августа две тысячи тридцать первого года нашей эры – это то есть послезавтра.
– Послезавтра? Ничего не скажешь, проникновение сверхсуперглубокое… Ну ладно. Внимание на пульте! Два… один… разряд!
– Есть разряд. И контакт есть… О боже! Ну и аппаратик мы изобрели – не тайм-пространственные контакты, а бред пожарного-трудоголика!
* * *
На этот раз полыхают сухие перестоявшиеся хлеба. Ревущие валы пламени океанским прибоем катятся от горизонта до горизонта, и точно такими же волнами порывистый ветер гонит над огненной жатвой вихри едкого чада. Иллюстрация к Стендалю: красное и черное. Мрак, подсвеченный заревом. И только солнце там, наверху, изредка проблескивает тусклой медной бляхой в смоляной гриве дыма. А тут, на земле, в исступленной пляске пожара мелькают призраки всадников. Черные всадники на черных конях – то ли впрямь так, то ли они прокопчены до полной одинаковости… Или эта черная одинаковость лишь мерещится в мешанине мрака и морочливого смутного света? Не черны лишь изогнутые хищные сполохи кровавого пламени во всаднических руках…
Алчный рев ненасытного пламени, пронзительные, рвущие душу вопли – кони ли плачут, горя живьем, люди ли давятся ликованием, убивая… Лязг стальных лезвий, на свирепых размахах сшибающихся в фейерверках огненных брызг (словно без того мало огня вокруг)… И во всем этом никак не хочет захлебываться тошнотворное чавканье живой плоти под тяжкими ударами кованого железа. Кто? Кого? За какие грехи? А сами-то они все это знают?
* * *
– Эксперимент номер триста двадцать выполнен. Проникновение нормальное, контакт устойчив. Тысяча пятьсот шестой год нашей эры, восток Приднепровья.
– Ну и баста на этом. Внимание! Три… два… один… разряд!
– Есть разряд. Контакт уст… А-а, черти б его!.. Вырубайте! Да скорей же, скорей!
– В чем дело?
– Считайте эксперимент номер триста двадцать один выполненным. Две тысячи восемьдесят третий нашей эры, Буркина-Фасо. Опять пламя на весь экран, и… и… К дьяволу! Сами потом посмотрите!
– Вот оно что… Ну, уразумел теперь, салага, отчего пульт-наблюдателей каждый день подменяют? Корвалолдина дать?
– Спасибо, уже не надо. А про подмены… Про подмены-то я давно уразумел, я другого понять не могу. На фига мы до сих пор возимся с этой «наработкой представительного массива данных в режиме случайных проникновений»? Триста с хвостиком экспериментов – куда ж еще массивнее-представительней?! Уже ж и слепому видно четкую закономерность: регулярное чередование плюс-и минус-проникновений, минусовая амплитуда устойчиво и значительно превышает плюсовую… Чего ж им там еще?..
– А-а, так ты у нас умный? Ну, иди тогда доложи свои умозаключения шефу. Что, прикусил язычишко? То-то! Ладно, отставить разговорчики. Внимание на пульте! Разряд!
– Есть разряд. Контакт устойчив.
* * *
Зеленовато-бурая равнина. Правда, «равнина» – это немного слишком, поскольку выгорелое разнотравье щерится в небесную голубизну густой россыпью белесых скальных обломков. В отдалении виднеется какое-то здание с колоннами и двускатной крышей.
День.
Полдень.
Ясный, безоблачный, мирный.
Точней, был бы он мирным-безоблачным – когда б не столб черного дыма, что на полнеба выпер из-под крыши ранее упомянутого здания (ибо здание это, конечно же, горит).
И еще толпа… Нет, наверное, это все-таки две толпы. Шлемы с высокими оперенными гребнями; одинаково вытемненные пóтом и пылью туники; всклокоченные мокрые бороды; голые руки и ноги – грязные, загорелые, волосатые… Кое-где – копья; кое-где – округлые размалеванные щиты… И везде – распахнутые в азартном вытье запекшиеся щербатые пасти.
Да, это все-таки две толпы. Небось какое-то время назад они четкими шеренгами стояли одна против другой, потом шеренги постепенно согнулись в полукруги, а те постепенно же слились концами… Не вдруг, ох, до чего же не вдруг во всем этом разберешься: очень уж схожи они меж собой, эти воины двух враждебных отрядов.
В центре людского круга, любопытством и переживаниями слепленного из бывших шеренг… Там, в центре – двое. Оба они почти голые (только лоскутья грязной домотканины вокруг бедер да сандалии еще); оба со щитами (один с круглым, другой с овальным); у обоих непокрытые головы – смоляные с проседью кучери так и хлюпают пóтом… Лоснящиеся от усталости и крови торсы обоих буквально изувечены неестественно могучими мускулами. А на лицах – дико не соответствующая всему остальному баранья тоскливая обреченность.
Они сражаются. Поди, не первый уже и, может, не второй даже час. Замедленный, безнадежный какой-то размах тяжеленным плющеным куском меди (когда-то это, вероятно, был меч). Звонкий лязг удара – точнехонько по роже злобной бабы с гадючьём вместо патл, намалеванной на круглом щите. Несколько мгновений паузы: ударивший и ударенный восстанавливают равновесие. Затем новый размах, новый звонкий лязг – на сей раз по овальному щиту, краска на котором облуплена до полной нераспознаваемости рисунка.
Х-х-хек! – дзаннн! – уффф…
Х-х-хек! – дзаннн! – уффф…
Х-х-хек! – хрясь! – и громкий стон (не то боли, не то – что вероятнее – облегчения). Который-то из щитов не выдержал очередного удара, проломился, и рука, его державшая, наверное, тоже сломана. Травмированный поединщик падает на колени; победитель из последних сил картинно вскидывает к небу свое вконец обесформленное оружие… И тут же полтолпы бросается наутек. Остальные тоже бросаются – догонять. Между прочим, без особенной прыти – словно побаиваясь, как бы беглецам не взбрело в голову передумать.
* * *
– Эксперимент номер триста двадцать два выполнен. Проникновение нормальное, контакт устойчивый. Тысяча двести третий год до нашей эры. Юг Пелопоннеса. Ну вот, я же говорил: закономерность… Был плюс, теперь минус… И амплитуда…
– Меньше болтай.
– Может, все-таки хватит? Ну, объясните шефу: только-то ведь и пользы, что рискуем перегрузить какой-нибудь блок. Вот как выйдет что-нибудь из строя… А на следующей неделе, между прочим, госкомиссия приезжает.
– Меньше болтай, слышишь?! Разряд!
– Есть разряд. Контакт устойчивый, мать его…
– Гляди, доболтаешься!
* * *
Дождь. Нудный, тоскливый. Вокруг лес, земля завалена мокрым палым листом. К мохнатым от бурого мха стволам громадных деревьев лепятся какие-то халупы, смахивающие на кучи гнилого хвороста. Некоторые из них развалены, две-три горят – вяло, трескуче, но довольно упорно.
И точно так же вяло-трескуче горит на небольшой полянке костер-огнище. Вокруг него сидят четверо… четверо… наверное, все же людей. По голым жилистым спинам хлещут дождевые струи, кудлатые животы почти облизывает костровое пламя – четверым огнищанам плевать. Им спокойно и уютно. Они отдыхают. После тяжких трудов. Что были у них за труды такие – это и дураку понятно. Неясно только, местные ли это защитники-победители или не местные и не защитники.
Лица, уродливо размалеванные сине-красными полосами да белыми пятнышками; на шеях – ожерелья из звериных клыков (вот и вся одежда)… Один из огнищан расслабленно опер волосатый подбородок на поставленную торчком массивную палицу, конец которой обляпан чем-то засохшим, ржаво-рыжим. Другой из четверки внезапно по-собачьи задергал носом, принюхиваясь; подхватил с земли полуобгорелую головню, заворочал ею в огне… А-а, вон в чем дело: там что-то брошено прямо на жар, бранчливо отплевывающийся от дождевых капель.
Сосредоточенно сопя, голый размалеванный огнищанин переворачивает своей головней изрядный кус обугленного мяса, похожий на… очень-очень похожий на…
* * *
– Ну вот, я же предупреждал… Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от того никаких послед…
– Опять разговорчики?! Р-распоясался, салабон сопливый! А ну рапортовать по форме!
– Слушаюсь! Эксперимент номер триста двадцать три выполнен. Проникновение нормальное, контакт устойчивый. Место – где-то, где сейчас Антверпен, почти центр. А вот дата… Таймер вышел из строя. Я же предупрежд…
– Отставить! Что показывает таймер?
– Две тысячи двести восемнадцатый…
– Ну, так чего ж ты задергался, дурачок? «Четкую закономерность» свою пожалел? Вот тебе и чередование, осел. И вот, осел ты ослиный, для какой-такой надобности нарабатываются массивы случайных данных. Статистика, приятель, – это тебе не хвост от собачки. Триста раз – закономерность, а на тристанадцатом эксперименте получай: минус вместо плюса, и вся четкость кувыр…
– Я, конечно, извиняюсь, но вы не дослушали. Именно с закономерностью-то как раз полный порядок.
– Но ведь дата…
– Говорю же, не дослушали. Две тысячи двести восемнадцатый НАШЕЙ эры. Может… Может, все-таки проверить таймер? Может, это все-таки он?








