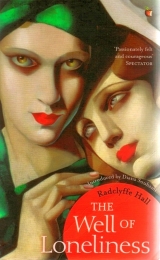
Текст книги "Колодец одиночества"
Автор книги: Маргарет Рэдклифф-Холл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц)
Рэдклифф Холл
Колодец одиночества
Нам всем троим
Примечание автора
Все персонажи этой книги полностью вымышлены, и если автор использует имена, которые могут иметь отношение к живущим людям, это сделано непреднамеренно.
Механизированная медицинская часть, состоявшая из британских женщин-водителей, сослужила хорошую службу на союзном фронте Франции в последние месяцы войны, но, хотя упомянутый в книге отряд, в который поступает Стивен Гордон, действует практически в той же местности, он никогда и нигде не существовал, кроме воображения автора.
Книга первая
Глава первая
1
Неподалеку от Аптона-на-Северне – то есть между ним и Мэлвернскими холмами – находится поместье Гордонов из Брэмли; достаточно много там деревьев, и коттеджей, и изгородей, и воды – последнее достигается тем, что ручей, протекающий через нее, расположен именно так, чтобы подпитывать два больших озера в ее окрестностях.
Сам дом выстроен из красного кирпича в стиле короля Георга, с очаровательными круглыми окнами под крышей. Он исполнен достоинства и гордости без рисовки, уверенности без надменности, покоя без инертности; и нежного уединения, которое для того, кто постиг его душу, только прибавляет ценности этому дому. Он напоминает одну из тех милых женщин, которые, состарившись, принадлежат к уже ушедшему поколению – в молодости они были страстными, но благовоспитанными; их трудно было покорить, но, если это удавалось, они щедро дарили счастье. Теперь они уходят, но их жилища остаются, и одно из таких жилищ – Мортон.
В Мортон-Холл вошла невестой леди Анна Гордон, когда ей едва минуло двадцать лет. Она была хороша собой так, как бывают только ирландки, осанка выдавала в ней спокойную гордость, глаза выдавали сильные желания, тело выдавало обещание счастья – архетип совершенной женщины, той, которую Творец счел хорошей. Сэр Филип встретил ее в далеком краю, в графстве Клэр – Анну Моллой, тоненькую девушку, воплощение чистоты – и его усталая душа склонилась к ней на грудь, как птица, выбившись из сил, прилетает в свое гнездо – как однажды, по ее словам, к ней действительно прилетела птица, чтобы укрыться от бури.
Сэр Филип был высок ростом и исключительно привлекателен, но его очарование было обязано собой не столько чертам лица, сколько его выражению – оно выдавало в нем свободу мысли и терпимость, которую можно было назвать благородной – и несколько печальному, но отважному взгляду его глубоко посаженных глаз орехового цвета. На его твердом подбородке была совсем маленькая ямочка, у него был лоб мыслителя и каштановые волосы с рыжеватым отливом. Широкие ноздри выявляли бурный темперамент, но губы были красивыми, чувственными и пылкими – они раскрывали в нем мечтателя и любовника.
Ему было двадцать девять, когда они поженились, и в свое время он немало погулял, но верный инстинкт Анны побуждал ее довериться ему полностью. Ее опекун невзлюбил его и был противником помолвки, но в конце концов она настояла на своем. И, судя по дальнейшим событиям, ее выбор был удачным, ибо редко бывает, чтобы двое любили друг друга больше, чем они; их пылкость в любви не уменьшалась со временем; когда они обретали зрелость, их любовь зрела вместе с ними.
Сэр Филип и не подозревал, насколько он хотел иметь сына, до тех пор, пока, лет десять спустя после женитьбы, его жена не осознала, что готовится стать матерью; тогда он понял, что это значило для него исполнение всех желаний, которого оба они так долго ждали. Когда она рассказала ему об этом, он не мог найти слов, лишь обернулся к ней и разрыдался у нее на плече. Ему ни на миг не приходило в голову, что Анна может подарить ему и дочь; он видел ее лишь матерью сыновей, и ее предупреждения не могли поколебать его. Он окрестил еще не рожденного ребенка Стивеном, потому что восхищался мужеством святого Стефана. Он не был инстинктивно религиозным, возможно, потому, что в нем было слишком много от ученого, но он читал Библию как превосходный литературный памятник, и святой Стефан затронул его воображение. Поэтому он часто обсуждал будущее их ребенка: «Я подумываю о том, чтобы послать Стивена в Хэрроу» или: «Было бы неплохо, чтобы Стивен заканчивал учебу за границей, это расширяет кругозор».
И, слушая его, Анна тоже прониклась этим убеждением; на фоне его уверенности поблекли ее смутные тревоги, и она представляла, как играет с маленьким Стивеном в детской, в саду, среди сладкого аромата лугов. «Вот у нас какой милый молодой человек, – говорила она, вспоминая мягкую ирландскую речь своих крестьян. – А в глазах у него звездный свет, а в сердце – храбрость льва!»
Когда ребенок шевелился внутри нее, она считала, что он так сильно толкается, потому что в ней прячется отважное создание мужского пола; тогда ее дух наполнялся вдруг могучей смелостью: ведь у нее родится ребенок, который станет мужчиной. Она сидела, положив шитье на колени, а ее глаза устремлялись к длинной череде холмов, простиравшихся за долиной Северна. Из своего любимого кресла под старым кедром она глядела на красоту холмов Мэлверна, и их волнистые уклоны, казалось, обретали новое значение. Они были совсем как беременные женщины с полным чревом, огромные, смелые, увенчанные зеленью матери великолепных сыновей! Все летние месяцы она сидела и смотрела на холмы, и сэр Филип сидел рядом с ней – так сидели они, рука об руку. И потому, что она чувствовала благодарность, она много подавала бедным, а сэр Филип ходил в церковь, что обычно он делал нечасто, а викарий приходил на ужин, и до последнего дня немало матрон приходили помочь Анне добрым советом.
Но человек предполагает, а Бог располагает, и случилось так, что в канун Рождества Анна Гордон разрешилась от бремени дочерью; маленьким младенцем, похожим на головастика, с узкими бедрами и широкими плечами, который все вопил и вопил, три часа без передышки, будто разъяренный тем, что его выбросили в эту жизнь.
2
Анна Гордон приложила своего ребенка к груди, но, пока он кормился, ей было горько за своего мужа, который так хотел сына. И, видя ее горе, сэр Филип скрыл свою печаль, он приласкал ребенка и осмотрел его пальчики.
– Какая рука! – сказал он. – Надо же, уже есть ногти на всех десяти пальчиках: такие маленькие, красивые, розовые ноготки!
Тогда Анна вытерла глаза и поцеловала маленькую ручку.
Он настаивал на том, чтобы назвать ребенка Стивен, и никак иначе, и собирался крестить ее этим именем.
– Мы так долго звали ее Стивен, – сказал он Анне, – что я, право, не вижу причин, почему бы нам не продолжать это делать…
Анна колебалась, но сэр Филип упорствовал, как бывало с ним под влиянием прихоти.
Викарий сказал, что это довольно необычно, и, чтобы умаслить его, пришлось добавить и женские имена. Ребенок был окрещен в деревенской церкви, получив имя Стивен Мэри Оливия Гертруда – и она росла крепенькой, а когда у нее отросли волосы, они стали каштаново-рыжеватыми, как у сэра Филипа. На ее подбородке тоже была ямочка, такая крошечная, что сначала казалось, это просто тень; а через некоторое время, когда ее глаза перестали быть голубыми, как у щенков и прочих маленьких существ, Анна увидела, что эти глаза должны были стать ореховыми – и подумала, что даже их выражение точь-в-точь как у отца. Она была довольно смирным ребенком, несомненно, благодаря своему крепкому сложению. Не считая первого энергичного протеста после появления на свет, она кричала довольно мало.
Дитя было счастьем для Мортона, и старый дом, казалось, смягчался, когда ребенок, быстро подрастая и обучаясь ходить, ковылял, спотыкался и ползал по полам, которые издавна помнили шаги детских ножек. Сэр Филип приходил домой после охоты, весь в грязи, и, не успев снять сапоги, сразу бежал в детскую – и вот он уже стоит на четвереньках, а Стивен забирается ему на спину. Сэр Филип притворялся, что это ему не по душе, брыкаясь, подскакивая и лягаясь, так что Стивен приходилось цепко держаться за его волосы или за воротник, и колотить его маленькими упрямыми кулачками. Анна, привлеченная необычайной суматохой, обнаруживала их и говорила, показывая им грязь на ковре:
– Хватит, Филип, хватит, Стивен! Пора пить чай, – как будто оба они были детьми. Тогда сэр Филип поднимался и распутывался со Стивен, а потом целовал ее матушку.
3
Сын, которого они ждали, слишком задержался в пути; он не появился и тогда, когда Стивен исполнилось семь. Нового отпрыска женского пола Анна также не произвела на свет, так что Стивен оставалась одна, как конек на крыше. Вряд ли стоит завидовать единственному ребенку, ведь он склонен к тому, чтобы углубиться в себя; не имея рядом никого из тех, кто похож на него, чтобы довериться ему, он приучается доверяться лишь себе. Нельзя сказать, чтобы в семь лет ум был занят серьезными проблемами, но, однако, он уже пробирается ощупью, может быть, уже подвержен некоторым приступам недовольства, может быть, уже пытается разобраться в жизни – ограниченной жизни своего окружения. В семь лет уже в миниатюре являются любовь и ненависть, которые, однако, кажутся огромными и внушают большую тревогу. Может даже присутствовать смутное чувство неудовлетворенности – Стивен часто осознавала в себе это чувство, хотя и не могла облечь его в слова. Чтобы справиться с ним, она время от времени поддавалась внезапным вспышкам, приходя в ярость из-за повседневных мелочей, которые обычно оставляли ее равнодушной. Топнуть ногой и разразиться слезами, едва ей начинали перечить – это приносило ей облегчение. После подобных вспышек она чувствовала себя куда бодрее и почти без труда вновь становилась смирной и послушной. Смутно, по-детски она отвечала на удары жизни, и это возвращало ей уважение к себе.
Анна посылала за своим буйным отпрыском и говорила:
– Стивен, милая, мама не обижается – расскажи, почему ты так вспылила; мама обещает, что постарается понять, если ты только расскажешь…
Но ее глаза казались холодными, хотя голос мог быть мягким, и ее рука, когда ласкала ребенка, казалось, делала это робко и неохотно. Она как будто делала усилие над собой, и Стивен это сознавала. Когда Стивен поднимала глаза на это спокойное, милое лицо, ее охватывало внезапное раскаяние, глубокое чувство собственной ущербности; она так хотела бы взять и высказать его своей матери, но ее покидал дар речи, и она не говорила ни слова. Ведь обе они, как ни странно, стеснялись друг друга – почти нелепой была эта застенчивость между матерью и ребенком. Анна это чувствовала, и через ее посредство это начинала сознавать и Стивен, какой бы маленькой она ни была; поэтому они держались друг с другом слегка отстраненно, в то время как должны были льнуть друг к другу.
Стивен, остро чувствующая красоту, неосознанно хотела выразить свое чувство, почти доходившее до обожания, которое будило в ней лицо матери. Но Анну, когда она пристально глядела на дочь, отмечая ее пышные рыжеватые волосы, смелые ореховые глаза, так похожие на глаза ее отца, как и выражение лица, и поведение ребенка, вдруг заполняла неприязнь, даже похожая на гнев.
Она просыпалась по ночам и ломала голову над этим чувством, казня себя в приступе раскаяния, обвиняя себя в том, что она черствая, что она не настоящая мать. Иногда она проливала тягучие горькие слезы, вспоминая Стивен в те времена, когда та еще не владела речью.
Она думала: «Ведь я должна гордиться, что она на него похожа, я должна смотреть на нее с гордостью, с радостью и счастьем!» – а потом ее снова затопляла эта странная неприязнь, почти доходящая до гнева.
Анне казалось, что ей изменял рассудок, ведь это сходство между дочерью и мужем шокировало ее, как оскорбление – бедная, ни в чем не повинная семилетняя Стивен была для нее чем-то вроде карикатуры на сэра Филипа; несовершенным, недостойным, искаженным подобием – и все же Анна знала, что ее ребенок красив. Но иногда нежное тело ребенка бывало ей почти отвратительно; ее раздражало, как Стивен двигается или как стоит, раздражало, что она такая крупная, что ей не хватает какой-то грации в движениях, раздражало в ней какое-то бессознательное упрямство. Тогда ум матери возвращался к тем дням, когда это создание припадало к ее груди, заставляя полюбить себя за свою полную беспомощность; и при этой мысли снова ее глаза наполнялись слезами, ведь она была из породы преданных матерей. То чувство, что подползало к ней, как неприятель под покровом темноты, было медленным, хитроумным, мертвящим, и это чувство росло и крепло вместе с самой Стивен, потому что в каком-то смысле оно было частью Стивен.
Беспокойно ворочаясь с боку на бок, Анна Гордон молилась о том, чтобы Бог просветил и наставил ее; молилась, чтобы ее муж никогда не заподозрил о том, что она чувствует к его ребенку. Он знал все о ней, все ее прошлое и настоящее; ни одного секрета у нее не было, кроме этой неестественной и чудовищной несправедливости, которая пересиливала ее волю настолько, чтобы победить ее. А сэр Филип любил Стивен, он боготворил ее; как будто по наитию, он разгадал, что ее дочь втайне была обделена, что она несла какое-то незаслуженное бремя. Он никогда не говорил с женой о таких вещах, но, когда она видела отца и дочь рядом, день ото дня в ней крепла уверенность, что в его любви к ребенку было нечто очень близкое к состраданию.
Глава вторая
1
Примерно в это время Стивен впервые осознала настоятельную потребность любить. Она обожала своего отца, но это было совсем другое; он был частью ее самой, он всегда был рядом, она не могла представить мир без него – это было совсем не так, как с горничной Коллинс. Она была, что называется, «второй из троих» и однажды могла надеяться на повышение. Пока что это была цветущая девушка, у нее были полные губы и полная грудь, довольно пышная для ее двадцати лет, но глаза у нее были необычайно голубые и манящие, очень милые и любопытные глаза. Стивен два года видела, как Коллинс подметает лестницу, и проходила мимо, почти не замечая ее; но однажды утром, вскоре после того, как Стивен исполнилось семь лет, Коллинс подняла глаза и вдруг улыбнулась; в эту самую минуту Стивен поняла, что любит ее – ошеломляющее открытие!
Коллинс вежливо сказала:
– Доброе утро, мисс Стивен.
Она всегда говорила «доброе утро, мисс Стивен», но на этот раз это прозвучало обольстительно – настолько обольстительно, что Стивен захотелось прикоснуться к ней, и, довольно нерешительно протянув руку, она погладила ее по рукаву.
Коллинс схватила ее руку и посмотрела на нее.
– Господи, – воскликнула она, – до чего же грязнющие ногти!
После чего их владелица залилась багровым румянцем и умчалась вверх по лестнице, чтобы привести их в порядок.
– Положите сейчас же ножницы, мисс Стивен! – раздался непреклонный голос няньки, когда ее подопечная принялась за свой туалет.
Но Стивен твердо ответила:
– Я чищу ногти, потому что Коллинс они не нравятся – говорит, они грязные!
– Какая наглость! – заметила нянька, изрядно раздраженная. – Не худо бы ей заняться собственными делами!
Убрав наконец в безопасное место огромные швейные ножницы, миссис Бингем отправилась на розыски оскорбительницы; она не собиралась ни от кого терпеть вмешательства, способного уронить ее достоинство. Она нашла Коллинс на верхнем пролете лестницы и тотчас же принялась распекать ее – «ставить на место», по ее определению; она взялась за дело так добросовестно, что не прошло и пяти минут, как «вторая из троих» узнала обо всех своих недостатках, способных помешать ее повышению.
Стивен застыла в дверях детской. Она чувствовала, как колотится ее сердце от гнева и от жалости к Коллинс. Та не отвечала ни слова, стоя на коленях, как будто онемевшая, подняв щетку, слегка приоткрыв рот и с довольно испуганными глазами, и, когда она осмелилась наконец заговорить, ее голос казался скромным и боязливым. Она была робкой по природе, а острый язык няньки был известен всем в доме.
Коллинс заговорила:
– Я мешаюсь в ваши дела с ребенком? О, нет, миссис Бингем, никогда! Уж я-то, надеюсь, свое место знаю. Мисс Стивен сама мне показала, какие у ней грязные ногти; она сказала: «Коллинс, ты только погляди, правда, они ужас какие грязные?» А я сказала: «Вы бы лучше спросили няню, мисс Стивен». Разве так мешаются в чужие дела? Я не из таковских, миссис Бингем.
Ах, Коллинс, Коллинс, с такими милыми голубыми глазами и такой чудесной соблазнительной улыбкой! Глаза Стивен расширились от удивления, а потом затуманились от внезапных слез разочарования, ведь даже хуже, чем малодушие Коллинс, была ужасная несправедливость этой лжи – и все же сама эта несправедливость, казалось, притягивала ее к Коллинс, ведь, презирая ее, она все равно могла ее любить.
До конца дня Стивен мрачно размышляла над низостью Коллинс; и все-таки до конца дня она не могла без Коллинс, и, как только замечала ее, ловила себя на том, что улыбается, и сама, в свою очередь, была неспособна собраться с силами и нахмуриться, чтобы выказать ей свое неодобрение. А Коллинс тоже улыбалась, если нянька не смотрела, и поднимала вверх свои пухлые красные пальцы, показывая на свои ногти и строя гримасы за спиной удаляющейся няньки. Глядя на нее, Стивен чувствовала себя несчастной и смущенной, не столько из-за себя, сколько из-за Коллинс; и это чувство так разрасталось, что от одной мысли о нем Стивен бросало в жар.
Вечером, когда Коллинс готовила стол к чаю, Стивен удалось остаться с ней наедине.
– Коллинс, – прошептала она, – ты сказала неправду, я ведь не показывала тебе свои грязные ногти!
– Ясное дело, нет, – шепнула в ответ Коллинс, – но надо же мне было что-нибудь сказать – вы же не возражаете, мисс Стивен, правда?
И, когда Стивен с сомнением подняла на нее глаза, Коллинс вдруг наклонилась и поцеловала ее.
Стивен застыла, онемев от безраздельной радости, все ее сомнения были напрочь сметены. В эту минуту она не знала ничего, кроме красоты и Коллинс, и они были одним целым, и этим целым была Стивен – и все же это была не Стивен, но что-то более широкое, для чего семилетний ум не мог найти слов.
Няня пришла, ворча:
– Поторопились бы вы, мисс Стивен! Что вы здесь стоите, будто умом тронулись? Сходите умойте лицо и руки, а потом идите пить чай – сколько раз вам говорить?
– Не знаю, – пробормотала Стивен. И действительно, она не знала; в эту минуту она ничего не знала о подобных пустяках.
2
С этих пор Стивен вступила в совершенно новый мир, который вращался вокруг Коллинс. Мир, полный постоянных волнующих приключений, полный воодушевления, радости, невероятной печали, но все равно этот мир был прекрасным местом, куда летишь, как мотылек, увивающийся за свечкой. Дни шли, один за другим, то взлетая, как качели, высоко над верхушками деревьев, то падая в бездну, но редко останавливаясь на середине. И вместе с ними взлетала и падала Стивен, цепляясь за веревки этих качелей; она просыпалась по утрам с легкой дрожью волнения – того волнения, которое по праву принадлежало дням рождения, или Рождеству, или поездкам на пантомиму в Мэлверн. Она открывала глаза и поскорее выскакивала из кровати, еще слишком сонная, чтобы вспомнить, откуда в ней это воодушевление; но потом ей приходило на ум, что сегодня, совсем скоро, ей предстоит увидеть Коллинс. Эта мысль заставляла ее поскорее бултыхнуться в ванну, спешить, застегивая пуговицы, так, что они отрывались, и чистить ногти так энергично и беспощадно, что они потом болели.
Она становилась невнимательной на уроках, грызла карандаш и глядела в окно, и, что еще хуже, не слушала ничего, кроме шагов Коллинс. Нянька била ее по рукам, ставила в угол, лишала варенья, но все без толку; Стивен только улыбалась, храня свой секрет – Коллинс стоила любых наказаний.
Она становилась беспокойной, и ее нельзя было уговорить сидеть тихо, даже когда нянька читала вслух. Когда-то ей очень нравилось чтение, особенно из книжек про героев, но теперь эти истории так будоражили ее честолюбие, что она стремилась пережить их сама. Теперь она, Стивен, хотела быть Вильгельмом Теллем, или Нельсоном, или всем отрядом, который атаковал Балаклаву; и потому немало было разграблено в нянькином мешке для лоскутков, немало было раскопано костюмов, что когда-то использовались для игры в шарады, немало было похвальбы и шума, важной походки и картинных поз, и немало было глядено в зеркало. Все это повлекло за собой бурный период, когда детская выглядела как после землетрясения; стулья и пол были завалены всякой всячиной, разбросанной после поисков Стивен. Нарядившись, она уходила с важным видом, повелительно отстраняя няньку, и всегда на поиски Коллинс, которую она отыскивала в подвальном этаже.
Иногда Коллинс подыгрывала, особенно когда Стивен изображала Нельсона.
– Батюшки, да ты чудо как хороша! – восклицала она, потом обращалась к поварихе: – Поглядите, миссис Вильсон! Разве мисс Стивен не похожа на мальчика? Должно быть, она и вправду мальчик, у ней же такие широкие плечи и такие смешные ножки!
И Стивен серьезно отвечала:
– Да, конечно же, я мальчик. Я молодой Нельсон, и я не ведаю слова «страх». Знаешь, Коллинс, я просто обязана быть мальчиком – ведь я чувствую себя совсем мальчиком, совсем как молодой Нельсон на картине в верхнем этаже.
Коллинс смеялась, и миссис Вильсон тоже, а когда Стивен уходила, они разговаривали, и Коллинс, бывало, говорила:
– Маленькая чудачка она у нас, все время наряжается и разыгрывает роли – такая смешная!
Но миссис Вильсон, бывало, высказывала неодобрение:
– Не нравятся мне все эти глупости, это не для юной леди. Мисс Стивен совсем не такая, как другие юные леди – нет в ней разных там миленьких черточек, такая жалость!
Иногда, однако, Коллинс была хмурой, и напрасно Стивен наряжалась Нельсоном. «Не отвлекайте меня, мисс, у меня полно работы» – или: «Идите, покажитесь няне – да, я знаю, что вы мальчик, но мне работать надо. Бегите-ка».
И Стивен прокрадывалась наверх, растеряв всю свою важность, чувствуя себя странно несчастной и пристыженной, она срывала с себя одежды, в которые так любила облачаться, чтобы сменить их на те, которые она ненавидела. Как же она ненавидела эти платьица из мягкой материи, и шарфики, и бантики, и коралловые бусики, и ажурные чулки! В бриджах ее ногам было так свободно и удобно; а еще она обожала карманы, которые были для нее под запретом – по крайней мере, настоящие, полноценные карманы. Она мрачно расхаживала по детской, потому что Коллинс ею пренебрегала, потому что она сознавала, что все делает не так, потому что она так хотела быть кем-то настоящим, а не просто Стивен, которая играет в Нельсона. В припадке гнева она могла подойти к шкафчику, и, доставая кукол, начинала их мучить. Она всегда презирала эти идиотские создания, которые, тем не менее, прибывали к ней с каждым Рождеством и днем рождения.
– Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! – бормотала она и колотила по их невинным личикам.
Но однажды, когда Коллинс ответила ей грубее обычного, ее вдруг охватило раскаяние.
– Это из-за колена моего, – призналась она Стивен. – Ты тут ни при чем, милая моя, просто у меня «колено домработницы».
– А это опасно? – испуганно спросил ребенок.
Коллинс, верная своему общественному классу, сказала:
– Может быть. Это может кончиться жуткой операцией, а я не хочу никакой операции.
– Это как? – спросила Стивен.
– Ножом меня будут резать, – всхлипнула Коллинс, – взрежут, чтобы воду выпустить.
– Ох, Коллинс! Какую воду?
– В коленной чашечке у меня вода – если надавите, то увидите, мисс Стивен.
Они стояли вдвоем в просторной детской спальне, где Коллинс, прихрамывая, стелила постель. Это был один из тех редких и прекрасных случаев, когда Стивен могла общаться со своей богиней без помех, потому что нянька ушла отправлять письмо. Коллинс закатала грубый шерстяной чулок и показала пострадавшее место; колено было все в нарывах, распухшее, такое некрасивое, но глаза Стивен сразу наполнились взволнованными слезами, когда она притронулась к нему пальцем.
– Тише вы! – воскликнула Коллинс. – Видите эту впадину? Там и есть вода! – и добавила: – Это так больно, что я с ног валюсь. Все из-за того, что полы я натираю, мисс Стивен; не надо было мне натирать полы.
Стивен серьезно сказала:
– Я хочу, чтобы это было у меня – хочу забрать у тебя боль в колене, Коллинс, чтобы терпеть ее вместо тебя. Я хотела бы ужасно мучиться за тебя, Коллинс, как Иисус мучился за грешников. Если я очень буду молиться, как ты думаешь, я могу заразиться? Или, может, надо потереть мое колено о твое?
– Господь вас благослови! – рассмеялась Коллинс. – Это же вам не корь; нет, мисс Стивен, это от того, что я по полу ползаю.
Весь вечер Стивен ходила задумчивая, она открыла «Библейские истории для детей», изучала взглядом рисунок, изображающий Господа на кресте, и чувствовала, что понимает Его. Раньше Он был для нее загадкой, потому что сама она боялась боли – когда она расшибала коленки в саду на дорожке из гравия, не всегда было легко сдержать слезы – а Иисус все-таки решился терпеть боль ради грешников, в то время как мог просто созвать к себе ангелов! О да, она долго не могла понять, в чем с Ним дело, но теперь понимала.
Когда пришло время ложиться в постель, и мать, по обыкновению, пришла послушать, как Стивен читает молитву, этой молитве недоставало убежденности. Но, когда Анна поцеловала ее и погасила свет, тогда Стивен начала молиться по-серьезному – с таким пылом, что с нее тек пот, в настоящем исступлении:
«Пожалуйста, Иисус, даруй мне «колено домработницы» вместо Коллинс – сделай это, ну сделай, Господи! Прошу тебя, Иисус, я хотела бы терпеть всю эту боль вместо Коллинс, так, как Ты, и не нужны мне никакие ангелы! Я хотела бы омыть Коллинс в своей крови, Господи – я очень хотела бы стать Спасителем для Коллинс – я люблю ее, и я хочу, чтобы мне было больно, как Тебе; пожалуйста, милый Иисус, разреши мне! Пусть у меня в колене будет вода, чтобы мне вместо Коллинс сделали операцию. Пусть мне сделают, ведь она боится, а я – ничуточки!»
Эти просьбы она повторяла, пока не заснула, и ей снилось, что она каким-то странным образом стала Иисусом, и что Коллинс на коленях целовала ей руку, потому что она, Стивен, сумела исцелить ее, отрезав ее больное колено перочинным ножиком и заменив его на собственное. В этом сне были перемешаны восторг и неловкость, и он длился довольно долго.
На следующее утро она проснулась с восторженным чувством, которое приходит лишь в минуты совершенной веры. Но, тщательно изучив свои колени в ванной, она нашла, что в них нет никакого изъяна, не считая старых шрамов и засохшей коричневой ссадины от недавнего падения – это, конечно, очень разочаровывало. Она содрала корку на ссадине, и от этого было слегка больно, но, конечно же, это не было настоящее «колено домработницы». Однако Стивен решила не сдаваться так легко и продолжать молитвы.
Больше трех недель она молилась, вся в поту, и каждый день изводила бедную Коллинс бесконечными вопросами: «Твоему колену еще не лучше?» «Тебе не кажется, что у меня распухло колено?» «У тебя есть вера? У меня-то есть…» «Тебе уже не так больно, Коллинс?»
Но Коллинс всегда отвечала одинаково: «Нет, не лучше, спасибо вам, мисс Стивен».
Когда кончалась четвертая неделя, Стивен вдруг оборвала молитву и сказала Господу: «Ты не любишь Коллинс, Иисус, но я-то люблю, и у меня все равно будет «колено домработницы». Еще увидишь!» После этого, немножко испугавшись, она добавила, уже смиреннее: «То есть я этого правда хочу – а ты ведь не возражаешь, Господи?»
Пол в детской был покрыт ковром, что не совсем подходило для Стивен; если бы там был паркет, как в гостиной и кабинете, он бы лучше послужил для ее цели. Но все равно тяжело было стоять на коленях достаточно долго – так тяжело, что после двадцати минут ей приходилось скрипеть зубами. Это было куда хуже, чем ободрать ногу в саду; даже хуже, чем содрать ссадину! Нельсон иногда помогал ей. Бывало, она думала: «Сейчас я Нельсон. Я в гуще битвы при Трафальгаре, и меня ранили в оба колена». Но потом она вспоминала, что именно это мучение на долю Нельсона не выпадало. И все равно было хорошо, что она страдает – Коллинс явно становилась ей ближе от этого; Стивен казалось, что Коллинс принадлежит ей по праву этих усердных страданий.
На старом ковре в детской были бесчисленные пятна, и Стивен делала вид, что оттирает эти пятна; тщательно стараясь воспроизводить движения Коллинс, она двигалась взад-вперед со слабыми стонами. Когда она наконец поднималась с ковра, ей приходилось придерживать левую ногу, и она хромала, все еще со стоном. В ее чулках появились огромные дыры, через которые были видны ее пострадавшие колени, что влекло за собой упреки: «Прекратите ваши глупости, мисс Стивен! Стыд и срам, как вы рвете чулки!» Но Стивен мрачно улыбалась и продолжала «глупости», любовь гнала ее к открытому непослушанию. На восьмой день, однако, Стивен пришло в голову, что Коллинс нужно бы показать свидетельство ее преданности. Ее колени в то утро особенно пострадали, так что она захромала на поиски ничего не подозревающей горничной.
Коллинс уставилась на нее:
– Боже милосердный, что это? Чем вы таким занимались, мисс Стивен?
Тогда Стивен сказала, не без простительной гордости:
– Я стараюсь, чтобы у меня было «колено домработницы», как у тебя, Коллинс! – И, поскольку у Коллинс был глупый и довольно ошарашенный вид: – Понимаешь, я хотела разделить твои страдания. Я много молилась, но Иисус не слушал меня, так что приходится зарабатывать «колено домработницы» по-своему – я не могу больше ждать, пока Иисус соберется!
– Тише! – прошептала Коллинс, весьма шокированная. – Не надо так говорить: это дурно, мисс Стивен.
Но она невольно улыбнулась, а потом вдруг горячо обняла ребенка.
И все-таки Коллинс тем же вечером собрала все свое мужество и заговорила с нянькой о Стивен.
– У нее все коленки были красные и распухшие, миссис Бингем. Представляете, какая она чудачка? Молится про мое колено. Вот это да! А теперь, скажите на милость, пытается себе заработать такое же! Если это не настоящая любовь, то я ничего на свете не смыслю, – и Коллинс тихо рассмеялась.
После этого миссис Бингем поднялась в полный рост, и добровольные мучения Стивен насильственно прекратились. Коллинс, с ее стороны, было приказано отвечать ложью на дальнейшие расспросы Стивен. И Коллинс благородно лгала:
– Мне лучше, мисс Стивен, это, верно, от ваших молитв – видно, Иисус вас услышал. Ему ведь жалко было ваши бедные коленки – совсем как мне, когда я их увидела!
– Ты мне правду говоришь? – спрашивала ее Стивен, все еще сомневаясь, все еще помня первый день своих юных любовных грез.







