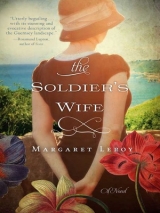
Текст книги "Жена солдата (ЛП)"
Автор книги: Маргарет Лерой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Глава 16
Бланш накрыла чайный стол. Все просто безупречно. Она положила лучшие льняные салфетки, продетые в серебряные кольца, подаренные ей с Милли на крестины. В хрустальной вазе стоят розы из нашего сада.
– К чему все это? – спрашиваю ее я. – Я имею в виду, все очень мило, но бывает у нас так редко…
– Мама, тебе не нравится?
– Нравится, очень прелестно, – отвечаю я. – Спасибо.
У нее на губах играет нетерпеливая, полная надежды улыбка.
– Вообще-то, повод есть, – говорит она мне. Ее голос немного заискивающий, сладкий как мед. – Я хотела спросить, могу ли уйти сегодня вечером.
– Уйти? Конечно, ты не можешь уйти. Не после того, как наступит комендантский час. Нет, Бланш. О чем ты вообще думала?
– Дело в том… – Она замолкает. – В Ле Брю сегодня будут танцы, – продолжает она. Слышу в ее голосе неуверенность. – Нас с Селестой пригласили.
Думаю о Ле Брю – большом белом доме Губертов, стоящем рядом с церковью. У него шикарный двойной фасад, широкие ровные газоны и шептуны-тополя. Недавно, проезжая мимо, я видела расположившихся на его территории немцев.
– А кто именно организует танцы? – спрашиваю я. – Мне казалось, что мистер и миссис Губерт уплыли с острова. Я думала, что Ле Брю реквизирован.
Бланш задерживает дыхание, словно готовится глубоко нырнуть.
– Дело в том, мама, что это… Кое-кто пригласил нас. Он сказал, что вечер будет приятным. Будут танцы. Ты же знаешь, как я люблю танцевать. Что такого может случиться? – говорит она.
– Кое-кто – это кто именно, Бланш?
Вижу, как она сглатывает. На щеках проступают розовые пятна.
– Его зовут Томас Крейцер.
– Крейцер?
– Ему нравится Селеста, – быстро продолжает она. – Он пришел в магазин, где она работает. Хотел починить часы.
Я смотрю на нее и не могу поверить в то, что слышу.
– Так значит, немцы устраивают танцы?
– Селеста говорит, что Томас всегда очень вежлив. Правда, мама. Он против войны. Он думает, что Великобритания и Германия должны быть союзниками, ведь мы так похожи. Он говорит, что мы не такие, как другие нации.
Я ничего не отвечаю.
– Он хотел стать учителем английского, – говорит она. – В этом же нет ничего плохого, да? Это ведь хорошо, да? Хотеть стать учителем. Ведь он не виноват в том, что случилось, мама.
Я поражена тем, что мы говорим об этом.
– Бланш, ты собираешься выйти во время комендантского часа. Тебя застрелят, – говорю я.
– Да нет же. – В ней присутствует та лихость, что так свойственна молодости, когда ты уверен, что с тобой ничего не может произойти. – Томас нас отвезет. Томас говорит, что все будет хорошо. – Бланш подходит ближе ко мне, берет за запястья своими настойчивыми пальчиками. – Мама, парни и девушки хотят просто хорошо провести время. Это всего лишь танцы. Что может быть в этом плохого?
– Нет, Бланш. Ты не можешь пойти.
– Но Селеста не пойдет без меня. – Она откашливается. – Я обещала ей, мама. – Она внезапно находит новый аргумент в попытке переубедить меня, апеллируя к непреложности обещаний. – Я же должна выполнять свои обещания, да? Ты всегда говорила, что это очень важно…
– А что говорит мама Селесты? – спрашиваю я.
– Да. Определенно, – говорит Бланш. – Я знаю, она согласится. Я хочу сказать, ведь сейчас у нас не так много веселого происходит в жизни.
– Бланш, ты, конечно же, никуда не пойдешь. И я удивляюсь, как тебе вообще пришло в голову о таком спрашивать. Ты подвергаешь себя опасности. Разговор окончен.
Сейчас она уже понимает, что я не уступлю. Вижу, как в ней пробуждается гнев.
– Ты никогда мне ничего не разрешаешь. – У нее пронзительный голос. – Обращаешься со мной, как с ребенком.
– Сейчас непростые времена, Бланш. И тебе это известно. Ты не можешь всегда делать то, что хочешь.
– У меня теперь есть работа, мама. Ты не можешь обращаться со мной так, будто мне все еще три года.
– Да, Бога ради, Бланш, идет война.
– Это ваша война, – говорит она. – Не наша. Эта дурацкая, дурацкая война…
– Ну, с этим нам придется смириться, – говорю я.
Мельком замечаю Милли, стоящую с открытым ртом в дверях. Она зачарована, потрясена.
Глаза Бланш сверкают.
– Мы не должны с этим мириться. – Она выплевывает слова. – Все должно быть не так. Мы должны были уплыть на том корабле. Все было бы совершенно по-другому, уплыви мы на том корабле. Тогда у меня была бы жизнь. – Горестно.
Ее слова ранят, потому что в них есть доля правды. Наверное, нас не должно быть здесь. Все доплыли до Уэймута. Может быть, я поступила трусливо. Может быть, мне следовало быть храбрее. На той развилке, когда ты выбираешь тот или иной путь, все происходит так быстро. И пути назад не существует.
– Бланш, я приняла лучшее решение, на которое была способна.
Я жду, что она поймет, хочу оправдаться перед ней.
– Но оно не было правильным, мама. Что же это за жизнь такая, быть запертой здесь, на Гернси.
– Я стараюсь, чтобы мы просто были в безопасности.
– Это ведь все, что тебя беспокоит, да? Быть в безопасности, – говорит она. В ее глазах горят синие факелы. – Ты не заботишься о том, чтобы жить… Ты не можешь всегда держать меня взаперти. Это моя жизнь.
– Бланш…
– Я ненавижу эту дурацкую, дурацкую войну. – По ее лицу текут слезы. – Это всего лишь танцы, – говорит она и убегает вверх по лестнице.
* * *
Чай готов и стоит на безукоризненно накрытом столе, но Бланш все еще остается в своей комнате. Стучусь к ней, но она говорит: «Уходи». Судя по голосу, она все еще плачет. Решаю оставить ее на некоторое время и позволить ей спуститься, когда она будет готова.
– Бланш нет, – говорит Эвелин.
– Ей нездоровится, – объясняю я.
Я рада, что Эвелин не слышала нашей ссоры. Если бы она стала ее свидетельницей, то тут же принялась бы раздавать мне советы: что с этими девчонками надо разговаривать строго; что я не должна терпеть того, что Бланш огрызается; что детям нужна дисциплина и они должны твердо знать, что позволительно, а что нет
Милли заговорщицки смотрит на меня из-под ресниц. Сегодня она ведет себя просто отлично; у нее на личике восторженное выражение паиньки. Она наслаждается настолько незнакомой ролью дочери, которая ведет себя лучше старшей сестры.
После чая я читаю Милли сказку на ночь про девушку, которая вышла замуж за очень страшное существо. Такое страшное, как дикобраз. А ночью он скинул свой плащ из иголок и превратился в прекрасного молодого человека.
Мне всегда нравилась эта сказка, но сейчас я читаю ее механически, не задумываясь над словами. В голове все крутятся слова Бланш: «Это ведь все, что тебя беспокоит, да? Быть в безопасности. Ты не заботишься о том, чтобы жить…»
Задумываюсь, не права ли она (может, это у меня недостаток такой), вспоминая, как я впервые приехала на Гернси. Я приняла то, что жизнь здесь стала для меня ограниченной, простой. Я согласилась жить в тихом уединении среди долин. Жить со своими розами, фортепьяно, поэтическими книгами.
Во мне всегда была тяга к изоляции, к жизни в небольшом замкнутом помещении. Я настолько застенчива, настолько недоверчива к чужакам, что во мне есть потребность защищаться от незнакомых мне людей. Но в глубине души я понимаю, что это замкнутое помещение, каким бы желанным оно ни было, скоро станет тюрьмой.
Бланш не спускается, как она обычно это делает, чтобы послушать половину сказки и полистать старый «Vogue».
Послушав молитву Милли и уложив ее, я иду к комнате Бланш. На этот раз я зайду и поговорю с ней, чтобы она ни сказала. Я не люблю, когда мы в ссоре. Я очень хочу все уладить, ведь у нее было достаточно времени, чтобы остыть.
Стучу, но ответа нет.
– Бланш?
Приоткрываю дверь и снова зову ее. В ответ – тишина.
Вхожу в ее комнату.
О Боже. Нет.
Комната пуста. Сердце отзывается глухим стуком – окно распахнуто настежь. Из него можно выбраться, спустившись на крышу сарая, а оттуда в сад. Никто тебя не увидит.
Не могу поверить, что она поступила наперекор мне. Я так зла на нее и так за нее боюсь.
Глава 17
Пульс просто зашкаливает, меня переполняет отчаяние. Все, о чем могу думать, – я должна найти ее, вернуть и держать ее здесь, чтобы она была в безопасности.
Эвелин с Милли уже спят, я могу их оставить. Свет уже сгущается, по углам дома собираются тени, и я вспоминаю, что сказал мне капитан Рихтер: «Вы знаете про комендантский час. Не ставьте нас в трудное положение».
Я вижу его жесткие губы, узкие, как порез от лезвия. Но я прогоняю эту мысль. Я могу пройти к Ле Брю через поля, и меня никто не увидит. Я найду ее и приведу обратно домой.
Пересекаю дорогу, иду через свой фруктовый сад, вдоль кромки леса. Поля рядом с лесом принадлежат Питеру Махи. Я иду по узкой тропинке, ведущей через его земли.
Небо окрасилось густым ультрамарином, и в сумерках незатененные участки полей кажутся блеклыми, почти бесцветными. Снующие повсюду кролики абсолютно черные, как будто сделаны из темноты, а у подножия разваливающегося сарая Питера приютилась тень, похожая на глубокий омут.
Подойдя к полю около Ле Брю, я слышу музыку, льющуюся над притихшей землей, подобно развернувшемуся рулону яркого шелка. «I’ve Got You Under My Skin». Меня поражает, что мы слушаем одну и ту же музыку, – мы и эти люди, с которыми мы воюем. Почему-то я не ожидала подобного.
У подножия Ле Брю изгородь с кованой калиткой, которая ведет в сад. Я следую взглядом вдоль пологого склона лужайки, который ведет к задней части дома, где располагаются изящные французские окна и терраса.
Проскальзываю в калитку, тихо поднимаюсь между цветочными бордюрами по саду. Повесили свои тяжелые головки георгины, в сумерках побледневшие до молочного оттенка. Ароматы сада окутывают меня.
У подножия террасы я останавливаюсь. Отсюда я могу заглянуть внутрь: плотные шторы беспечно раздвинуты. Я пристально вглядываюсь в освещенную комнату. Это большая гостиная, протянувшаяся вдоль задней части дома.
Миссис Губерт бывало приглашала сюда весь приход после рождественской службы: отведать яблочного гоша и вина с пряностями и обсудить дела на острове. Комната сильно изменилась: чтобы освободить место для танцев, ковер свернули, а мебель отодвинули к стенам.
На буфете стоят бутылки с кларетом и изящные, ярко искрящиеся хрустальные бокалы. Несколько пар танцует.
Все мужчины – одетые в форму немцы, все девушки – местные. Один из мужчин заводит граммофон. Селеста тоже здесь, танцует чарльстон с высоким немецким юношей. Должно быть, это Томас, ее приятель.
На ней платье насыщенного, роскошного василькового цвета; оно сделано из какой-то блестящей материи, которая от ее движений шевелится и переливается. У нее на лбу неярко поблескивает пот. Все в ней блестит.
Сначала я не вижу Бланш, но потом нахожу ее у рояля, который откатили к стене. Она беседует с крепким молодым человеком, который пристально на нее смотрит. На ней платье из тафты, одна из двух хороших пар чулок, и ее любимое коралловое ожерелье. Ее губы очень красные: она накрасила их помадой, которую я ей купила.
Бланш держит в руках бокал вина, хотя и не привычна к спиртному. Время от времени она отпивает вино маленькими, торопливыми глотками, проводя пальцем вверх и вниз по ножке бокала. Она выглядит разрумянившейся и испуганной, и счастливой. И напоминает мне олененка, который может вздрогнуть и унестись прочь.
Я стараюсь представить себе, как вхожу туда, чтобы сказать, что ей нужно идти домой. Я вижу, что ошибалась, думая, что смогу так поступить, думая, что это было бы правильно. Я понимаю, что гнев и страх оставили меня.
Чувствую себя немного глупо от того, что думала подобное. Я еще немного наблюдаю за ней, и меня захватывает чувство, накрывает, словно рыбацкая сеть, – непонятное, горько-сладкое, чуть-чуть похожее на печаль, но не совсем.
Мои глаза наполнились слезами. Мысленно я услышала ее слова: «Ты не можешь все время держать меня здесь. Это моя жизнь». Я знаю этот миг – миг, с которым сталкивается каждая мать. Миг, когда дочь покидает тебя, когда она шагает в поток, вступает в собственную жизнь.
И так много в этот миг неправильного: наши обстоятельства – оккупация, война. И все-таки это должно случиться. Теперь она должна делать собственный выбор. Я знаю, что мне следует отпустить ее, что я не могу ее остановить, не должна ее останавливать.
В комнате мужчина перед граммофоном встает на колени, чтобы сменить пластинку. Еще одна песня Коула Портера – «Night and Day». Еще больше пар выходит на середину комнаты, хотя Бланш все так же разговаривает с юношей около рояля.
Я еще немного наблюдаю за танцующими. Если я немного прикрою глаза, комната превратится в лихорадочное, яркое пятно, цветной калейдоскоп. Я не смогу различить вражескую форму, все те детали, которые так раздражают, – всего лишь танцующие юноши и девушки.
Тихо иду обратно через темнеющие луга, в моей голове продолжает звучать музыка. В небе надо мной восходит луна, а ночной ветер в лесной листве похож на глубокий, долгий вдох.
Глава 18
Вхожу в свой сад, иду между притихшими старыми деревьями, чьи ветви уже сгибаются под тяжестью наливающихся фруктов. Наконец-то я в безопасности: здесь меня никто не увидит. Нужно только пересечь дорогу, и я дома.
– Миссис де ла Маре.
Голос за спиной застает меня врасплох. Я не слышала шагов.
Я так перепугалась. Все страхи, которые я стараюсь подавить, вцепляются в меня из ночной темноты.
Поворачиваюсь на месте.
– Миссис де ла Маре, – повторяет он.
Это один из мужчин из Ле Винерс. Не капитан Рихтер, который предупреждал меня насчет комендантского часа. Другой, тот, которого я встретила в переулке, со шрамом. Его лицо находится в тени, и я не могу видеть его выражения. Сейчас он стоит, но, должно быть, он сидел на пне, когда я шла мимо, вот почему я его не заметила. Все знаки отличия на его форме стерла темнота.
– Ох, – говорю я
Я закусываю губу, чтобы она перестала дрожать. Надеюсь, ему не видно моего страха. Я отчаянно не желаю, чтобы он его видел.
– Вам не следует находиться на улице, миссис де ла Маре. Уже десять. Наступил комендантский час, – говорит он.
– Я знаю. Мне действительно жаль. Но мне было необходимо кое-что сделать.
Меня трясет. Я думаю: «Почему он здесь, в моем саду? Он меня ждал?» Эти вопросы пугают меня. Заставляю себя дышать, втягивая в себя всю прохладную сладость ночного воздуха.
– Что бы это ни было, оно могло подождать, – говорит он. – Существуют наказания. Вам не следует забывать об этом.
Я впиваюсь ногтями в ладони, чтобы удержаться от дрожи. Я думаю: «Может, если я объясню, может, тогда он не будет сердиться».
– Я ходила в Ле Брю, – говорю я. – Где танцы. Там моя дочь.
Он молчит. Ждет. Я слышу далекое журчание воды в маленьком ручье в Белом лесу и в потоке, что бежит вдоль дороги. И слышу его дыхание и тихий щелчок, когда он прочищает горло.
– Я прошла через поля, – рассказываю я, – и думала, что никто не увидит. – Я не стану, возможно, просто не смогу, объяснять, что произошло. – Я хотела увидеть, где она. Хотела знать, что она в безопасности.
Слова вылетают из меня, голос дрожащий и пронзительный.
– Ваша дочь Бланш? – спрашивает он.
– Да.
Я в замешательстве от того, что он знает ее имя, как будто он что-то у нас украл. Но, конечно, выглядывая из окон Ле Винерс на наш двор, он должен был нас видеть, должен был слышать, как я с ней разговариваю. Мысль о том, что он за нами наблюдает, тревожит меня. Я задумываюсь о том, что еще он узнал о нас.
Белый лунный свет льется вокруг; под деревьями лежит густая тьма, украшенная по краям словно вырезанными из бумаги силуэтами листьев. Я не могу видеть выражения его лица, и не думаю, что он видит мое. Когда он поворачивается ко мне, его лицо полностью в тени.
– Вам не надо за нее волноваться. Один из ребят отвезет ее домой в конце вечера, – говорит он.
Я чувствую его взгляд.
– Дело в том… ей всего четырнадцать, – говорю я. – Я была недовольна тем, что она ушла. Ей не следовало идти. – Потом я думаю, зачем я это сказала. Показав свою слабость, показав, что моя дочь меня ослушалась. – Я просто хотела убедиться, что с ней все хорошо… – Мой слабый голос стихает.
– И что же вы увидели в Ле Брю? – спрашивает он.
Я думаю: «Что же я увидела?» Я думаю о Селесте в ее васильковом платье, от которого разливается сияние; о Бланш, облокотившейся на рояль, разрумянившейся, немного испуганной; о молодых людях в форме. О том, как это красиво – и неправильно. Все эти мысли путаются у меня в голове, сбивая меня с толку. Я ничего не отвечаю.
– Надеюсь, то, что вы увидели, вас не сильно встревожило, – говорит он. В его голосе проскальзывает веселье.
– Они танцевали, – глупо отвечаю я.
– У Стефана много пластинок, – говорит он. – Стефану нравится Коул Портер.
Я замечаю, что он специально для меня называет юношу по имени. Не по званию и фамилии. Это необычно, я понимаю, что это своего рода уступка.
– Может, сигарету? – предлагает он.
Он достает пачку «Gauloises» и предлагает мне одну. Это меня пугает. Потом я думаю: «Если бы мне грозили неприятности, стал бы он предлагать мне закурить? Возможно, он не собирается делать ничего слишком ужасного».
Я не решаюсь. Я знаю, что не должна принимать от него ничего. Но здесь, в темноте сада, это не кажется важным. Всего лишь сигарета. Когда я ее беру, у меня все еще дрожат руки, и я знаю, что он это видит.
Он достает зажигалку и наклоняется; его лицо так близко к моему. Он неуловимо пахнет днем: кожей, потом, прокуренными комнатами, в которых он был. Сложенной ладонью он закрывает огонек от ночного ветерка. В отсвете пламени его кожа на мгновение кажется пугающе красной. Я вижу выступающие вены, бледные волоски на тыльной стороне его рук.
Обычно я курю «Craven A». Я затягиваюсь и кашляю, как девчонка. Мне неловко.
– Слишком крепко для вас? – спрашивает он.
– Нет, нормально, – отвечаю я.
Я рада вкусу табака на губах, на языке. Дым поднимается между нами, словно дыхание зимним утром.
– Ваш муж воюет, миссис де ла Маре?
– Да.
– Я тоже женат, и у меня есть сын, – говорит он мне. – Герман. – Его голос теплеет, смягчается. В нем слышится нежность. Я удивлена тем, что он так много мне рассказывает. – Он воюет. Служит в Люфтваффе. Ему семнадцать лет, всего на три года больше, чем Бланш.
– Он кажется слишком юным, чтобы воевать. Мне всегда кажется, что… семнадцать – это так мало, – говорю я.
– Да, это мало.
– Должно быть, вы очень им гордитесь, – продолжаю я, не задумываясь. Так всегда говорят, когда кто-то упоминает о сыновьях в армии. А потом на меня наваливается вся бестактность моего замечания. Его сын – сын, которого он любит так сильно, что его голос смягчается, когда он произносит его имя, – этот сын сбрасывает бомбы на наши аэродромы. У меня такое чувство, будто я что-то предала.
Он смотрит на меня, как будто пытается прочесть по моему лицу, о чем я думаю.
– Да, я им горжусь, – говорит он. – Мы все гордимся своими детьми, не так ли, миссис де ла Маре?
– Да.
Он слегка двигается, и я слышу, как скрипят его сапоги и хрустят сухие яблоневые листья под его ногами. Вокруг нас носится летучая мышь, слишком маленькая, чтобы ее можно было разглядеть по-настоящему, смутная, как не до конца оформившаяся мысль.
– Когда вы в последний раз видели мужа? – спрашивает он.
– Он записался в армию в прошлом сентябре, – отвечаю я. – Несколько месяцев назад он приезжал домой в отпуск. Но не думаю, что снова увижусь с ним… пока война не закончится.
– Вы, должно быть, скучаете по нему.
– Да.
Я набираю в рот воздуха, как будто собираюсь что-то добавить, но останавливаюсь.
Чувствую, что он как-то по-своему истолковал мою запинку. Тишина, накрывшая нас, пугает меня. Я хочу, я должна ее нарушить, но не знаю, что сказать. Ни одна тема не кажется безопасной.
– Сейчас очень непростое время, – говорит он. – Для всех нас.
– Да, – соглашаюсь я благодарно. – Да, непростое.
Лунный свет ненадолго освещает его, и я вижу шрам на его лице. В моей голове возникает непрошеная мысль: мне ужасно любопытно, каким будет этот шрам на ощупь. Задумавшись, я словно ощущаю кончиками пальцев другую текстуру там, где растянутая кожа тонкая и гладкая. Я чувствую внезапный прилив желания – он так некстати, что его неправильность заставляет меня задохнуться. Вокруг нас сотней тихих голосов поют ручьи.
– Мое имя Гюнтер Леманн. Но вы можете называть меня Гюнтер, – говорит он.
Как будто мы еще будем разговаривать. «Но мы не будем», – убеждаю я себя. Этого больше не повторится.
Я знаю, он ожидает, что я скажу ему свое имя. Но я и так уже слишком многое выдала.
– Я должна идти, – говорю я ему.
– Да. Конечно, – отвечает он.
Я оставляю его и его сигарету там, под моими яблонями. Чувствую на себе его взгляд, пока пересекаю дорогу, которая сияет в лунном свете, словно река. Мое тело кажется неуклюжим, непривычным, как будто его неправильно соединили. Миновав ворота, я рада оказаться в знакомом сумраке своего дома.
* * *
Сижу на кухне и жду Бланш. Свет не включаю, просто сижу и жду. По комнате скользит лунный свет. В его холодной белизне обычные вещи выглядят по-другому, словно они ненастоящие.
Некоторое время спустя я слышу медленные мужские шаги, пересекающие дорогу, идущие за угол к воротам Ле Винерс. Интересно, о чем он думал все это время, пока курил в моем залитом лунным светом саду.
Наконец, слышу в переулке машину. Слышу, как Бланш весело желает спокойной ночи, как хлопает дверца автомобиля. Бланш тихо входит в дом, снимает у двери свои туфли, аккуратно ставит их. Она не видит меня.
– Бланш.
Она вздрагивает и оборачивается. Она словно боится, что я ее ударю, хотя я никогда раньше ничего подобного не делала.
Включаю свет. Она жмурится от того, что внезапно вокруг стало так ярко.
– Тебе не следовало уходить, поскольку я тебе не разрешала, – говорю я. – Ты поступила неправильно.
Она кивает. Молчит. У нее озадаченный вид. Все пошло не так, как она ожидала.
– Понравились танцы? – спрашиваю я.
– Вполне, – осторожно отвечает она. Чувствую исходящий от нее запах вина и смутный аромат французских сигарет. Ее жесты несвязные, рваные, глаза блестят слишком ярко. Ее губы и зубы окрашены темным шелковичным цветом от выпитого вина. – Это было немного забавно – разговаривать с немцами.
– Да, – отвечаю я. – Да. Вижу, что это так.
– Хотя, думаю, к этому можно привыкнуть, – говорит она мне. – Спустя какое-то время, ты перестанешь считать это странным.
Я ничего не отвечаю.
– Я познакомилась с другом Томаса, его зовут Карл, – рассказывает Бланш. – Он из Берлина. Он рассказал мне, как погибла его младшая сестра, грустная история. Это случилось во время бомбардировки. Он показал мне ее фотографию, я не могла поверить, что она мертва. У нее были такие маленькие косички… – Она осторожно проводит рукой по лицу, словно его выражение может ее удивить. – Он пытался сдержать слезы, когда рассказывал.
– Бланш, ты никогда больше не выйдешь из дома, не предупредив меня, – говорю я.
– Да, – отвечает она. – Да, я понимаю. Прости меня.
– Я должна знать, где ты находишься. Если ты снова захочешь сходить на танцы, мы это обсудим.
– Да, – говорит она. – Да, конечно.
Она поворачивается, чтобы скорее добраться до своей спальни, пока я так сговорчива.
* * *
Отношу Эвелин ее утренний чай и тосты. Она сидит в кровати в своем розовом шелковом халате с прямой, как тростник, спиной, ждет. Вокруг витает запах торжества, ей не терпится что-то рассказать мне.
– Кое-кто вчера поздно вернулся домой. Птичка на хвосте принесла, – говорит она.
Я тут же представляю, что она видела меня с капитаном Леманном в саду. Меня охватывает чувство вины.
– Кое-кто поздно пришел. Я слышала машину в переулке… Не удивлена, что ты выглядишь встревоженной, Вивьен.
Ощущаю некоторое облегчение. Окна Эвелин выходят на дорогу, возможно, ее разбудил шум автомобиля.
– Это Бланш уходила, – говорю ей я. – Она ходила на танцы. Она молода, ей нужно выходить.
– Надеюсь, она не делала того, чего не должна была.
Я улыбаюсь в ответ на эту старомодную фразу.
– Уверена, что не делала, – говорю я. – Она была вместе с Селестой, своей подругой. Ты же знаешь, как Бланш любит танцевать.
Эвелин некоторое время молчит. Ее глаза стекленеют. Нить разговора ускользнула от нее.
– Кое-кто поздно пришел, – повторяет она.
– Да. Но все в порядке, – отвечаю я.
– Вокруг такая путаница. Я сбита с толку, Вивьен. А я не люблю, когда меня сбивают с толку.
– Постарайся не переживать, – говорю ей я.
Эвелин берет чашку. Дрожит ее рука – дрожит и чай в чашке.
– Куда мы катимся, Вивьен? Чем все закончится?
На это мне нечего ответить.








