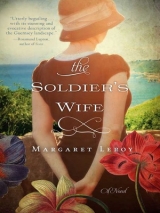
Текст книги "Жена солдата (ЛП)"
Автор книги: Маргарет Лерой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Глава 42
Дни стали длиннее. По моему саду гуляет свежий весенний ветерок, обрывая лепестки, так что землю под деревьями замело белым. Я ухаживаю за огородом.
Окучиваю картошку. Втыкаю подпорки из орешника для гороха и стручковой фасоли и накрываю их сеткой, чтобы защитить от голубей. Собираю салат-латук и редис и сажаю капустную рассаду, которую вырастила из семян.
Я постоянно пропалываю овощи: весной сорняки растут очень быстро. Я начинаю разводить кур. Купила у Гарри Тостевина молоденьких курочек – «Род-айланд», с каштановыми перышками и хитрыми оранжевыми глазками. Джонни помог мне построить вольер в конце сада, там, где наш участок огибает Ле Винерс.
К своему удивлению обнаруживаю, что получаю настоящее удовольствие от куриц: мне нравятся звуки, которые они издают, когда шумят, переговариваются, беспокоятся; нравится собирать яйца, бледно-коричневые и хранящие тепло гнезда в моей ладони. Милли помогает мне с яйцами и дает курицам экстравагантные имена из своих книжек: Рапунцель, Золушка.
Энжи дает мне урок по приготовлению курицы, учит ощипывать и потрошить ее. Я знаю, что могу накормить свою семью, и это наполняет меня теплым чувством удовлетворения.
В мае мы слышим, что на Лондон совершен чудовищный авианалет, говорят, погибло больше трех тысяч человек. Я очень боюсь за Ирис и ее семью. Вспоминаю об ужасах бомбардировки Сент-Питер-Порта, и думаю о том, что там подобное происходит каждую ночь, повсюду.
О людях, пойманных в огненной буре или скрывающихся в подземке, прислушивающихся к разрушениям наверху и при каждом падении бомбы думающих: «Это в мой дом?» Глаза Бланш наполняются слезами, когда она слышит новости.
– Бедные, несчастные люди, – говорит она.
Поднимаюсь на холм, иду навестить Энжи. Сегодня прохладное майское утро, и во всех садах, мимо которых я прохожу, на веревках хлопает влажное белье, а в воздухе стоит пудровый, ностальгический аромат постепенно распускающихся тугих бутонов сирени.
Энжи возится с ниткой у себя на рукаве и старается не встречаться со мной глазами.
– Я хочу сказать тебе кое-что, – говорит она. – Чтобы ты услышала все от меня.
Мне интересно, о чем пойдет речь.
– Это про моего брата Джека, – объясняет она. – Значит, тебе еще никто не рассказывал?
– Нет, Энжи. Зачем?
Она прочищает горло.
– Дело в том, что… он работает на них. Понимаешь, о чем я? – Ее голос негромкий и хриплый. – Он работает на аэродроме.
– Ну, все мы вынуждены как-то справляться, – отвечаю я.
– Честно говоря, он этим не гордится. Но ему надо кормить малышей.
Я слышу в ее голосе мольбу. Она отчаянно хочет, чтобы я простила, не возражала.
– Конечно, надо, – говорю я. – Конечно, это самое главное.
– У него подрастает четверо детей, и почти нет земли. Не думай о нем плохо, Вивьен.
– Конечно, я не стану плохо о нем думать. Нам всем приходится искать способы выжить. Всем.
Но она, кажется, не слышит меня. Наверное, она неправильно поняла выражение моего лица, увидела в нем какую-то напряженность, хотя я думаю не о Джеке, а о себе. Но я не могу сказать ту единственную вещь, которая утешила бы ее.
– Я знаю, что есть люди, которые осуждают его. Существуют гадкие прозвища для таких, кто делает то, что делает Джек, – говорит она. – И, честно говоря, это можно понять. Когда слышишь новости из Лондона, самое ужасное чувство в мире – понимать, что человек, которого ты любишь, способствует этому.
Минуту я ничего не отвечаю и не смотрю на нее. Человек, которого я люблю, уж точно способствует.
– Я не стану осуждать его, Энжи. Правда.
Но что-то во мне беспокоит ее, я ее не убедила.
Иногда, работая в вольере для кур, я вижу других немцев в саду Ле Винерс. Забор там низкий, и мы можем видеть друг друга. Кажется, белокурый и розовощекий Ганс Шмидт – садовник, хотя все, что он делает, стрижет траву и время от времени подрезает ветки.
Когда он работает в саду, к нему приходит Альфонс, и Ганс начинает с ним возиться: он встает на колени и чешет ему между ушей, отчего кот мурчит и изгибается от удовольствия.
Иногда в теплые дни на лужайке сидит Макс Рихтер с книгой в руках. Он заставляет меня чувствовать себя неуютно, несмотря на всю его доброту во время болезни Милли. Он наблюдательный. Я знаю, что он ничего не пропускает.
Когда он видит в саду Милли, он машет ей рукой. Однажды, когда она прыгает через скакалку, а я кормлю кур, он зовет ее.
– Милли, смотри, что я тебе покажу.
Она идет к нему. Он протягивает к ней руки над калиткой. Его ладони неплотно сложены вместе, и я вижу, как между его пальцев трепещут крылышки бабочки.
– Какое красивое создание, – говорит он.
– Она называется бабочка, – отвечает она несколько свысока.
– А есть у этой бабочки специальное название? – спрашивает он.
Он немного разводит ладони, чтобы Милли могла рассмотреть. Милли заглядывает между его пальцами. Солнце сверкает на его ботинках и на пистолете, висящем на ремне.
– Это репейница, – говорит ему Милли. – Они прилетают из самой Африки. Мне мамочка рассказывала.
– Забавное название.
– Я как-то видела медведицу. У них на крыльях полоски, как у тигра.
– На вашем острове красивые бабочки.
Милли слегка хмурится, глядя на его ладони.
– Вам надо быть аккуратным, чтобы не навредить ей, – говорит она.
– Да, я буду аккуратным.
– А там, откуда вы приехали, есть бабочки? – спрашивает Милли.
Он улыбается:
– Да, у нас есть бабочки.
Они еще минуту смотрят на бабочку, склонив свои темные головы. Волосы мужчины коротко подстрижены, у Милли волосы длинные и растрепанные и падают ей на лицо. Солнце освещает их обоих.
Я наблюдаю за ними и думаю обо всех людях, погибших в Лондоне, о душераздирающей скорби, о разбитых невинных жизнях, и никак не могу совместить это в своем сознании, не могу понять.
– Думаю, вам следует отпустить бабочку, – весьма укоризненно говорит Милли. – Им не нравится быть пойманными вот так. Дикие создания не любят быть пойманными.
– Да, конечно, ты права, – отвечает он. – Но я был осторожен, чтобы не повредить ее.
Он раскрывает ладони. Бабочка лениво порхает прочь. Милли возвращается к своей скакалке.
Позже я слышу разговор дочек.
– Я тебя видела, – говорит Бланш. – Видела, как ты разговаривала с тем немцем из соседнего дома.
– У него была бабочка. Он мне показал, – отвечает Милли.
– Бабушка станет тебя ругать, если увидит, что ты разговариваешь с немцами.
Милли пожимает плечами.
– Бабушка нас не видела, – просто говорит она. – И кроме того, он не немец, он Макс.
Глава 43
Июнь. Однажды ночью, когда Гюнтер приходит ко мне, я понимаю: что-то изменилось. Должно быть, он много выпил. Его глаза слишком ярко блестят, его руки слишком неловки, от кожи исходит запах алкоголя. И есть в его лице что-то такое: изнуренное, побежденное.
Обычно мы сразу идем наверх. Но в коридоре он притягивает меня к себе, забыв, где мы находимся. Его поцелуй настойчив, словно он хочет спрятаться во мне, у него вкус спиртного. Кожа прохладная и влажная на ощупь. Я отчаянно пытаюсь завести его в свою комнату, тяну его к лестнице, беспокоясь о том, что он может споткнуться и разбудить Бланш или Милли.
Оказавшись в комнате, я запираю дверь и испуганно поворачиваюсь к нему.
– Что? Что произошло?
Моя первая мысль о Германе, его сыне. Я холодею от страха: что-то случилось с Германом.
Гюнтер отвечает не сразу. Он снимает китель, затем ремень. Садится на мою кровать, снимает ботинки. Его движения тяжелые и медленные, лоб прорезает глубокая морщина.
– Фюрер объявил войну России, – говорит он.
В его голосе слышна многозначительность, как будто он ожидает, что я тут же пойму множество вещей, следующих из этой фразы. Но я не понимаю значения этой новости ни для войны, ни для него или для меня.
Он проводит рукой по лицу, неуверенно, словно ему незнакомы собственные черты. Потом поднимает на меня глаза, полные неестественного блеска.
– Мы надеялись, что скоро все закончится. – Его речь немного неразборчива. – Но что теперь? Не знаю… Макс говорит, что теперь мы проиграем войну.
– Макс говорит что?
Я потрясена.
– Макс говорит все, что захочет. Макс ни в кого не верит. Макс никогда не верил, что те, кто стоит у власти, понимают, что делают.
– Но почему? Почему это значит, что Германия проиграет войну? – спрашиваю я.
– Война в Европе идет хорошо для нас, – говорит он. Словно не осознает, какая пропасть образуется между нами при этих словах. – Открывать второй фронт на востоке – безумие. А Россия… – Он качает головой, как будто у него нет слов, которые могут выразить, что он имеет в виду. – Россия победила много армий.
– Ох, – говорю я.
Все это кажется мне таким далеким, как на другой планете. Сказочная Россия, жестокая, почти дикая: убийство царской семьи, Толстой и Чайковский, яркие цветные купола собора Василия Блаженного на Красной площади. Я думаю – довольно часто теперь – о том, как мало знаю о мире.
– Говорят, что невозможно представить себе ее просторы. – Он неопределенно двигает рукой, будто в беспомощной попытке предположить эти просторы. – Поля, еще поля, еще и еще, до самого горизонта, а потом снова поля. И леса, бесконечные леса и болота. А российская армия неисчислима. И еще в России есть зима…
Я говорю себе, что должна радоваться, потому что Макс сказал, что немцы проиграют войну. Это должно вселить в меня надежду. Но новость Гюнтера внушает мне ужас, и я не знаю, что это значит.
Часть IV: Сентябрь 1941 – Ноябрь 1942
Глава 44
В сентябре Милли идет в первый класс школы Святого Питера, расположенной на приходской площади.
На ней синее саржевое платье «Viyella» с вытачками на лифе, которые я буду расставлять по мере ее роста, а в косички вплетена красная лента. Ее туфельки когда-то носила Бланш, но я начищала их, пока они не стали выглядеть как новые.
На игровой площадке полно детей. Те, кто начинает учиться сегодня, жмутся к мамам, а те, что постарше, бродят вокруг, играют в шарики, классики и камешки. Некоторые девочки выполняют стойку на руках возле школьной стены, и их широкие юбки опадают, как лепестки пышно распустившихся цветов.
Я вспоминаю, как Бланш плакала и отказывалась идти в школу в первый раз. Детская площадка повергала ее в ужас, она никак не хотела отпускать меня, так что мне пришлось отлеплять ее пальчики от своих ладоней, словно пластырь. Но Милли всего лишь коротко оглядывается на меня и смело идет вперед, шагая в будущее в своих блестящих туфельках.
Без нее дом кажется другим. Даже когда она вела себя тихо, я знала, что она здесь, как будто воздух был наполнен ее живым и решительным присутствием. Я занимаю себя делами, но успеваю все намного быстрее, чем вместе с ней.
Я мою кухню, пока она не начинает сверкать, собираю последнюю фасоль, закатываю сливы с собственного дерева. Сорт «Виктория» отлично подходит для консервирования. Они сохраняют свой насыщенный розовый цвет даже после обработки, а вся кухня благоухает их насыщенным винным ароматом. Я довольна, что столько сделала, но все равно скучаю по Милли.
Когда приходит время забирать дочку, я жду около школы вместе с остальными матерями. Некоторых из них я знаю с тех пор, когда Бланш начинала ходить в школу, хотя прошло уже десять лет: у многих большие семьи или разница между детьми такая же, как у моих.
Сьюзан Гальен, высокая, стройная и элегантная, с благородно бледным лицом и аккуратно завитыми волосами.
Вера Хилл, управляющая своим домом с такой четкостью, будто это армейский лагерь. Ее окружает запах карболового мыла.
Глэдис Ле Тиссьер, у нее шестеро детей и несколько отстраненный вид, словно все вокруг происходит слишком быстро для нее. Мы здороваемся, обмениваемся новостями и обещаем встретиться снова.
Двери школы открываются, и из них высыпают дети. Милли подбегает ко мне, разрумянившаяся и довольно ошалевшая от новизны всего происходящего. Одна из ее лент развязалась и развевается позади нее, как флаг, пока она бежит. Я наклоняюсь, чтобы обнять ее.
Она пахнет школой – восковыми мелками, меловой крошкой, яблоками. Этот запах наполняет меня ностальгией по лучшим друзьям и сговорам на площадке, по игре в скакалочку и поведанным шепотом секретах и по измазанным чернилами пальцам. По всему, связанному со школой.
– Милая, у тебя был хороший день?
Она энергично кивает.
– Я хорошо себя вела, – говорит она мне. – Но Симону пришлось стоять в углу. Ему велела мисс Делейни. Он посадил извивающегося червяка на блузку Анни Гальен.
– Симон Дюкемин?
– Да, Симон Дюкемин. – Она перекатывает его имя во рту, словно оно очень вкусное, как украденный леденец. – Симону семь лет.
Как будто это огромное достижение и заслуживает уважения.
На следующий день по дороге из школы она снова говорит о Симоне.
– Симон получил тапочком.
Я вспоминаю, что Бланш рассказывала о тапочке. На самом деле это вовсе не тапочек, а старый парусиновый туфель на резиновой подошве, который мисс Делейни хранит в ящике стола. Она шлепает им детей, когда они плохо себя ведут. Его боятся все ученики.
– Но, Милли, сегодня же только второй день учебы. Я думала, вы все еще хорошо себя ведете.
– Ему пришлось перегнуться через парту, – продолжает она. – Он сказал, что ему не было больно, но я думаю, что это больно. Думаю, он очень старался не заплакать.
Сентябрь смягчил краски сельского пейзажа, придав всему золотой осенний блеск. Падают первые яркие листья и шелестят на гаревой дорожке. В тишине переулка этот звук напоминает осторожные шаги.
– Так что же Симон натворил, чтобы заработать тапочек? – спрашиваю я.
– Он вел себя очень гадко. Он сидел сзади Мэйзи Герин и засунул кончик ее косички в свою чернильницу. – И снова в ее голосе слышится уважение. – Мамочка, я хочу играть с Симоном.
Это меня тревожит: Симон Дюкемин кажется несколько неуправляемым. Но Милли настаивает.
Следующим утром, пока мы ждем детей на площадке, я разговариваю с Рут Дюкемин. Я знаю ее только в лицо. Это бледная, довольно беспокойная женщина с облаком светлых волос вокруг головы и глазами поразительного зеленого цвета, словно листовик, растущий вдоль дорог.
– Интересно, Симон захочет прийти поиграть с Милли после школы?
У нее широкая и добрая улыбка.
– Да, уверена, что захочет, – говорит Рут. – Кажется, он очень увлечен Милли.
* * *
Симон стучит в нашу дверь. У него бледные руки, покрытые веснушками, материнские пышные волосы и настороженное выражение лица. Он заглядывает в коридор за моей спиной.
– Я пришел за ней.
Милли переодела школьную форму, сменив ее на свое старое платье. Она берет старую сумку Бланш. Я положила туда баночку джема, перевязав ее веревкой, чтобы удобно было вытаскивать, и яблоко. Пока я прощаюсь с ней, мне кажется, что ее ноги не могут устоять на месте: она прыгает с одной ноги на другую, как танцор. В глазах солнечные зайчики.
– Не уходите слишком далеко. И возвращайтесь до темноты.
Мои слова встречает тишина. Дети уже пересекли дорогу, прошли фруктовый сад и устремились в лес. Их звонкие голоса следуют за ними как флажки.
Я прибираюсь на кухне. Выставляю банки со сливами на пол кладовой. Приятно видеть такое изобилие, все эти тяжелые стеклянные банки, заполненные красно-розовыми фруктами. Я мою пол на кухне, хотя на самом деле в этом нет необходимости.
Когда тени от деревьев становятся длиннее и протягиваются через дорогу, словно цепкие руки, меня охватывает тревога, и мне хочется, чтобы Милли оказалась со мной, в безопасности дома. Это первый раз, когда она уходит гулять.
Но задолго до назначенного времени Симон провожает Милли до нашей двери и отправляется по дороге к своему дому. Милли вбегает в гостиную, где я штопаю вещи, а Бланш расчесывает волосы. Милли грязная, растрепанная и разрумянившаяся от счастья.
– Симон забрался на верхушку дерева, – рассказывает она.
– Мальчишки такие хвастуны, – говорит Бланш, прерывая расчесывание. Она сидит, наклонившись вперед, так что ее блестящие светлые волосы свисают вниз, и считает. Каждый день перед сном она старается провести по волосам сто раз.
– Что ж, я надеюсь, он не думал, что ты тоже полезешь туда, – отвечаю я Милли.
– Он искал старое гнездо лесного голубя, – объясняет она. – Я должна была поймать его, если он упадет. А потом мы устроили в лесу убежище. Мы прятались от бомб. Бомбы убили всех, но в нас не попали… А потом мы были солдатами.
Она стреляет в Бланш из воображаемого пистолета.
– Честно говоря, Милли, девочки не стреляют. Тебе следует это знать, – говорит Бланш.
Она выпрямляется и откидывает волосы назад. Смотрит на свое отражение в зеркале над каминной доской, немного позируя. Свет мерцает в потоке ее волос.
– Я нравлюсь Симону по-настоящему, – хвастается Милли. – Он говорит, что на самом деле я совсем не похожа на девочку.
Можно подумать, что это наивысшая похвала.
После этого большинство дней после школы Симон играет с Милли.
* * *
Однажды вечером она приходит домой возбужденная, напуганная и едва дышит.
– Мы устроили военный лагерь в сарае мистера Махи, – говорит она.
Сарай Питера Махи стоит сразу за моим садом, на тропе через поля, по которой я ходила в Ле Брю. Мистер Махи не заботится о сарае и вряд ли заглядывает в него. Он складирует там старую сельскохозяйственную технику, к которой не может найти запчасти. И еще там есть расшатанная лестница, ведущая на сеновал. Дети могут полезть на нее и свалиться.
– Вы должны быть очень осторожны, когда играете там. Нельзя играть на тракторе. И нельзя забираться на сеновал.
– Мы были очень осторожны, мамочка.
– Ты вся запыхалась.
– Это потому, что за нами гнались.
– Гнались, Милли? Кто за вами гнался?
– Пес мистера Махи, – говорит она. – Его пес очень злобный. Мы шли обратно позади дома, и он гнался за нами по дороге.
Я знаю пса, огромную немецкую овчарку, довольно злую. Это меня тревожит.
– Что же вы делали, что он за вами погнался? – спрашиваю я.
– Симон бросил в него камень.
– Нет, Милли. Это очень плохой поступок.
– Симон не плохой. Это был очень маленький камень.
– Ему не следовало этого делать.
– Он был маленький, как листочек, – говорит она. – Правда-правда малюсенький. Вот такой.
Она сводит вместе большой и указательный пальцы, оставив между ними совсем небольшое расстояние.
– Меня не волнует, насколько он был маленький.
Я ощущаю некоторое сомнение: есть в Симоне какая-то дикость, что-то, что заставляет его не слушаться взрослых. Меня тревожит, что он научит этому Милли.
– Вы больше не должны этого делать, ни один из вас, – говорю я.
– Я ничего не делала. Правда, мамочка.
Глава 45
Теперь, когда Милли в школе, у меня появилось чуть больше свободы, хотя я не люблю оставлять Эвелин одну надолго.
Однажды ноябрьским днем я отправляюсь на велосипеде в город. Покупаю хлеб и мясо, лук-севок, меняю книгу в библиотеке. Я сумела найти несколько мотков шерсти для Эвелин и купила немного толченого каррагинана в магазине Карра в пассаже. Каррагинан получают из водорослей, и его можно использовать как желирующий агент. В «Пресс» был рецепт джема из репы. Звучало не слишком привлекательно, но я подумала, что попробую его приготовить.
По дороге к дому я поднимаюсь на холм и проезжаю виллу Акаций, где когда-то жил Натан Исаакс, куда я ходила на музыкальные вечера, до того как он уплыл на корабле. Вспоминаю эти вечера: немного богатого кларета, ласковое пламя в камине, «Весенняя соната» для скрипки и фортепиано Бетховена.
Натан любил Бетховена больше всех. Он был прекрасным скрипачом, намного лучшим музыкантом, чем я. Есть в скрипке нечто такое – нежная тягучесть, то, как она парит и поет, – что заставляет фортепиано казаться несколько заурядным.
Думаю, как сейчас дела у Натана. Он рассказывал, что дом его кузины в Хайгейт полон родственников. Надеюсь, что они не слишком шумные. Надеюсь, у него есть комната, где он может играть на своей скрипке. Вилла всегда выглядела изысканно: дверной молоток в виде блестящего латунного льва на зеленой входной двери, перед домом ухоженная лужайка с цветочными бордюрами.
Но без него все выглядит запущенным и ветхим. Цветочные клумбы заросли конским щавелем и бледной мертвой травой, а головки гортензии шуршат и шелестят на ветру словно коричневая оберточная бумага.
Соленый воздух сдувает волосы с моего лица, и меня охватывает внезапная грусть от того, что мир меняется и так много надорвано, заброшено, уничтожено.
Когда я прохожу мимо входной двери, из нее выходят двое мужчин. Я понимаю, что это не жители острова. Худые, одетые в лохмотья, они разговаривают на незнакомом мне языке. Это не немецкий, который я теперь узнаю.
Они выглядят несчастными и потерянными. Их тени неровные и тонкие, словно ветки зимой. Я понимаю, что они дрожат. Сегодня при таком ветре, что дует с моря, просто необходимо хорошее шерстяное пальто.
Этот неизвестный на нашем острове язык очень меня нервирует. Кто они такие, почему они здесь, так далеко от дома?
Свет теперь уходит очень рано; уже темнеет. Кричат чайки. Приближается зима.
* * *
Той ночью, когда приходит Гюнтер и мы вместе лежим в покое моей кровати, я спрашиваю об увиденных мужчинах.
– Я видела людей в Сент-Питер-Порте. В доме, который называется вилла Акаций. Я бывала там до того… Ты знаешь, до того, как все это случилось… Они иностранцы, не с острова. И не немцы. Они выглядели очень худыми, и у них не было теплой одежды.
Что-то в нем напрягается при моих словах. Я замечаю, как слегка сжимаются мышцы вокруг рта.
– Фюрер хочет укрепить эти острова, – осторожно говорит он. – Он очень горд своим завоеванием. Мы не имеем никакого отношения к укреплениям.
– Что значит «не имеете никакого отношения»?
– Это другое подразделение – «Организация Тодта». Они привозят рабочих, чтобы строить оборонительные сооружения вокруг островов.
– Привозят откуда?
Я вспоминаю язык, который не узнала.
– Некоторых из Голландии и Бельгии. Некоторых из Польши и России. Это военнопленные или добровольцы. Некоторые из них строят лагеря, чтобы жить в них… Не волнуйся об этом, – говорит он, убирая волосы с моего лица. – Давай оставим войну снаружи. Будем только вдвоем, ты и я.
Но позже ночью он внезапно просыпается. Его неожиданное движение будит и меня. Он дрожит, и эта дрожь передается мне. Должно быть, во сне его преследовал какой-то страх, ночной кошмар.
Я задула свечи, но лунный луч просачивается сквозь занавески и падает на лицо Гюнтера, на его глаза. Они направлены на меня, но, кажется, смотрят сквозь, словно он меня не видит. Его лоб блестит от пота в бледном свете луны. Я напугана.
Я глажу его по руке, пытаясь вернуть его в настоящее.
– Гюнтер. Тебе нечего бояться. Все в порядке. Это Вивьен. Дорогой, ты здесь, со мной, помнишь?
Он продолжает смотреть.
– Гюнтер…
Его лицо меняется.
– Ох, – говорит он. – Ох. Вивьен.
Он трет лицо рукой и снова становится самим собой.
Я думаю: что же он видел во сне? Но он не рассказывает мне, а я не спрашиваю.
* * *
В сгущающихся сумерках я возвращаюсь от Энжи. Неподвижный воздух приобрел оттенок сепии. Ветра нет, большая редкость на Гернси. Одинокий бурый лист падет, описывая медленные спирали.
Мир вокруг кажется пустынным, а тени – темно-фиолетовыми, как чернослив. С наступлением сумерек местность словно погружается в печаль. Над бледной землей и черными деревьями раскинулось небо, похожее на темно-синюю золу.
Я иду по перепутанным длинным теням тополей, растущих по обочинам, мимо земли, принадлежащей Ренуфам. Замечаю, что Джозеф Ренуф установил на поле пугало, сейчас его скрывают фиолетовые тени.
Пугало сделано очень умно, из палок и веток, и одето в рваные обноски. Мои шаги звонким эхом отдаются в тишине улицы. Тянет прохладой наступающей ночи.
Прохожу дальше. Но что-то в увиденном беспокоит меня, что-то неуловимое. Шорох листьев за спиной заставляет меня резко повернуться. Страх хватает меня за шкирку: пугало в поле передвинулось на другое место.
Все волоски на моем теле встают дыбом. Теперь я вижу лицо пугала, вижу, что это человек. Не знаю, кто он и что делает здесь, в пустынных сумерках на поле Джозефа Ренуфа. Я боюсь, что он меня увидит, боюсь, что он может быть опасен, но он, кажется, меня не замечает.
Он полностью сосредоточен на том, что держит в руке. Похоже на капустную кочерыжку. Я вижу, как он подносит ее к лицу и яростно вгрызается.
Что же могло случиться, чтобы человек опустился до подобного – есть выброшенную кем-то кочерыжку? Он сбежал из какой-то тюрьмы? Он сумасшедший?
Перед тем как уйти за поворот, я снова оглядываюсь, но оборванный мужчина исчез, как будто его там никогда и не было. Как будто я вызвала его из темных глубин своего разума.
* * *
Теперь темнеет рано, и Милли с Симоном не могут после школы играть на улице. Иногда Милли ходит в гости к Симону, а иногда он приходит к нам.
Когда они вместе играют в доме, Эвелин приходится тяжело.
– У меня болит голова. Какой грохот, – говорит она. – Туда-сюда, туда-сюда.
Я велю им быть потише, но мои предупреждения пролетают у них мимо ушей.
Эвелин слышит, как они поют на немецком: «Stille Nacht, Heilige Nacht». Они учат рождественские гимны в школе. Эвелин стучит спицей по ручке кресла.
– Прекратите сейчас же, – требует она.
Милли заливается краской.
– Прости, бабуля.
Про себя я думаю: это хорошо, что они учат немецкий. Оккупация может продлиться долго, и если они научатся говорить по-немецки, то будут лучше подготовлены. Хотя я никогда не говорю этого Эвелин.
– Эвелин, их научила мисс Делейни. Это ничего не значит, – говорю я.
– А вот тут ты ошибаешься, – отвечает она. – Это точно кое-что значит. Может быть, эти варвары и пришли на Гернси, но мы не собираемся пускать их в наши дома.
С горящим лицом я отворачиваюсь от нее.
Я отправляю их играть в маленькой мансарде в дальней части дома, откуда их не будет слышно. Эвелин снова принимается за вязание. Я не вижу детей, пока не зову Симона вниз, чтобы сказать ему, что пришло время идти домой.
– Вы хорошо поиграли, милая? – спрашиваю я Милли, когда он уходит.
Она энергично кивает.
– Симон оборот, – говорит она. – У него мех и очень большие зубы.
Я прошу ее повторить, потому что не понимаю слово.
– Оборот, мамочка. Ну, знаешь. Ты знаешь, кто такой оборот.
– Нет, не знаю.
Она смотрит на меня полным сомнения взглядом, как будто не может поверить в мое невежество.
– Оборот выглядит, как человек, но при свете луны…
Она закидывает голову и издает страшный волчий вой.
– А, оборотень, – говорю я.
– Да, конечно. Оборот меня укусил. Смотри.
Она гордо вытягивает руку, и я вижу исчезающие белые отметины от зубов. Я в ужасе.
– Милли… ты не должна позволять Симону кусаться.
– Не волнуйся, мамочка. Крови не было.
– Надеюсь.
– И вообще, это была всего лишь игра. Мы притворялись. На самом деле он не такой, – говорит она.
– Нет… конечно нет.
– А можно я расскажу тебе секрет, мамочка?
Я киваю.
Она притягивает мою голову вниз к своей и шепчет мне на ухо:
– Симон знает, где живет настоящий оборот.
– Милли, настоящих оборотней не бывает. Никогда.
Она меня не слушает.
– Этот оборот настоящий, – говорит она. – Оборот, про которого я говорю.
Ее ротик очень близко ко мне, я ощущаю ее дыхание на своем лице. Она шепчет театрально, с чувством:
– Он рыскает по дороге, которая ведет от Сент-Пьер-дю-Буа в Тортевал. А перед собой он толкает тачку, полную репки. И он любит есть плохих детей.
В ее голосе слышится страх.
– О, и откуда же Симон это знает?
– Ему сказал старший брат, – говорит она. – Это самая настоящая правда, мамочка.
– Нет, милая. Это просто сказка.
Она категорично мотает головой.
– Старший брат Симона знает много чего, – говорит она. – Старший брат Симона сделал биплан из картона и клея. Он правда летает. Симон мне показывал.
Я сержусь на Симона и на его старшего брата за то, что они так пугают Милли.
* * *
Приходит Джонни с баночкой яблочного чатни от Гвен и мешком свежесобранного шпината. Мы сидим за кухонным столом и пьем мятный чай, который я приготовила.
Джонни больше ничего не говорил о затее со свастиками, но между нами появилось напряжение: короткие неловкие паузы в разговоре и некоторая сдержанность в его глазах.
Чтобы заполнить одну из пауз, я спрашиваю его о людях, которых видела у дома Натана.
– Наверное, вы видели рабочих из Голландии и Бельгии, – отвечает он. – Сейчас с континента привозят много рабочих. Гитлер строит кольцо бетонных укреплений вокруг всего острова.
Я задаю вопрос, который не смогла задать Гюнтеру.
– Но зачем, Джонни? Это бессмысленно. Как будто они действительно ожидают атаки КВВС.[4]4
Королевские военно-воздушные силы (англ. Royal Air Force (RAF)).
[Закрыть] Но никто не думает, что это произойдет. Все считают, что Черчиллю на нас плевать. Мы всего лишь маленький остров.
Джонни пожимает плечами.
– В общем, они строят, – говорит он. – Похоже, это план Гитлера. Те рабочие, которых вы видели в Сент-Питер-Порте, с ними обращаются не так уж плохо, им даже платят небольшую зарплату.
Я думаю об увиденных мужчинах, о том, какие они худые, о том, как они дрожали на соленом ветру.
– Они выглядели так, будто с ними обращаются весьма плохо. Они выглядели так, будто ничего не ели.
Джонни качает головой. Между его глазами пролегли мелкие морщинки, тонкие, словно порезы.
– В рабочих лагерях хуже, намного хуже. Знаете, как в том лагере, который они строят на холме рядом со скалами, что над Ле Талье.
– Я не знала, – говорю я. – Я никогда не хожу туда.
– Там строят укрепления на вершинах скал. И этот лагерь – жестокое место. Людей там вообще едва кормят.
И тут я понимаю.
– Я видела человека на поле. Он был очень худой. Думаю, он ел капустную кочерыжку. Я приняла его за пугало, пока он не пошевелился, и я не увидела его лицо.
– Наверное, он из лагеря, – говорит Джонни. – Люди оттуда выглядят действительно жалко. Они из Польши и России, большая часть. Они как рабы, люди, которые там работают, с ними обращаются, как с рабами. Хуже, чем с рабами. Их бьют. – Его лицо темнеет. – Я видел там человека, которого повесили на дереве. Тело провисело много дней.
Меня пробирает дрожь.
– Там еще есть алжирцы и цыгане. Вам надо пойти и увидеть все своими глазами, тетя. Вы должны знать, что происходит здесь, на нашем острове.
– Да. Наверное, надо…
Но я говорю так только потому, что этого ждет от меня Джонни. Мысль о том, чтобы пойти в лагерь, приводит меня в ужас. Чем поможет то, что я пойду и сама все увижу? Для меня это слишком.
Я не могу ничего изменить, никто из нас не может. Все это не в нашей власти, мы не в состоянии это предотвратить… И тем не менее мне стыдно за свое нежелание. Я знаю, что такие чувства – это слабость.
– Нельзя так обращаться с людьми, – говорит Джонни. – Вы знаете слухи, да? Говорят… должно быть, эти люди там потому, что совершили какое-то ужасное преступление. Флори Гальен говорила в церкви. Но что такого может совершить человек, чтобы заслужить подобное наказание? Мы занимаемся этим делом, я и Пирс. Мы собираемся сделать то, что в наших силах.








