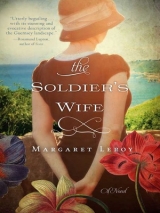
Текст книги "Жена солдата (ЛП)"
Автор книги: Маргарет Лерой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
– На нем была новая одежда, – говорит капитан.
– Может, он ее украл. Откуда мне знать, где он ее взял?
Капитан молчит, прикрывая ладонью сигарету.
– Также я заметил, что вы были очень расстроены.
Он оценивающе смотрит на меня.
Я стараюсь стоять спокойно. Думаю о Бланш, о службе, заставляю себя думать о молитвах, снова и снова читаю их про себя. «Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне…» Цепляюсь за слова, они, как куски дерева в штормовом море, не дают мне пойти ко дну.
– Вы были очень расстроены, когда мы застрелили подлеца, – повторяет капитан. – Я задаюсь вопросом: почему?
– Это от потрясения, – отвечаю я.
– Мы на войне, миссис де ла Маре, – говорит он скучающим тоном. – Такое случается.
– Он был беспомощен. – Мой голос тонкий, как звук свирели, унесенный ветром. – Он не мог защититься. Вы не должны были убивать его.
Капитан пожимает плечами.
– Мерзавец сбежал из лагеря. От него не было пользы. Все они недочеловеки. Не такие, как вы или я. Вы не должны беспокоиться о них.
Это слишком похоже на то, что однажды сказал Гюнтер: «Ты не должна об этом думать. Постарайся не зацикливаться на этом».
Капитан продолжает курить, его глаза осматривают меня: он размышляет, что делать дальше. Словно чей-то кулак сжимает мое горло, когда я вижу, куда направлен его взгляд.
Глава 76
– Итак, девочка, как тебя зовут?
– Милли де ла Маре.
– Подойди сюда, Милли де ла Маре.
Капитан произносит ее имя, тщательно выговаривая каждый слог.
Он показывает, чтобы Милли вышла вперед, откуда она не сможет видеть мое лицо. Прежде чем пойти, она вопросительно смотрит на меня. Я киваю. Милли делает шаг к капитану.
Я вижу, что капитан умеет общаться с детьми. Он садится на корточки, чтобы их лица оказались на одном уровне, и ему не приходилось смотреть сверху вниз. Я думаю, что у него, наверное, есть собственные дети, что он нежно качал их на руках. Он – тот же самый человек, который только что застрелил моего друга, как животное.
– Ты любишь шоколад, Милли?
Она не знает, какой ответ будет правильным, и поворачивается ко мне. Я слегка киваю.
– Ты не должна смотреть на маму, когда отвечаешь на мои вопросы, – говорит капитан. – А то я не пойму, кто из вас отвечает.
Его голос очень убедителен, но я слышу в нем угрозу.
– Итак, спрашиваю еще раз, ты любишь шоколад?
– Да, я люблю шоколад, – говорит Милли.
Капитан зажимает сигарету губами, достает из кармана шоколадку и разворачивает ее. В тишине шуршание серебристой обертки звучит слишком громко и нервирующе. Он отламывает кусочек и дает его Милли. Я вижу, как шоколад моментально размягчается в ее теплой ладошке.
– Я могу его съесть? – спрашивает она.
Она очень старается быть хорошей, но не знает правил.
– Да, конечно, – улыбается капитан. – Это тебе, Милли де ла Маре.
Она съедает угощение и слизывает с пальцев растаявшие остатки, так что ее рот пачкается шоколадом. Меня охватывает глупое желание сказать, чтобы она вытерла лицо.
Капитан все еще сидит на корточках, его лицо на одном уровне с личиком Милли.
– Я вижу, что ты хорошая девочка, – говорит он ей. – Что ты не обманываешь. Что ты всегда говоришь правду. Это так, верно?
– Да, – отвечает Милли.
– Говорить правду очень важно, да?
– Да.
– Я уверен, твоя мама говорила, что ты всегда должна говорить правду.
Милли кивает.
– У вас большой дом. В нем много мест, где можно спрятаться.
Милли молчит. Даже глядя на нее со спины, я вижу, как она напряжена, как настороженно она смотрит на капитана.
Страх хватает меня за горло. Я ужасно боюсь за нее, потому что она останется одна, когда меня заберут. Бланш почти взрослая женщина, она может позаботиться о себе. Но Милли еще такая маленькая, слишком маленькая, чтобы остаться без матери.
– В задней части вашего дома, наверху, есть комната, – продолжает капитан. – Секретное место, куда надо подниматься по узкой лестнице.
– Да, – неуверенно говорит Милли, гадая, к чему все идет. – Мамочка называет его чердак.
Я не вижу ее лица, но ощущаю ее растерянность: она понимает, что происходит что-то важное, но не знает, что должна говорить.
– Чердак, – повторяет капитан, как будто это слово ему незнакомо. – Думаю, на чердаке хорошо играть.
По крайней мере, на это у нее есть ответ.
– Да, там очень здорово, – с готовностью говорит она, желая угодить.
Капитан глубоко затягивается сигаретой, не сводя глаз с Милли.
– Когда ты в последний раз играла на чердаке, Милли? – спрашивает он.
Она думает. Очень напряженно думает. Я знаю, каким будет ее хмурое личико. От глубокой задумчивости у нее на лбу появятся складочки, словно нарисованные несмываемым карандашом.
– Я люблю играть на чердаке, – осторожно произносит Милли.
– Ты играла на чердаке сегодня или вчера?
Задерживаю дыхание. Я знаю, что она скажет. Ведь я точно помню, что ей говорила. «Мамочка сказала, что я не должна туда ходить. А вчера мамочка запретила мне там играть. Она сказала, что это наш большой секрет…» Я уверена, что так и будет. Я почти слышу ее слова, которые, словно капли воды, невинны, они сверкают, но грозят пролиться большой бедой.
Капитан смотрит на меня. Разговаривая с Милли, он не сводит с меня пристального, изучающего взгляда. Я яростно сжимаю руки. Понимаю, что он может увидеть охватившую меня дрожь.
Милли все еще колеблется.
– Так ты играла? – спрашивает он. – Сегодня или вчера?
Его голос суров и настойчив.
– Я играю на чердаке каждый день, – говорит она ему.
– Хорошо, я думаю, ты же там не одна играешь. Кто играет с тобой на чердаке?
– Мой друг, – отвечает Милли.
У мужчины в глазах появляется жесткий отблеск.
– И кто же он, твой друг?
Она на секунду задумывается. Я чувствую, как от нее исходит тревожная дымка, словно еле уловимый запах серы, который можно ощутить в воздухе. Милли сцепляет руки и аккуратно ставит ноги вместе. Я вижу, Милли приняла решение. С холодной, болезненной уверенностью понимаю, что она собирается рассказать о том, что на чердаке был Кирилл.
– Моего друга зовут Симон. Ему почти девять, – говорит Милли размеренным, четким и немного высоким голосом.
Все это время мужчина наблюдает за мной. Мое лицо абсолютно неподвижно, но весь воздух, который я задержала, вылетает у меня изо рта. Молюсь, чтобы он этого не услышал.
Он еще некоторое время смотрит на Милли, потом, слегка пожав плечами, выпрямляется. Бросает недокуренную сигарету и раздавливает ее каблуком, как будто она его больше не интересует.
Капитан подходит к двери и выкрикивает приказ. Остальные мужчины выходят из дома, быстро направляясь к грузовику. Один забирается в кабину, другие – в кузов. Кто-то из них что-то пинает. Я знаю, что это тело Кирилла… Он отпихивает тело Кирилла, чтобы освободить место для своих ног.
– Я буду следить за вами, миссис де ла Маре, – кричит капитан, уходя.
Мужчина забирается в кабину на место пассажира. Заводится двигатель. Они уезжают.
Шок от их внезапного отъезда отпускает меня. Мир вокруг меня начинает вращаться. Я облокачиваюсь на стол и жду, когда он остановится.
Эвелин все еще плачет.
– Они убили его, правда? – спрашивает она.
Опускаюсь на колени рядом с ней.
– Это был не Юджин.
– Какая трагическая смерть, Вивьен. Он умер в одиночестве, некому было его утешить. Мой бедный мальчик. Какая печальная, печальная смерть, – говорит Эвелин.
Увожу ее в дом. Она беззвучно и безутешно плачет, держась за мою руку. Помогаю ей подняться наверх и укладываю в кровать.
Милли ждет меня внизу. Ее глаза – бездонные дыры на бледном лице.
– Я правильно ответила на вопросы? – спрашивает она.
– Да, милая. Ты вела себя очень храбро.
Обнимаю ее напряженное тельце.
– А у Симона не будет неприятностей? – интересуется она.
– Нет, не будет. Ты все сказала правильно.
– Но что, если немцы посадят Симона в тюрьму?
– Не посадят, обещаю. Симон не сделал ничего плохого.
– Но Кирилл тоже не сделал ничего плохого, а они его застрелили.
Мое горло сжимается от подступивших слез, мне трудно говорить.
– Поверь мне, милая, с Симоном все будет хорошо. Немцам до Симона нет никакого дела.
Она тянет меня вниз, почти прижимаясь своим лицом к моему. От ее дыхания исходит приторный запах шоколада, которым ее угостил капитан. Милли говорит мне прямо в ухо, ее тихие слова касаются моей кожи.
– Я знаю, что Кирилл был на чердаке, – говорит она. – Я слышала, как он кашляет. Это был наш секрет, да? Секрет, о котором ты мне говорила? Когда просила меня там не играть?
– Да.
– Я не рассказала наш секрет. Я поступила правильно?
– Да, правильно.
– Я не знала, что сказать. Я понимала, что они разозлятся на нас, если найдут Кирилла там, но мне не хотелось, чтобы у Симона были неприятности. Было очень тяжело, – говорит Милли.
– Да, я знаю.
– Мамочка, Кирилл умер, да? Они его убили?
Я думаю обо всех тех вещах, которые мы говорим, чтобы успокоить детей. Все хорошо, не надо бояться. Все, что ты видел, оно не по-настоящему… это был всего лишь сон, кошмар. Монстров не существует, в темноте никого нет. Спи спокойно…
Мне нечего ей сказать.
* * *
Чуть позже мы идем за цветами.
У меня в саду их теперь не так много, потому что он засажен овощами. Поэтому мы собираем дикие цветы – веронику колосистую и красную валериану. Мы связываем цветы лентой. Вспоминаю о том букете, который подарил мне Кирилл.
Идем через дорогу в фруктовый сад. Нас окружает все то же лето: туманный, серебристый солнечный свет и пение птиц. Но теперь все изменилось. Я уже не могу жить как прежде. Я уже не тот человек, каким была раньше.
В том месте, где упало тело Кирилла примята трава. Там, где на землю вытекала кровь, – темное пятно, и забрызганный темными каплями ствол дерева, под которым я когда-то стояла с Гюнтером. Милли спокойна и уравновешена, но ее лицо белое, как мел.
Я думаю о том, что он больше никогда не увидит их – все те места, о которых рассказывал нам: березовый лес, тихие речушки. Он никогда не вернется туда, где мастерил свои скрипки. Мастерил с особой заботой. Они такие маленькие, такие хрупкие, их так легко сломать, но поют они так чисто, так ясно.
– Нужно ли нам помолиться? – спрашивает Милли.
Но я не готова молиться.
– Давай помолимся каждый про себя, – говорю я.
На земле, покрытой пятнами, мы оставляем букет из колосистой вероники.
Глава 77
Ночью, когда девочки улеглись спать, я сажусь за кухонный стол. Снова и снова переживаю то, что случилось, вопросы режут меня, словно лезвия. Это Гюнтер нас предал? Мог ли он так поступить, несмотря на все то, что между нами было… вся эта любовь, нежность, все, что мы с ним делили? Способен ли он на такое предательство?
Когда я думаю об этом, начинаю задыхаться, словно тону.
В десять часов вечера слышу знакомый стук в дверь.
Он заходит, я закрываю за ним дверь. Стоим и смотрим друг на друга. Обычно мы целуемся, а потом идем в мою комнату. Но Гюнтер не двигается. Вероятно, он что-то прочел на моем лице. Что-то такое, что беспокоит его. Он не наклоняется, чтобы дотронуться до меня или поцеловать. Просто стоит и смотрит. Он выглядит иначе, я не могу ни охарактеризовать это, ни понять.
– Ты выглядишь уставшим, – говорю я.
– Да, я устал.
Он трет рукой лицо. Его движения порывисты, как будто он больше не владеет своим телом.
Потом откашливается, словно хочет что-то сказать.
– Вивьен…
Он сглатывает, как будто ему очень тяжело говорить.
Я знаю, что это я должна что-то сказать.
– Сегодня в моем саду кое-что произошло, – говорю ему я.
– Да, – соглашается Гюнтер.
Но его тон какой-то пренебрежительный. И от этого тона меня охватывает ледяное сомнение.
– Был убит человек, – говорю я. – Застрелен. Один из рабов-рабочих.
– Да, я слышал, – отвечает он. И на этом все.
Его неловкость, его неуклюжесть говорят обо всем, что мне нужно знать. Он знал насчет Кирилла, он все понял. Откуда он мог знать… слышал кашель, видел меня с завтраком на подносе, знал, что вру, говоря, что это Эвелин болеет?
Он все понял и просто сделал свою работу. Это был трудный выбор, но его долг перед своей страной важнее. «В военное время происходят плохие вещи». «Приходится быть осторожным, нельзя выделяться». «Убить очень легко… Может, не так легко сначала. Но спустя какое-то время, убить очень легко…»
И тогда я принимаю решение.
– Гюнтер, – говорю я срывающимся голосом, – я должна тебе кое-что сказать.
Он слегка кивает. Легкое движение головы. На его лице серьезное выражение, оно смиренно, словно он сдался. Словно что-то умерло в нем. Он как будто ждал чего-то подобного… это все предопределено, он знает и ждет этого. Он просто должен через это пройти.
– Гюнтер, мне кажется, я больше так не смогу. Мне очень жаль.
Он ничего не говорит. Его молчание просто ужасно.
– Слишком тяжело. Слишком запутанно, – говорю я. У меня болит в горле, словно все сказанное мной меня же и ранит.
Я хочу, чтобы он прочитал мои мысли, чтобы все стало так, как было. Хочу, чтобы он знал, почему я это говорю. Хочу объяснить, что с ним это никак не связано. То, что случилось с Кириллом, это не его вина… что это не он нас предал.
Но я не могу спросить напрямую. Потому что спросить, знал ли он и не он ли нас выдал, – значит, слишком раскрыться, признаться в том, что я укрывала Кирилла. Из-за этого я и мои дети можем оказаться в опасности. Кирилл отдал свою жизнь, чтобы это осталось тайной.
– Мне очень жаль, – беспомощно повторяю я.
Стоя близко к Гюнтеру, я одновременно ощущаю необходимость оттолкнуть его от себя и острую тоску по его прикосновениям, таким знакомым и таким нежным. Все это время он был моим убежищем от страха и ужаса, местом, где я могла спрятаться, местом, в которое не было хода войне. Но теперь война здесь, между нами. Между нами встала ужасная смерть Кирилла.
– Если ты так хочешь… – говорит он.
Его голос звучит четко, но так глухо, словно идет издалека. Так разносятся голоса над водой. Гюнтер слегка пожимает плечами. Его взгляд ничего не выражает, как будто он уже отказался от меня. Я не могу вынести холодность и отчужденность, застывшие на его лице.
Я уже готова сказать: «Нет, я этого не хочу. Так должно быть, но, конечно же, я этого не хочу». Но я молчу.
Протягиваю руку, желая дотронуться до него, смягчить жестокость происходящего, но Гюнтер отступает назад, словно моя близость для него невыносима.
Я хочу, чтобы он возражал. Мне хочется криков, хочется, чтобы наше расставание было тяжелым, полным нескрываемой боли, обвинений, звуков рвущихся вещей, а не сдержанности и отчуждения. Мне кажется неправильным, что все заканчивается таким образом, в тишине.
Гюнтер наклоняет голову со свойственной ему старомодной учтивостью и отворачивается от меня.
Но уходя, он задевает ногой дверной порог и спотыкается. Он вполголоса ругается: быстрый, приглушенный поток яростных ругательств на его родном языке. Его руки сжаты в кулаки, и я вижу, как на его запястьях вздулись узлы вен. Затем Гюнтер выходит и тихо закрывает за собой дверь.
Когда я слышу щелчок замка, меня насквозь пронзает чувство потери.
Сажусь за кухонный стол. Уговариваю себя, что со временем боль пройдет, что сейчас самый сложный момент, но однажды боль станет не такой сильной. Но я не представляю, как она может пройти.
Глава 78
В понедельник вечером Бланш приходит домой с персиками – угощением от миссис Себир. Я вспоминаю, как она впервые принесла персики в самом начале оккупации, когда только начала работать в магазине. Тогда я была другим человеком.
Бланш кладет фрукты на кухонный стол.
– Откуда в саду цветы? – обвиняюще спрашивает она.
Я поворачиваюсь к ней. Конечно, рано или поздно она должна была их заметить, но я сглупила, не придумав ответ заранее.
– Мам, ты что, не видела? Кто-то положил под дерево цветы. Я только что заметила.
Она смотрит на меня непонимающим взглядом, голубым, как само лето.
– И весь ствол в черных пятнах, – продолжает она. – Давно это там?
Меня снова пронзают боль и потрясение от гибели Кирилла.
– Это я положила цветы.
Бланш ждет дальнейших объяснений.
– Зачем? – спрашивает она, когда я ничего не добавляю.
– Случилось кое-что печальное. Вчера, когда ты была в церкви. Там застрелили одного из пленных рабочих.
– Что? Но это же ужасно. Почему ты раньше мне не сказала?
– Я подумала, чем меньше ты будешь знать, тем лучше.
Светлый взгляд Бланш становится испытующим. Она ощущает печаль и трагедию, стоящую за моими словами.
– Мам, это как-то связано с призраком, которого видела Милли, да? С призраком, о котором она рассказывала прошлым летом?
– Бланш, я не хочу рассказывать тебе больше, чем надо. Поверь мне. Так будет безопаснее.
– Значит, да, – говорит она. – Хорошо, мам, не волнуйся. Но я и сама начала задумываться, не был ли призрак Милли одним из людей, которые живут в тех жутких лагерях.
– Бланш, это должно остаться между нами. Я серьезно.
Она слегка заговорщицки улыбается:
– Я забуду все, что ты говорила. Не скажу никому ни слова.
Она отворачивается от меня, расстегивает свой кардиган и бросает его на стул. Она слишком непринужденная и беспечная.
– Бланш, это важно.
– Все в порядке, мам. Я поняла.
Я все еще беспокоюсь, что объяснила недостаточно ясно, что она не понимает, насколько осторожными и скрытными мы должны быть. Может быть, если я расскажу о том, что случилось с Джонни, она осознает.
– Есть еще кое-что, о чем тебе надо знать. Джонни арестован.
Бланш резко оборачивается ко мне.
– Джонни? – хрипит она. Ее лицо сморщилось. Меня испугала такая реакция: я не думала, что эта новость так сильно ее расстроит. Как неосмотрительно. Жаль, что я не нашла способа сообщить ей помягче.
Я обнимаю ее, чувствуя ее смятение. Все внутри нее закручивается, как волчок.
– Он в тюрьме в Сент-Питер-Порте, – говорю я. – Говорят, все будет хорошо. Скорее всего, его просто отправят в тюрьму во Франции.
– Это из-за его глупых-преглупых планов?
– В его комнате нашли дробовик Брайана.
– Джонни такой дурак. – В голосе Бланш пылает гнев. – Как можно быть таким глупым? Почему он не понимает, что нужен людям?
Я удивлена.
– Бланш… Я не знала, что вы встречаетесь…
– Ну, не встречаемся. Не совсем… Только иногда.
– Что значит «только иногда»?
– Мам, я ему нравлюсь. Ты же знаешь… По-настоящему нравлюсь.
Кажется, она поражена.
– Милая, я не знала.
– Почему они позволили им найти дробовик? Почему он не понял?
Позже я слышу, как она плачет в своей комнате. А плачет она нечасто. Стучу в дверь и захожу. Бланш распростерлась на кровати, как будто бросилась с высоты вниз. Ее лицо искажено плачем, в кулаке зажат скомканный носовой платок. Я сажусь рядом с ней и накрываю ладонью ее руку.
– Бланш, с ним все будет хорошо. Я правда так думаю. Такое случалось с другими жителями Гернси. Они вернулись домой невредимыми… И ты же знаешь, какой Джонни жизнерадостный, его ничто не сломит…
Она садится. Я обнимаю дочь, и секунду она цепляется за меня. Ее лицо мокро от слез, ресницы слиплись. Потом она отстраняется и вытирает лицо платком.
– Извини, я слишком эмоциональна, – говорит она.
– Милая, не нужно извиняться за то, что ты расстроена.
Бланш сморкается.
– Вот досада. Я наверняка вся красная.
Убираю прядь волос, упавшую на ее лицо. Она влажная от слез, как будто ее облили водой.
– Понимаешь, мам, – говорит Бланш. – Просто бывает, что человек уходит. И ты понимаешь, как сильно будешь по нему скучать. И даже не знаешь, как жить дальше, когда его нет рядом…
Она смотрит на меня широко раскрытыми, встревоженными глазами.
– Что такое, мама? Не надо. Пожалуйста, – просит она высоким голосом. – Ты моя мама. Ты не должна плакать. Я ненавижу, когда ты плачешь.
Глава 79
Дни становятся короче. Земля налилась спелостью и наполнилась плодами, потяжелели от ягод растущие на обочинах кусты шиповника, ежевики и бузины. Прилетели из Сибири казарки и рассеялись по прибрежным полям. Ночью можно услышать их необычные скрипучие крики.
В моем саду созрели яблоки. Дало плоды фиговое дерево на веранде, и на шелковице появились ягоды, такого роскошного насыщенного красного цвета, что кажутся почти черными. Шелковичные ягоды легко раздавить, поэтому мы едим их прямо с дерева, отчего у Милли на губах постоянно пятна яркого, похожего на вино сока. Весь остров наполнен спелостью, ощущением завершенности.
Лето клонится к осени. Иногда я вижу Гюнтера: из окна спальни замечаю, как он идет по дорожке между клумбами Ле Винерс, или во время кормления кур вижу, как он беседует с Максом или Гансом в саду.
Пару раз я прохожу мимо него по дороге. Сердце колотится в груди. Я не знаю, что произойдет. Но все оказывается легко. Слишком легко. Он вежливо кивает, а потом отводит глаза, как будто мы почти незнакомцы, люди, которые знают друг друга только в лицо, которым случилось жить в соседних домах.
Как будто мы никогда и не любили друг друга. Однажды в сумерках я вижу его в окне. Гюнтер сидит за столом и пишет письмо при свете свечи, потому что теперь по вечерам у нас нет электричества. Рукава высоко закатаны. Он глубоко задумался.
О чем он думает? Я чувствую, что-то в нем изменилось, он будто не совсем здесь. Наверное, мысленно он удалился в Баварию, к спокойствию горного пейзажа, который так любит. Там он рисовал бы и провел бы весь день в тишине. Там он смог бы написать именно ту картину, какую хотел, и мазки ложились бы плавно, словно вода, постепенно рождая картину из-под кисти.
* * *
Эвелин беспокоит меня больше, чем когда-либо. Теперь большую часть дня она спит или находится между сном и явью. Иногда я думаю: что же она видит в своих снах? Может быть, прошлое кажется ей более живым и реальным, чем настоящее, или она видит, что дом заполнен людьми и сценами из прошлого. Временами ночной сон не идет к ней, и я обнаруживаю, что она бродит по дому или саду в ночной рубашке, беру ее за руку и отвожу обратно в кровать.
В один из дней, когда я убираюсь в гостиной, Эвелин неожиданно поднимает на меня глаза. Ее лицо задумчиво и тревожно, будто она видит меня насквозь.
– Что ж, Вивьен, дорогая, – говорит она, словно ей только что пришло в голову. Как будто она продолжает какой-то наш разговор. – Так ты говоришь, что Юджин ушел на войну?
– Да.
– И ты все это время справлялась сама?
В ее голосе слышится ласка, а глаза, нежные и голубые, как у ребенка, смотрят прямо на меня.
Я киваю.
Вдруг я вспоминаю, какой она была раньше, до того, как возраст начал туманить и разрушать ее разум и лишил ее многих воспоминаний. Она была такой оживленной, иногда резкой, но ее прямота всегда смягчалась настоящей житейской добротой.
Опускаюсь на колени рядом с ее креслом.
– Должно быть, тебе одиноко, – говорит она. – Одиноко без него. Нелегко растить Бланш и малышку Милли и присматривать за мной… И еще эта война… И я знаю, дорогая, что я не самый легкий человек в мире.
Я пытаюсь заговорить, но горло сжалось от слез.
– Мне так жаль, дорогая, что тебе было так одиноко… И может быть, даже когда Юджин был здесь… Иногда я видела это, Вивьен. Что он не всегда был с тобой таким, каким мог бы.
Я поражена. Неожиданно мне становится любопытно, знала ли она о Монике Чарлз.
Эвелин кладет свою ладонь на мою, нежно, словно мать.
– Может быть, я не всегда понимала. Я сожалею, Вивьен… Очень сожалею, обо всем.
А потом к ней вновь вернулся этот затуманенный взгляд, ее ясные глаза словно заволокло облаками, как небо поздним летом, и она уплыла в иное место.
Я завернула ее в одеяло, глотая слезы, чтобы они не попали на нее.
* * *
Как и предсказывал Пирс, Джонни отправили во французскую тюрьму на год.
Я часто навещаю Гвен. Теперь ее кухня еще чище, чем раньше: все начищено, натерто, отмыто. Гвен всегда чем-нибудь занята, она так энергична, как будто своими усилиями может заставить все закончиться благополучно.
– Ему повезло… Я знаю, ему повезло, – говорит она.
Гвен проводит ладонью по лицу. В ее волосах появилась бросающаяся в глаза седая прядь.
– Да, в каком-то смысле, – отвечаю я.
На столе между нами стоит ваза с хризантемами неопределенных цветов, отчего они всегда кажутся немного заброшенными. Гвен водит ладонями по столешнице, рисуя случайные узоры между опавшими лепестками. Эта ее неспособность оставаться неподвижной заставляет меня вспомнить Джонни. Как будто она переняла его неугомонность.
– Я правда так думаю, Вив. Нам всем повезло, – говорит она. – Людей убивали и за меньшее, я знаю. Но, Господи, как же я скучаю по нему. Как будто я потеряла часть себя. Лучшую часть…
Накрываю ладонью ее руку:
– Уже осталось меньше года. Я знаю, это кажется вечностью, но на самом деле это не так.
Она кивает.
– Именно это я и повторяю себе. Дело в том, что я ни с кем не могу поговорить так, как с Джонни. Эрни – моя опора. Он очень хороший человек. Но ты же знаешь, какими могут быть мужчины. Он не разговаривает со мной. А Джонни поговорил бы, мы бы разговаривали часами… Я хочу, чтобы он вернулся.
* * *
По вечерам уже темно, и Милли с Симоном больше не могут играть на улице. После школы они играют в комнате Милли. Милли упорно отказывается играть на чердаке. У нее навязчивая идея, что если они пойдут туда, то она подвергнет Симона опасности со стороны немцев, и никакие мои слова не могут ее переубедить.
Мы собираем яблоки в своем саду. Девочки помогают мне, осторожно, поскольку боятся ос. Мы тщательно сортируем яблоки, отбирая те, которые с бочками, потому что они не будут долго лежать. Я запеку их в духовке с клеверным медом, что дала Гвен. Раскладываю последние яблоки на картонные подносы в кладовке. Там прохладно, и они хорошо сохранятся. Сейчас каждое яблоко на вес золота.
Когда все фрукты собраны, Гарри Тостевин приходит пилить мои яблони. Нам понадобятся дрова, чтобы пережить зимние месяцы. Везде люди делают то же самое: рубят деревья, которые делали наш остров таким прекрасным.
Наблюдаю за тем, как Гарри валит первое дерево. Оно падает и с рвущимся звуком задевает ветвями за другие деревья. А потом раздается глухой удар, когда ствол ударяется о землю, и множество нежно-коричневых листочков еще долго дрожат. Больше я не могу смотреть, как Гарри рубит дерево, под которым мы с Гюнтером впервые разговаривали, под которым погиб Кирилл и которое было забрызгано его кровью.
Но мне не удается избавиться от звуков. Я вспоминаю все сказки о призраках, которые читала Милли, и думаю, какие духи будут преследовать наш остров в следующие десятилетия. Будет ли Кирилл появляться в моем саду, неприкаянный и измученный, обреченный на вечные попытки отыскать путь обратно на родину, которую так любил?
После земля, на которой рос мой сад, кажется уродливой, покрытой шрамами-пнями там, где когда-то было так много цветов и плодов. Гарри рубит стволы на поленья, и мы складываем их в садовом сарае. По крайней мере, теперь у нас есть топливо на зиму.
Мы делаем то, что должны.
* * *
Я не слышу стука спиц Эвелин. Поднимаю глаза и вижу, что она не спит. Она распускает свое вязание: вытягивает спицы из петель и тянет за нить. Она делает это аккуратно, тщательно, как будто что-то создает.
Подхожу к ней и кладу свою ладонь на ее. Она убирает свою руку и продолжает тянуть нить, распуская работу. Это до ужаса легко: пряжа все еще волнистая в тех местах, где были петли, но она быстро теряет форму, словно бы плавится.
– Не стоит, Эвелин. Ты же вложила столько труда.
– Но я должна, пойми, дорогая. Я должна.
Не могу видеть, как она это делает. Я бы хотела забрать у нее вязание, чтобы сохранить ее работу, но я не могу отнять силой.
А Эвелин все тянет и тянет нитку. В конце концов у нее на коленях остается просто спутанная куча волнистой пряжи.
Она тихонько вздыхает, как будто завершила какое-то дело.
– Ну вот, – говорит она. – Теперь все сделано.
Ее голос спокоен, движения выверены – ни следа того возбуждения, которое частенько на нее находит.
Я не знаю, что делать, надо ли забрать у нее пряжу. Но она сама протягивает мне всю кучу. На ее лице написано удивительное, незнакомое умиротворение.
– Вот и все, Вивьен, – говорит она.
* * *
Днем я все время нахожу, чем заняться, чтобы не думать. Делаю колбаски из фасоли, пеку пирог из тертой моркови. Кормлю кур и занимаюсь огородом: собираю репчатый лук и лук-порей, и первую в этом году брюссельскую капусту.
Я убираю дом, штопаю белье, подшиваю подолы на нескольких старых платьях Бланш, чтобы они подошли Милли. И все это время я тоскую по Гюнтеру. Это тоска, она как часть меня, как болезнь, просто есть.
Я много сплю, даже днем. Мне очень не хватает сна. Когда Милли в школе, а Эвелин спокойно сидит, и какое-то время никто во мне не нуждается, я прокрадываюсь в свою спальню.
Сбрасываю туфли и ложусь под одеяло. Едва моя голова касается подушки, как я тотчас засыпаю. Меня будто отравляет вялость. Я слышала, что тоска может так влиять на человека.
Из старой жестянки от чистящего средства я делаю масляную лампу. Каждый вечер при свете этой лампы я читаю Милли сказку из книги сказок Гернси, которую дала мне Энжи. Читаю про исцеляющие колодцы и призрачные похоронные процессии. Читаю про каминных фей и про то, что надо рассказывать семейные новости пчелам.
Читаю о том, что паутина может остановить кровотечение, и о том, как люди смотрят на чаек со смешанным благоговением и подозрительностью, потому что во время своих далеких перелетов они видят множество тайн, скрытых от человека. Читаю о том, что тучи мошек над водой означают скорый дождь.
А еще я читаю историю, которую читала, когда полюбила Гюнтера, историю о мужчине, который на лодке отправился на Сарк и выстрелил в утку, которая на самом деле оказалась девушкой. И о том, как она была ранена.








