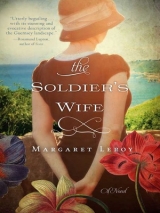
Текст книги "Жена солдата (ЛП)"
Автор книги: Маргарет Лерой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Интересно, поймут ли они нас, говорят ли они вообще по-английски. Но даже если они не смогут нас понять, они будут видеть, что мы делаем. Мы не сможем скрыться от них.
День кажется зыбким и каким-то лихорадочным. Внешнее окружение: дыхание ветра в листьях груши, длинные косые лучи послеполуденного солнца, падающие на мой двор, – всё так, как и должно быть, и все-таки создается ощущение, что в воздухе висит нечто постороннее, еле уловимое, но тревожное, словно слабый запах гари или писк насекомого, слишком тонкий, чтобы его можно было расслышать.
Придется перенести все горшки, стоящие у двери. Унесу их в заднюю часть дома и выставлю на террасе. Там я смогу ухаживать за ними и меня не будет видно.
Но я некоторое время стою в замешательстве. Чувствую внутри какое-то сопротивление. Слышу в голове голос Эвелин: «Я не стану нигде прятаться, Вивьен. И мне обидно от того, что ты думала, что я стану. Я не собираюсь позволять этим варварам двигать меня туда-сюда».
И я принимаю решение: я оставлю все мои травы и герань здесь – оставлю все как есть, на своих местах.
Это единственный способ выразить протест. Это мой способ противостоять происходящему: жить так, как я жила всегда, и не позволять им что-то в ней менять.
* * *
Милли уставилась на нетронутую кошачью миску, полную корма.
– Где Альфонс?
– Не знаю, милая.
– Но уже почти полночь.
– Не переживай, дорогая, уверена, он вернется. Кошки всегда находят дорогу домой.
Но Милли расстроена, хмурые морщины залегли у нее на лбу. С некоторой долей вины понимаю: она беспокоится, потому что кота чуть не усыпили. Она считает, что Альфонс беззащитен.
Читаю ей сказку, но она не может усидеть на месте. Милли все время бегает на кухню, посмотреть не вернулся ли кот.
– Это все немцы, да? – спрашивает она. – Это немцы забрали Альфонса.
– Я так не думаю, – отвечаю я.
– Я хочу его обратно, мамочка. И мячик свой хочу назад. Все просто ужасно.
Ее личико морщится, словно бумажное, и слезки начинают катиться из глаз.
Я уже и позабыла о мяче, который укатился в сад Ле Винерс.
– Милли, с мячиком вообще нет никаких проблем. Я запросто куплю тебе новый.
Она не обращает на мои слова никакого внимания и сердито утирает слезы.
– Бланш говорит, что это все немцы. Бланш говорит, что немцы едят кошек, – убеждает она меня. Ее голос звенит от негодования.
– Она просто тебя дразнила, Милли, – отвечаю я. – Я правда не думаю, что они так делают.
Но начинаю задумываться, а вдруг в том, что Альфонса нет дома, и правда виноваты немцы. Особенно если вспомнить того светловолосого молодого человека, приласкавшего кота. Может, он прикармливает его. У этих животных нет понятия о преданности.
Слушаю, как она молится, и потом укладываю ее в кровать.
– Ты должна найти его, – сурово говорит она мне.
За окном гостиной темнеет. Сначала все становится темно-синим, потом наступает ночь. На небе рассыпаны мириады звезд и кусочком дыни болтается луна. Кот так и не вернулся.
Время уже перевалило за девять. Думаю про комендантский час, но в Ле Винерс шторы плотно задернуты и стоит полная тишина.
Решаю выйти наружу и поискать кота. Знаю, что могу сделать это тихо, и меня никто не увидит.
Мою заднюю дверь не видно из Ле Винерс. Выхожу через нее прямо в темную ночь. Держусь как можно ближе к живой изгороди, медленно крадусь в ее тени, пробираюсь по переулку до колеи, ведущей в Ле Рут.
Не смею позвать его, но надеюсь, что Альфонс меня услышит, – возможно, ощутит мое присутствие тем удивительным шестым чувством, которым обладают кошки.
Неожиданно сзади раздается звук мотора. Должно быть, немецкие солдаты, раз уж теперь жителям острова не разрешается пользоваться автомобилями. Внезапно на меня накатывает страх, пульс учащается, а кожа покрывается холодным потом.
Через брешь в изгороди проскальзываю в поле и пригибаюсь к земле. Свет фар заливает кусты и проносится мимо. Молюсь о том, чтобы меня не заметили.
Потом я слышу, что машина начинает тормозить и останавливается. Наверное, она принадлежит немецким солдатам, поселившимся в Ле Винерс.
Прокрадываюсь обратно в дом, запираю дверь на ночь и чувствую прилив облегчения, по крайней мере, я благополучно добралась до дома. Альфонс сидит в кухне на стуле и усердно вылизывается. Ругаю его себе под нос.
Отношу его наверх к Милли. Ее личико светится.
Но я не могу поверить, что сделала это. Вспоминаю кое-что, о чем всегда твердили растившие меня тетушки: «Вивьен, ты слишком доверчива. Не следует позволять людям вытирать о себя ноги. Не следует быть такой тряпкой… Твоя мягкосердечность однажды доведет тебя до беды».
Думаю, что, пожалуй, они были правы. Я вела себя глупо и безответственно, подвергая себя такому риску из-за кота, просто потому, что Милли немного огорчилась.
* * *
Во время завтрака, делая себе кофе, опрокидываю молочник. Должно быть, от беспокойства я становлюсь неуклюжей. Стоя на коленях вытираю разлитое с кухонного пола, когда раздается скрип сапог по гравию, а затем быстрый стук в дверь.
Это один из мужчин из Ле Винерс, худощавый и смуглый, с плоским лицом. Его форма, его близость мгновенно заставляют меня испугаться.
К страху примешивается чувство неловкости от того, что на мне передник, в руках полотенце, что он может рассмотреть мою кухню, которая выглядит неряшливо из-за мокрого белья, висящего на перекладине перед плитой. Во мне зарождается ощущение, что я позволяю ему увидеть слишком многое.
– Доброе утро, – говорит он. Его английский четкий и выверенный. Я вижу, что он замечает мой передник и молочную лужу на полу. – Боюсь, я пришел в неподходящее время.
Я уже готова сказать: «Все хорошо» – машинальный ответ на его признание. Но не все хорошо. Все не хорошо. Я прикусываю язык, не давая себе говорить.
Он протягивает руку. Это меня поражает. Думаю о том, как они бомбили гавань, когда все наши солдаты ушли, как стреляли по грузовикам, чтобы взорвать бензобаки, когда под ними прятались люди; вспоминаю тело Фрэнка, обгоревшее и истекающее кровью. Я качаю головой, убираю руки в карманы. Не могу поверить, что он считал, будто я захочу пожать ему руку.
Он опускает руку, слегка пожимая плечами.
– Капитан Макс Рихтер, – говорит он.
Внезапно меня охватывает страх. Он пришел, потому что я выходила на улицу во время комендантского часа. Он меня видел. У меня пересыхает во рту, язык прилипает к небу.
Легким требовательным жестом он показывает, что желает узнать мое имя.
– Миссис де ла Маре, – представляюсь я.
Он ждет продолжения, вопросительно заглядывая поверх моего плеча в дом.
– Мы живем здесь вчетвером: я, мои дочери и моя свекровь, – отвечаю я на его незаданный вопрос.
От входной двери можно заглянуть в гостиную. Я замечаю, что он смотрит в ту сторону и оборачиваюсь. Эвелин сидит в кресле и все видит. Он наклоняет голову, приветствуя ее. Она отвечает ему острым, как рыболовный крючок, взглядом, а потом опускает глаза.
– А ваш муж? – спрашивает он.
– Мой муж в армии.
Он кивает.
– Мы теперь будем вашими соседями, миссис де ла Маре.
– Да.
– И… думаю, вы знаете правила.
При этих словах на его лице появляется жесткое выражение, рот становится тонким, как порез от бритвы. Я понимаю, что мне бы хотелось, чтобы пришел другой офицер, тот, который со шрамом. Думаю, что, возможно, он был бы менее строгим, чем этот человек, и менее корректным и отчужденным.
– Да, – говорю я.
– Вы знаете про комендантский час.
– Да.
Сердце несется вскачь. Я представляю, как меня забирают и сажают в тюрьму. А мои дети? Что станет с моими детьми? Я все еще держу руки в карманах. Впиваюсь ногтями в ладони, пытаясь унять дрожь.
– Мы надеемся на спокойную жизнь… для всех нас.
– Мы тоже. Конечно.
Мой голос слишком тонкий и напряженный. Я похожа на наивную девушку.
– Не ставьте нас в трудное положение, – говорит он.
– Мы не станем, – отвечаю я.
Его холодный и довольно циничный взгляд останавливается на мне. Что-то в нем говорит, что он видел меня на дороге.
– Я рад, что мы понимаем друг друга.
Он опускает руку к своему ремню. Страх хватает меня за горло: мне кажется, что он собирается вытащить пистолет. Но он достает что-то из кармана.
– Думаю, это ваше, – говорит он. – Наверное, одной из ваших девочек.
Это мяч в разноцветную полоску, который Милли потеряла за забором. На меня обрушивается облегчение, отчего я начинаю дрожать, и появляется слабость. Короткий, невеселый и истеричный смешок застревает в горле. Я тяжело сглатываю.
– Ох. Да. Спасибо.
Я беру мяч. Не знаю, что еще сказать.
– У меня тоже есть дочери, миссис де ла Маре.
В его голосе мелькает тоска. Это удивляет меня.
– Вы, должно быть, скучаете по ним, – говорю я. Потому что вижу – скучает. Потом задумываюсь: почему я это сказала, почему была так приветлива?
Сержусь на себя, ведь я не обязана ни в чем признаваться, я ничего ему не должна. Я совсем растерялась: не знаю, как правильно себя вести.
Его взгляд возвращается к моему лицу. Я знаю, он может прочесть мое смущение. Все запуталось, смешалось у меня в голове: страх, который я испытываю, суровое выражение его лица, когда он говорил о комендантском часе, и его доброта, ведь он принес мяч.
– Ну, тогда хорошего утра, миссис де ла Маре. Помните про комендантский час, – говорит он и поворачивается.
Я быстро закрываю дверь. Чувствую себя выставленной напоказ, не могу точно сформулировать или определить. На моих ладонях маленькие красные полумесяцы в тех местах, где я вжимала в них ногти.
– Вивьен, – зовет меня Эвелин.
Иду к ней.
– Варвар заходил в дом, – говорит она. – Ты открыла дверь варвару.
Она взволнована. Она опускает вязание, ее морщинистые руки порхают, как маленькие бледные птички.
– Эвелин… я не могла не открыть дверь. Этот человек теперь живет в Ле Винерс.
– Панибратство – безобразное слово. Безобразное слово для безобразного поступка, – строго говорит она.
– Эвелин, я не панибратствовала. Но мы должны быть вежливыми. Должны быть у них на хорошем счету. Они могут сделать с нами что угодно.
Она непреклонна.
– Ты жена солдата, Вивьен. Ты должна показать силу воли. Если он снова придет, не вздумай пускать его в дом.
– Не буду. Обещаю.
– Никогда не пускай их, – говорит она. Пылко. – Никогда не пускай их.
Как будто это правило – то, за что можно зацепиться посреди жизненного хаоса.
Она поднимает вязание. Но потом снова откладывает, неопределенно глядя в мою сторону. На ее лице неожиданная растерянность, глаза словно затянуты дымом.
– Скажи-ка мне еще раз, кто это был? Мужчина, который приходил? Вивьен, кто он, говоришь?
Я не в силах снова все повторять.
– Один из наших соседей, – отвечаю я ей.
– Ох, ты и твои соседи.
Она снова поднимает свое вязание.
Глава 11
С наступлением темноты выхожу во двор, чтобы собрать ботву для компостной кучи. На некоторое время замираю, вдыхая ночной воздух, в нем смешались все запахи, что источают растущие вокруг цветы.
Чувствую ароматы, доносящиеся с заднего двора, и запах растущего табака, который всегда богаче раскрывается именно по ночам. Небо глубокое, вокруг залегли длинные тени, везде появляется оттенок синевы.
Из Белого леса, где деревья уже опутаны тьмой, доносится уханье совы: дрожащее, словно потерянная душа, заплутавшая среди листвы. Неискушенная душа.
На столе в кухне Ле Винерс горит лампа, шторы еще не задернуты. Свет от нее разливается на мой двор, обесцвечивая все, на что падает. Лепестки герани в горшках у моей двери бледно-желтые, в них нет цвета.
Заглядываю в окно и вижу сидящего за столом человека. За столом Конни. Он без кителя, верхняя пуговица рубашки расстегнута.
На первый взгляд мне кажется, что это капитан Рихтер, который приходил к нам, но потом я вижу, что это другой мужчина, тот, что со шрамом. На него падает свет лампы и освещает покалеченную сторону лица.
Совершенно четко вижу его шрам, неровные края, розовую нежную ткань, которая отличается от всей остальной кожи. Сейчас мужчина кажется другим, не таким, каким он был, когда вылез из джипа. Он сидит в одиночестве в свете лампы – такой задумчивый, менее властный.
Я наблюдаю, как он закатывает манжеты. Механически, не задумываясь над своими действиями. Его мысли где-то далеко. Он что-то читает: книгу или письмо. Мне не видно, что это: стол ниже подоконника.
Думаю, что это именно письмо. Только письмо способно настолько удерживать внимание. Какое-то новое выражение мелькает на его лице: ему что-то не нравится. Он хмурится; рассеянно пробегает пальцем по лбу.
У меня возникает мысль: «Так он выглядит, когда сосредоточен». Голубоватый дым от сигареты, лежащей в пепельнице, окружает его и мягко завивается в спирали возле лица мужчины.
Он один, и я знаю, он ощущает свое одиночество. Он не знает, что я за ним наблюдаю. У него вид человека, который и не подозревает, что за ним подсматривают.
Внезапно мне становится любопытно, а что у него в другой жизни. Той, где он не был солдатом. Его дом, люди, что дороги ему. Задумываюсь, что для него значит быть здесь, когда все, что его окружает этой ночью на острове, столь ему незнакомо.
Ночью природа словно сама по себе, отдельно от нас. Даже для меня, так долго прожившей в этой уединенной долине, ночь на Гернси может показаться немного чужой: одинокий крик совы, густая, глубокая темнота.
Интересно, откуда он, к чему стремится? Тоскует ли он по дому, как тосковала я, когда впервые приехала сюда? Мы с такой легкостью используем это слово, но я думаю о том, чему научилась тогда: что тоска по дому – это настоящая болезнь, печаль, так похожая на скорбь по тому, что было потеряно или отнято.
Я все еще чувствую ее время от времени, всего лишь след былой тоски; он возвращается воспоминанием о свете фонарей, о тротуарах под дождем, о запахе гари в подземке – обо всех запахах и звуках Лондона, о его гудящей и страстной энергии. Интересно, по чему тоскует этот мужчина?
Я так и стою, глядя на него. Мысленно приказываю ему поднять глаза, посмотреть в окно, на меня. Похоже на детскую игру, как будто я могу заставить его увидеть меня, как будто он моя марионетка.
Сейчас, в эту минуту, власть принадлежит мне – малюсенький ее кусочек. Потому что я смотрю на него, а он об этом не знает, он меня не видит.
Но он не двигается, не шевелится, его глаза прикованы к тому, что он читает. Я проскальзываю в дом. Я взволнована, но не знаю, как сформулировать причину. Как будто все не совсем так, как я представляла.
Ложусь в кровать, но долго не могу заснуть.
Часть II: Июль – Октябрь 1940
Глава 12
Мама умерла, когда мне было три. Помню, как нас с Ирис, мой старшей сестрой, отвели к ней в комнату, чтобы попрощаться. Там пахло как-то неправильно. В спальне мамы всегда пахло розовой водой, но в тот момент там стоял тяжелый, удушающий запах дезинфицирующих средств.
Да и сама мама выглядела как-то необычно, размыто, словно ее лицо было вылеплено из воска и начало таять. Я была немного напугана ее видом. Мне хотелось уйти из комнаты, оказаться где-нибудь в другом месте, а не здесь. Она слишком крепко держала меня за руку и плакала. И мне это не нравилось.
Я мало что помню из тех недель и месяцев, что были потом, за исключением того, что на похоронах на мне было жесткое черное платье из материала, от которого все зудело, а люди постоянно ругали меня за то, что я чесалась.
После смерти мамы я некоторое время молчала, просто отказывалась разговаривать. Так мне сказали. Я не многое помню из того времени. Кроме музыкальной шкатулки, которую мне отдали, и которую я заставляла играть часами напролет, поскольку музыка пахла воспоминаниями о маме.
В голове возникают картинки дома, в котором мы жили на Эвингтон-роуд, 11, рядом со станцией «Клапхэм Коммон». Это был высокий, безликий дом, который никогда не спал, который кряхтел и скрипел ночи напролет. А еще там был укрытый от посторонних взглядов сад, с нависшими над ним деревьями и нападавшей за много лет листвой. И тетушки, которые заботились о нас: тетя Мод и тетя Эгги. Они были добры, но не могли заменить мне маму. Очень часто, расчесывая волосы, они делали мне больно. Я навсегда запомнила, как они слишком сильно дергали запутавшиеся пряди, а не осторожно распутывали узелки, как делала мама.
Я была нервозным, испуганным ребенком. Боялась многих вещей: грозы, края железнодорожной платформы; пауков, даже самых маленьких, пробегающих по террасе в задней части дома. Боялась их давить, поскольку тогда оставался мазок, словно кровавое пятно. Но больше всего я боялась темноты.
Я всегда боялась темноты. Однажды мы играли с Ирис в школу. Я была чуть старше, чем Милли сейчас, мне было пять. Ирис была учительницей.
Она была строгой и суровой и решила, что я плохо себя вела, поэтому заперла меня в угольном сарае. Сарай был бетонным, без окон, с плотно прилегающей дверью, чтобы сохранить уголь сухим, даже лучик света не проникал из-под двери. Я помню темноту, внезапную и абсолютную, страх, поднявшийся во мне, как приступ тошноты, быстрый панический бег моего сердца. Было очень темно, и сначала я решила, что закрыла глаза, что каким-то образом они склеились, но потом я поднесла руку к лицу и обнаружила, что они открыты: ощутила трепет кончиков ресниц.
В тот раз я узнала, что темнота бывает разной. Что есть обычная темнота, похожая на ночь за городом, когда даже в безлунную ночь, присмотревшись, можно разглядеть проступающие темные очертания вещей. А есть темнота другая, настолько полная, что ее невозможно даже представить себе.
Темнота, которая заслоняет все ваши воспоминания или надежды. Темнота, которая учит тому, что все, что приносит вам утешение, – ненастоящее.
Не думаю, что пробыла там долго. Тетя Эгги поняла, что случилось, отругала Ирис, пришла и открыла дверь. Но я совсем не запомнила тот момент, когда меня снова выпустили на белый свет. Я запомнила темноту.
* * *
Насколько потеря матери повлияла на мою дальнейшую жизнь? Теперь я вижу, что очень сильно, хотя мне потребовались годы, чтобы это понять.
Сейчас мне даже интересно, не по этой ли причине я вышла замуж за первого же мужчину, с которым ходила на свидание, имеет ли эта потеря какое-то отношение к моему решению. Желание устроенности, стремление к безопасности, мечта о том, чтобы все оставалось по-прежнему. Меня слишком пугали перемены и неизвестность.
Мне было девятнадцать, когда я встретила Юджина, и я все еще жила в доме на Эвингтон-роуд. Я работала секретарем в страховой компании в Клапхэме. Мы с Юджином познакомились на благотворительном собрании в церкви. Он был банковским служащим и снимал квартиру в Стритаме, где всегда пахло брокколи.
Он с восторгом переехал в Лондон и надеялся получить от него нечто, что тот каким-то образом не сумел ему дать. Когда мы встретились, он уже жаждал вернуться на Гернси. Его окружал едва заметный нафталиновый запах разочарования, хотя поначалу я этого не замечала.
Юджин был привлекательным мужчиной с ясными глазами, симметричными чертами, приглаженными волосами и чисто выбритым лицом, благодаря чему он выглядел намного моложе своих лет. Наши дочери унаследовали его, это открытое, искреннее выражение лица.
И он всегда был очень хорошо одет: его деловые костюмы были так отглажены, что о стрелки можно было порезаться, а ботинки были начищены до зеркального блеска. «Он так очарователен, – говорили все. – Выглядит совсем как Джек Пикфорд. Ну, разве это не прекрасная партия для тебя?»
Было что-то обнадеживающее в том, как легко и умело он ухаживал за мной: желтые розы, коробочки с мармеладом «New Berry Fruits». Создавалось чувство, что я могу на него положиться, что он возьмет все в свои руки и сам все решит. Что он во мне нашел? Не понимаю.
Не знаю, сейчас уже не могу представить, хотя он всегда очень лестно отзывался о моей внешности и нарядах. Он знает, как польстить женщине. Может, мое звучащее совсем по-французски имя каким-то образом обнадежило его, навело на мысль, что я подойду для жизни на его острове.
Возможно, это звучит странно, но люди часто позволяют подобным вещам управлять собой, принимают важные решения на основании легкого манящего жеста. Я такое встречала. Какой бы ни была причина, он с нетерпением ждал, когда же сможет подхватить меня и привезти на Гернси.
Но все оказалось не так, как я себе представляла, начиная с нашей первой ночи. Я не почувствовала того, что, как я знала, должна была почувствовать. Я думала, что это, должно быть, моя вина, что со мной что-то не так, чего-то не хватало во мне.
Или, если говорить точнее, мне чего-то не хватало. Потому что я знала, что способна чувствовать подобные вещи, просто не в постели с Юджином. Бывало, что я видела, как мужчина – незнакомый – ослабляет галстук, расстегивает манжеты, заворачивает рукава рубашки, и что-то сжималось у меня в животе, меня охватывал трепет.
Иногда мне снился сон, в котором позади меня стоит мужчина и расчесывает мои волосы, а я откидываюсь назад и чувствую тепло, когда он прижимается к моей спине, и тогда я просыпалась, охваченная желанием.
Может быть, Юджин ощущал нечто похожее: что чего-то не хватало. Потому что мы очень редко занимались любовью, а с тех пор, как я забеременела Милли, и вовсе ни разу.
Мы никогда не говорили об этом – да и как о таком заговорить? Постепенно, предательски, с легкой дрожью в сердце, я начала узнавать слухи. Юджину нравился любительский театр, и он присоединился к кружку, который репетировал в Сент-Питер-Порт.е
У него был приятный, выразительный голос, и ему нравилось играть роли. Там была женщина, Моника Чарлз, которая иногда играла с ним в паре. Рыжие волосы, обширный бюст, острые накрашенные ногти и роскошный бархатный аромат «Shalimar», которым она всегда пользовалась.
Она довольно громко разговаривала и принадлежала к тому типу женщин, которые словно забирают весь кислород в помещении. В ее присутствии я всегда чувствовала себя маленькой и невзрачной.
Однажды Гвен осторожно спросила, слегка хмурясь от неловкости и не глядя на меня: «Тебя не беспокоит, что Юджин так приветлив с Моникой Чарлз?» У меня екнуло сердце. «Нет, а должно?» «Я просто спросила», – ответила она. «Он любит театр, страстно влюблен в него, – сказала я, осторожно подбирая слова и складывая их между нами, как маленькие камушки. – Хорошо, что у него есть занятие, которым он так наслаждается». «Ты очень сильная. Я тобой восхищаюсь», – сказала Гвен и сменила тему. Я не стала думать над тем, что она сказала, и старалась больше не возвращаться к тому разговору, как будто ее слова были чем-то острым, что могло меня ранить.
Однажды вечером я повела девочек к нему в гримерку. Он вместе с Моникой Чарлз играл в «Частных жизнях». Милли было два года, пьеса ее утомила, и я несла ее на руках, теплую и тяжелую. Я постучала, он не ответил, и я толкнула дверь.
Меня коснулся запах «Shalimar», загадочно-бархатный, коварный. Юджин был там с Моникой Чарлз. Она стояла, подняв одну ногу на стул, ее юбка была собрана вокруг бедер, а он медленно стягивал с нее чулок.
В его ласкающих прикосновениях сквозила чувственность, совершенно мне не знакомая. Они подняли головы, заметили меня и отпрянули друг от друга. В его глазах отразилось потрясение, а затем я увидела, как в них начали выстраиваться оправдания. Я не осталась, чтобы их выслушать.
Бланш стояла у меня за спиной, Милли клевала носом. «Его здесь нет, – сказала я. – Должно быть, мы его прозевали». Я быстро увела девочек. Не думаю, что они что-нибудь разглядели.
Мы никогда это не обсуждали, просто продолжали жить, как раньше. Но с этого времени что-то во мне закрылось окончательно, как дверь гримерки, которую я захлопнула за собой. Что-то закончилось для меня.
Иногда я задумывалась об этом: о том, чего так не хватало моему браку; о той части меня, которую, мне казалось, я никогда не смогу выразить, но которая может быть так внезапно, почти случайно потревожена какой-то мимолетной грезой или брошенным на незнакомца взглядом, или незнакомцем, взглянувшим на меня.
Помню один момент, что случился со мной давно, когда я была уже знакома с Юджином, но все еще жила в Лондоне. Я шла по набережной Темзы, мне встретился мужчина, который обернулся, чтобы посмотреть на меня. Это было незадолго до свадьбы – я шла на встречу с Ирис в Лионский угловой дом, что стоял на Тоттенхем-корт-роуд.
Она должна была стать свидетельницей на моей свадьбе, и я хотела показать ей образцы ткани для ее платья. На мне был изящный темно-синий костюм, замшевые, с ремешками, туфли на высоком каблуке, лучшие шелковые чулки с идеально ровными стрелками и розовая войлочная шляпка с плотной репсовой лентой.
Я немного запаздывала на встречу. Вероятно, опять витала в облаках, прокручивая в уме очередное стихотворение, и, должно быть, мое лицо раскраснелось на осеннем ветру.
Мужчина был старше меня. Высокий, с несколько усталым, но живым лицом. У него был серьезный взгляд, никакой улыбки. Такой взгляд, который чего-то требовал от меня, взгляд, выходящий за грань одобрения или заискивания.
Его взгляд был таким настоящим, как касание руки. Я почувствовала, как по мне прошла жаркая волна, яркая нить непередаваемого ощущения прокатилась вниз по телу. Все вокруг танцевало: падающие коричневые листья, бушующая река.
Я до сих пор порой вспоминаю эту минуту. Если бы он позвал меня с собой, я бы пошла.








