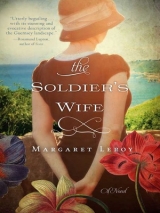
Текст книги "Жена солдата (ЛП)"
Автор книги: Маргарет Лерой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Глава 54
Гюнтер приносит мне хлеб из своего пайка.
– Ты уверен, что можешь поделиться? – спрашиваю я.
– Я счастлив это сделать, – отвечает он.
Я очень ему признательна. Беру хлеб, проводя пальцами по жилам на его запястьях, и притягиваю Гюнтера к себе.
– Спасибо.
Мы съедим этот хлеб с куриным супом, который я приготовила.
На следующий день, когда Милли играет с Симоном, я иду в кладовку, произнеся короткую молитву о том, чтобы все было, как следует. Открываю дверь в кладовку и поднимаю крышку хлебницы. Нет. Половина буханки исчезла. Она не оторвана, а отрезана, но неумело, кем-то, кто еще не научился хорошо пользоваться ножом.
Когда Милли возвращается домой, я ищу сумку, с которой она ходит гулять. Она бросила ее в коридоре. Развязываю сумку, чувствуя, как в животе бабочкой бьется паника, будто уже все знаю, еще не заглянув внутрь. Сумка пахнет яблоками. Я переворачиваю сумку, и из нее вываливаются все сокровища, которые Милли собрала: веточки, маленькие голубые камешки, голубиное перо. Хлебные крошки.
Мне не по себе: в голове крутятся неприятные вопросы. Где я ошиблась? Почему моя дочь не говорит правду? Я что-то сделала не так? Или все дело в сказках, которые мы читали? Какая бы причина ни была, я провалила самую важную задачу родителя: позволила ей жить в мире фантазий, и она не умеет различать, что правильно, а что нет.
Из гостиной доносится ее мелодичный смех. Иду туда. Она играет с детской коляской, которой я пользовалась, когда девочки были маленькими. Милли пытается засунуть внутрь, под простыню, Альфонса.
– Милли, у нас пропал хлеб. Это ты его взяла?
Ее смех обрывается.
– Нет, мамочка, – отвечает она высоким голосом, словно пытаясь проверить, как будут звучать ее слова.
Кот выползает из коляски. Она хватает его, Альфонс пытается вырваться.
– Милли, отпусти кота. Ты должна меня выслушать.
Она позволяет Альфонсу ускользнуть. Он оставляет на ее запястье красные, словно нити шелка, царапины. Но Милли их не замечает. Девочка немного напугана. Я не часто разговариваю с ней так резко.
– Ты не должна красть еду, – объясняю я. – Это очень, очень нехорошо. Это нечестно по отношению к остальным.
– Да, нечестно, – отвечает Милли бесцветным голосом.
– Ты же знаешь, как ее мало. Еду нужно делить поровну, – говорю я строгим, жестким и высоким голосом. – Я всегда даю тебе яблоко, когда ты уходишь играть с Симоном. Это все, что у нас есть.
Но у нее непроницаемое выражение лица. Почему-то я не могу до нее достучаться.
– Я этого не делала, – говорит Милли. – Я не ела хлеб.
Сейчас ее голос звучит вызывающе, словно она репетировала, что скажет.
– Милли, я нашла крошки в твоей сумке.
– Нет, мама, не находила, – говорит она.
Я приношу сумку и показываю хлебные крошки.
– Я этого не делала, – настаивает Милли.
Я в ужасе от того, что она вот так запросто мне лжет.
– Милли, ты же знаешь, что нужно говорить только правду.
Я понимаю, что должна злиться, должна накричать на нее, ударить. Но у нее такое несчастное личико, что я не могу этого сделать.
– Обманывать нельзя, – говорю я.
– Почему? – интересуется она.
Пытаюсь прокрутить ответ в голове. Потому что честность очень важна. Потому что мы должны доверять друг другу… Но моя жизнь… все мое счастье… основано на тайнах и лжи.
– Некоторые вещи просто недопустимы, – объясняю я. Но мой голос какой-то пустой, как чрево пещеры. Мой дар убеждения бесследно исчез. – Ты должна пообещать мне, что никогда так больше не сделаешь.
– Но я и не делала, – снова говорит она. – Я не ела хлеб.
Глава 55
– Вивьен, тебя что-то беспокоит.
– Да.
– Расскажешь?
Его голова покоится на подушке, я приподнимаюсь на локте и заглядываю ему в лицо. Даже в слабом свете свечей заметно, насколько он изменился за время нашего знакомства. Стал старше: волосы побелели и поредели, на лбу появились морщины. Я смотрю и гадаю, как же я выгляжу в его глазах, насколько я изменилась с того момента, как он впервые увидел меня в переулке, где гуляли порывы душистого ветра. Я знаю: за месяцы и годы, что идет война, я не стала краше.
Откашливаюсь
– Милли. Она крала еду. Но что бы я ей ни говорила, она пропускает мимо ушей. Полагаю, она просто не понимает, насколько это серьезно, особенно сейчас, когда еды так мало.
– Молодому организму очень трудно справляться с голодом, – говорит он.
– Но это еще не все. Она придумывает всякие разные истории. Продолжает настаивать, что там, где они играют, водится призрак. В амбаре. Какие-то странные выдумки. Но, похоже, она сама в это верит.
– Что за амбар? – спрашивает Гюнтер.
– Земля Питера Махи перед Белым лесом. Они с Симоном там играют. Это ее друг. Выдумывают всякое и играют.
– Так ведь многие дети так играются, – успокаивая меня, говорит он.
– Но эта фантазия захватила ее настолько, что уже кажется реальностью, перешедшей в наш повседневный мир. Я хочу сказать, что это ненормально. И из-за войны ситуация ухудшается. Но я-то пытаюсь сделать так, чтобы их жизнь текла как обычно.
– Да, я знаю, что пытаешься.
– Может, это моя вина? Может, я читала ей слишком много сказок?
Он улыбается… той улыбкой, что мне так нравится, что заставляет его глаза лучиться.
– Невозможно читать слишком много сказок, – говорит Гюнтер. – С детьми такое просто невозможно.
– А еще меня беспокоит, что она лжет. Она взяла немного того хлеба, что ты принес, и заявила, что не ела его. Но я нашла крошки в ее сумке.
– Думаю, тебе не стоит переживать. Милли еще очень маленькая. Многие дети живут в двух мирах: нашем и своем собственном.
– Думаешь? Другие дети… думаешь, они верят, что их фантазии настоящие?
Он выдыхает сигаретный дым. Из-за голубых завитков его лицо становится расплывчатым.
– Когда я был маленьким, – говорит Гюнтер, – у меня был воображаемый друг.
– О.
Я очарована.
– Я тогда был примерно того же возраста, что Милли сейчас. До того, как мама снова вышла замуж, – говорит он, и его лицо мрачнеет.
– Да. – Я вспоминаю, что он рассказывал мне про своего отчима. Тянусь и провожу рукой по его лицу и голове, с любовью ощущая обнаженную кожу и коротко стриженые волосы. – Расскажи мне про своего воображаемого друга.
Он немного заливается румянцем, стесняется.
– Во время обеда мама ставила тарелку и для него.
Я околдована.
– Как его звали? Твоего друга? – спрашиваю я.
Он улыбается легкой, самоироничной улыбкой.
– Его звали Уильям.
– Уильям?
– Как вашего писателя Уильяма Шекспира. Это единственное английское имя, которое я знал. Я считал его очень утонченным, – говорит Гюнтер.
Это заставляет меня улыбнуться и не оставляет равнодушной. Мне нравится представлять его маленьким мальчиком. Хотелось бы дотянуться до него через годы и обнять.
Задуваю свечи. Моя голова лежит на груди Гюнтера, меня окружает запах его кожи, слышу сонный стук его сердца. Я проваливаюсь в глубокий сон.
Просыпаюсь, когда он уходит холодным утром с первыми грачами и серым предрассветным лучом. Его нет, и меня охватывает смутное беспокойство… словно темный мотылек порхает в глубине сознания… я не понимаю, откуда это ощущение.
Глава 56
Приходит осень, наступает учебный год, и Милли снова ходит школу. Я чувствую облегчение. При таком количестве ежедневной школьной работы (расписание занятий, чтение книг, заучивание правил написания слов) у нее не останется много времени на выдуманный мир, который они придумали с Симоном. Я подстригаю ее и отпарываю подшитый подол: Милли очень выросла за время каникул.
В воскресенье Бланш будет читать в церкви отрывок из Библии.
– Мама, я бы хотела, чтобы ты пришла. Хочу, чтобы ты послушала меня, – говорит она, требовательно глядя на меня синими, как лето, глазами.
– Я бы с удовольствием, милая, – отвечаю я. – Но я боюсь оставлять бабушку одну.
– Но не только поэтому, да? – спрашивает она. – Я знаю, что на самом деле ты больше не веришь Библии, с этой войной и прочим. Но мне бы хотелось, чтобы ты верила. Для всего в мире есть Божий замысел, мам. Должно быть, это – часть его замысла.
– Не знаю, милая, – говорю я и перевожу разговор на более простые вещи. – Но мне действительно не хочется оставлять бабушку одну. Кроме случаев, когда мне просто приходится это делать.
– Тебе придется в воскресенье. Бабушка спокойно останется на пару часов. Пожалуйста, мам.
Так что мы с Милли надеваем свои лучшие платья и вместе с Бланш отправляемся на утреннюю службу.
И хотя я не уверена в своем отношении к Богу, я все же получаю удовольствие от службы, находя некоторое утешение в знакомых словах молитв. «Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне…»
Мне нравится мерцание свечей на алтаре и золотистый солнечный свет, льющийся в окно и ложащийся на ступени алтаря отблесками самоцветов. Большая часть службы проходит так же, как и до оккупации, но нам не разрешается молиться за нашу страну, хотя мы все еще можем молиться за короля.
Мы читаем молитву общего покаяния, бормотание прихожан едва поспевает за пастором, эхо тихих голосов рокочет в нефе. «Всемогущий и милосердный Отче, мы согрешили и уклонились от путей Твоих, подобно потерянной овце. Мы неукротимо следовали стремлениям и желаниям своего сердца…»
Повторяя эти слова, я ощущаю себя отделенной от остальной паствы, размышляя о том, как они отнеслись бы к моим действиям, насколько греховной посчитали бы мою любовь к Гюнтеру.
Бланш идет к кафедре, чтобы начать чтение. Поначалу она стесняется и слегка заикается, такое иногда бывает, но затем ее голос звучит громче и увереннее. Глядя на нее со стороны, я понимаю, как она меняется, становится женщиной: ее тело становится мягче, черты лица – более определенными.
Я знаю, она до сих пор жалеет о том, что мы не уехали в Лондон. Она верит, что ее надежды на счастье лежат далеко от этих мест: в далеком будущем или на том берегу пролива – где угодно, только не здесь. Мои глаза наполняются слезами, когда я смотрю на нее и чувствую ее тоску по всем вещам, которыми она не может обладать, потому что растет в военное время. Меня беспокоит, найдет ли она когда-нибудь то, чего ищет.
Бланш возвращается на нашу скамью, ее щеки окрашены ярким румянцем от удовольствия и неловкости одновременно. Мы слушаем проповедь, сегодня она про рай и ад.
Пастор говорит, что это не реальные места, по крайней мере, не в том смысле, в котором мы понимаем Сент-Питер-Порт. Ад и рай – состояния бытия. В раю мы навеки вместе с Богом, а самой страшной мукой ада, страшнее, чем мириады прочих мучений, является отсутствие Бога.
После службы я болтаю с Сьюзан Гальен, которая хвалит чтение Бланш. Сьюзан, как всегда, элегантна. На ней льняное платье кораллового цвета. Но что-то в ее улыбке, сладкой, словно глазурь, заставляет меня стиснуть зубы. Пока мы разговариваем, девочки идут впереди.
Я прощаюсь, когда это позволяют рамки приличия, и догоняю Милли и Бланш. Они увлечены разговором, их головы склонены друг другу, отливая золотом в переменчивом свете переулка, закрываемом сверху кружевом ветвей. Девочки обсуждают проповедь. Я удивлена, что они были настолько внимательны.
– А я знаю, что такое ад, – говорит Милли. – Оттуда пришел мой призрак.
Очень прозаично.
– И с чего это ты решила? – спрашивает Бланш.
– Потому что он сам сказал, глупая. Он там живет. Он живет в аду, – отвечает Милли.
Бланш поворачивается к ней лицом. Мне кажется, она хочет сказать сестре, чтобы та не называла ее глупой. Но она внезапно становится серьезной – осознает свою роль во всем происходящем и обеспокоена словами Милли.
– Милли, не стоит выдумывать разного рода истории про ад.
– А я ничего и не выдумываю, – настойчиво и решительно говорит Милли.
– Я серьезно, Милли. Об этом не стоит шутить. Люди попадают в ад, если в течение жизни совершали плохие поступки и не верили в Иисуса.
Бланш торжественна и серьезна, она беспокоится за душу сестры.
– Мой призрак хороший, – говорит Милли.
– Нет. Если он живет в аду, значит, он плохой, – настаивает Бланш. – В своей мирской жизни он был плохим.
– Он не плохой.
Бланш поджимает губы. На лице появляется раздражение, которое возникает всякий раз, когда сестра ведет себя подобным образом.
– В любом случае, ад – это не то место, куда ты можешь нырнуть и вынырнуть, – говорит Бланш. – Люди никогда не возвращаются из ада. Если ты попадаешь в ад, тебе оттуда уже не выбраться. Так написано в Библии. Это ты должна знать.
– Но они возвращаются. Возвращаются. Иногда, – не сдается Милли, но в ее голос вползает неуверенность. Я вижу, как у нее дрожат губки.
Догоняю их и тянусь за рукой Милли… но она дергается от моего прикосновения. Милли выламывает палку из живой изгороди. Отвернувшись от меня и сестры, она сбивает ею растения, мимо которых мы проходим. Ее глаза блестят от слез, но ей не хочется, чтобы мы их видели.
Глава 57
Гюнтер на две недели собирается в отпуск.
За ночь до своего отъезда, он поднимается за мной в спальню. Я закрываю дверь и поворачиваюсь к нему, но он не спешит заключать меня объятия. Гюнтер тяжело опускается на кровать. У него серьезный вид. Гадаю, что будет дальше.
– Я должен кое-что тебе сказать, – говорит он. – Услышал недавно. Существует план по депортации тех людей, которые не являются коренным населением этого острова… которые родились не здесь.
– Такие, как я. Я здесь не родилась.
– Да, такие, как ты, – говорит Гюнтер.
Я пытаюсь осознать сказанное. Пронзительный, лихорадочный голос в моей голове пытается убедить меня, что все будет хорошо. Они ведь не сделают этого с людьми, которые не доставляют никаких неприятностей… особенно матери с маленькими детьми. Они не сделают этого… в этом нет никакого смысла. Это же просто неразумно, ведь детям нужны матери, это всем известно…
А если все-таки людей высылают, то, наверняка, во Францию: на месяц или два. Островитян там сажают в тюрьму. Говорят, все не так уж и ужасно, в большинстве своем они возвращаются домой.
– И куда увозят? – спрашиваю я.
– В Германию, в лагеря для интернированных, – отвечает Гюнтер. – До окончания войны.
Земля уходит у меня из-под ног.
– Нет. Нет. – Не могу поверить, что он так спокоен, так безмятежен, объявляя мне об этом. Меня охватывает страх. – Что будет с моими детьми?
В моем голосе слышатся слезы. Я вижу, как на меня неумолимо надвигается то, чего я боялась больше всего: у меня заберут детей.
– Вивьен.
Гюнтер кладет свою руку на мою. В его прикосновении я чувствую утешение. Мир возвращается в равновесие. Я тут же понимаю, почему он так спокоен.
– Ты можешь что-нибудь сделать? Ты можешь мне помочь? – спрашиваю я.
Он кивает.
– Сделаю все, что в моих силах. Возможно, кое-какие имена в списках не появятся.
– Ты сможешь это сделать? Сможешь?
– Думаю, да. Полагаю, могут быть некоторые исключения. Но ты не должна об этом никому говорить. Никому.
Это как раз самое просто. Я привыкла к скрытности.
Когда он уходит утром, а я провожаю его до двери, на меня накатывает вся пронзительность грядущего расставания. Я цепляюсь за него, не в силах отпустить.
Гюнтер отрывает мои пальцы от своей руки. Целует мои руки.
– Всего две недели, и я вернусь к тебе, – говорит он.
– Во время войны две недели – это очень долго. Всякое может случиться.
– Вивьен, я вернусь к тебе. Обещаю.
Наблюдаю, как он идет через мой двор в бледных лучах восходящего солнца. Небо кажется таким далеким. Оно переливается, словно жемчужина.
Возвращаюсь в спальню, но без него кровать кажется пустой. Я уже по нему скучаю… словно оторвали часть меня.
Глава 58
Вечером, после того как Гюнтер уехал, я решаю сходить в лес за ежевикой. Селеста встречается с Томасом, поэтому Бланш никуда не уходит. Я оставляю ее присматривать за домом, а сама иду на вершину утеса, где растут большие ежевичные кусты.
Оставляю велосипед в подворотне и дальше иду пешком. Ограды здесь низкие – за ними до самого обрыва раскинулись широкие поля. На море, которое этим вечером шелковистое, наполненное бледно-желтым свечением, открывается великолепный вид.
Надо мной летает спокойная и зоркая пустельга, кажущаяся закопченной на фоне ослепляющего неба. Ветер умер, земли кажутся необъятными и пустынными. У меня складывается ощущение, что я одна в этом мире. Мои плечи, словно шалью, накрывает умиротворение.
Ягоды очень много, она уже темная и спелая. Собираю. Кончики пальцев окрашиваются в яркий цвет индиго. Слизываю терпкий вкус со своей кожи.
Вокруг стоит такая тишина, что я слышу скрип своих туфель и шелест листьев под рукой, словно что-то рвется. Совсем скоро я набираю достаточно ягоды, чтобы хватило на пару пирогов. Ощущаю то краткое чувство триумфа, которое приходит ко мне тогда, когда я добываю еду для своей семьи.
Наконец я собираюсь домой, испытывая легкую грусть от того, что покидаю это место, поэтому задерживаюсь еще немного, чтобы бросить взгляд на море. Садится солнце, в лучах которого нежится густая вата плотных облаков.
Вся желтизна ушла с поверхности воды. Море тяжело поднимается и опускается, словно серебряный чешуйчатый зверь, что не знает покоя и движется даже во сне. Пустельга все еще парит надо мной, а потом вдруг складывает крылья и падает, будто брошенный камень.
Внезапный крик заставляет меня вздрогнуть – голос немецкого солдата: резкий, стальной, отдающий команду. Я замираю, сердце выпрыгивает из груди. Прекрасно понимаю, что это значит – отряд рабов-рабочих возвращается с работы. Передо мной возникает то, что я старательно отодвигала подальше на задворки своего сознания: страшная повседневная жестокость. У меня нет времени, чтобы спрятаться. Вжимаюсь в живую изгородь.
Из-за поворота в поле моего зрения появляется отряд рабочих. Они, наверное, строят на вершине утеса бетонное кольцо Гитлера. Их охраняют двое охранников из «Организации Тодта» с ружьями и повязками с изображением свастики.
Наблюдаю за рабочими. Земля уходит из-под ног.
Похоже, заключенные работали с цементом – они все покрытым им: сероватый порошок у них на волосах, на коже, на ресницах. От этого их лица совершенно белые, на них нет ни единой яркой краски.
Одеты рабочие в рванье, поэтому у многих вокруг талии обрезками проволоки или веревки закреплены мешки из-под цемента. Они совершенно босые, у некоторых мешки обмотаны вокруг ступней. От бессилия и истощения их головы повисли, а сквозь кожу проступают острые кости.
В сумраке они выглядят совершенно безликими, как призраки. И поступь их совершенно бесшумна.
Глава 59
Милли приснилось, что она проглотила рыбную косточку, и она просыпается с болью в горле. Я говорю, что ей придется остаться дома.
– Можно мне погулять с Симоном? – спрашивает она. – Когда он придет домой из школы?
– Нет. Конечно, нет, – поспешно отвечаю я. – Тебе нельзя гулять, если ты не ходила в школу.
У Милли заложен нос. Я капаю несколько капель раствора для ингаляций в миску с горячей водой и велю ей дышать парами под полотенцем, крепко зажмурив глаза.
После процедуры ей дышится намного легче. Приношу пуховое одеяло, устраиваю ее на диване и кладу на поднос пазл с Букингемским дворцом. Это единственный раз, когда я рада тому, что мой ребенок болеет: так мне будет проще.
Примерно за час до комендантского часа, когда Эвелин у себя в спальне, а Бланш еще у Селесты, я говорю Милли, что мне надо ненадолго уйти. На крыше Ле Коломбьер заливается черный дрозд. Я пересекаю дорогу и иду через свой сад в поля.
По вечерней прохладе огибаю окраину Белого леса и подхожу к сараю Питера Махи. Сердце колотится в груди. Реагирую на каждый шорох и шепот листьев, на каждый звук окружающей меня местности, на возню каждого прячущегося в траве зверька. Словно я здесь чужая.
У подножия сарая лежит более густая тень, будто разлилась черная река. Приблизившись, я замечаю, что дверь открыта. Тихонько подхожу и заглядываю в нее.
Поначалу я ничего не могу разглядеть, только темноту внутри. Возможно, я ошиблась, поспешила с неверными выводами. Меня охватывает облегчение. Я уже готова повернуться и уйти, когда понимаю, что более густая темнота в углу на самом деле человек.
Он сидит ко мне боком и не видит меня. Думаю, его восприятие притупилось от истощения, от голода, от того, что ему пришлось повидать. Он сидит наклонившись вперед, его сгорбленная тень падает на пол. Как и те люди, которых я видела на обрыве, он одет в мешок, подвязанный проволокой, с дырками для рук.
Обувь тоже сделана из мешковины. Я не могу понять, какого цвета его волосы или сколько ему лет. Все, что делает его личностью, стерто пылью, грязью и голодом.
Мир вокруг меня замирает, становится пустым. Я слышу только звук его зубов, впивающихся в хлеб, и приглушенный стук своего колотящегося сердца.
В голове звучит тонкий голосок, тихий, озабоченный, убеждающий: «Не смотри. Так безопаснее. Уходи. Возвращайся в Ле Коломбьер и сделай вид, что этого не было. Притворись, что ты не видела его…»
И что-то во мне отчаянно желает подчиниться этому тихому голосу. Не только из-за опасности. Позволить себе посмотреть – значит поставить себя на его место. На место голодного, несчастного, замученного человека. А я не могу этого вынести.
Но моя дочь приходила и смотрела на него. Милли, которой шесть лет и которая не боится темноты. Милли приходила и смотрела – и не отвернулась.
Когда я возвращаюсь домой, Милли все еще сидит на диване, завернутая в одеяло, и собирает пазл. Стойкий аромат ментола и эвкалипта висит в комнате и щиплет глаза.
Я встаю на колени рядом с ней.
– Милли, я видела твоего призрака. В сарае мистера Махи.
Она замирает, лицо превращается в маску, а рука зависает над пазлом, в маленьких пальчиках зажат кусочек неба.
– Я знаю, что ты брала еду, – говорю я.
Она кладет кусочек пазла обратно на поднос, аккуратно, с тихим щелчком, как будто сломали тонкую косточку.
– Он был голоден, – с вызовом отвечает она. – У нас была еда, а у него не было. Это нечестно.
– Да, нечестно.
У нее небольшая лихорадка, к потному покрасневшему личику прилипла прядь волос. Она смахивает волосы, словно злится на них.
– Ты не должна сердиться на меня, мамочка.
– Я не сержусь, милая. Не сержусь.
– Он хотел есть, и мы его кормили, – продолжает Милли. Ее руки сжаты в кулачки. Она так сосредоточена на том, чтобы объяснить мне.
– Да. Я понимаю, почему вы это делали.
– Он пришел из ада. Он там живет. Он живет в аду. Он нам сказал.
– Милли…
– И все не так, как говорил пастор. Пастор ошибается, когда говорит, что ад – это не место. Мой призрак говорит, что ад существует. Я знаю, что ты мне не веришь…
– Я верю тебе.
Ее глаза удивленно распахиваются.
Я обнимаю ее. Она напряжена и сдержанна от неуверенности в том, что на меня нашло и о чем я думаю.
– Но я не хочу, чтобы ты продолжала это делать, милая, – говорю я. – Это слишком опасно.
– Нет, ты ошибаешься, – возражает Милли. – Ты так говоришь, потому что не знаешь его. Призрак добрый. Он не причинит нам вреда.
– Я уверена в этом.
– Я просто хотела напугать Бланш. Когда сказала, что он страшный. Я соврала, потому что она зануда. Я хотела ее напугать.
– Я не об этом. Я знаю, что он не причинит тебе вреда. Но если немцы узнают, они очень разозлятся.
– Они посадят нас в тюрьму?
– Да. В тюрьму или… – Я вспоминаю, что рассказывала Вера около школьных ворот. О женщине с Джерси, которая прятала рабочего в своем доме. О том, что ее застрелили. Гоню мысль прочь. – Дело в том, что они не должны узнать. Никогда.
– Но кто-то должен его кормить, – говорит Милли. – Если не мы с Симоном, то кто станет это делать? Он умрет от голода.
– Милли, такими вещами должны заниматься взрослые. Для детей это слишком опасно. Я хочу, чтобы ты сказала Симону, что вам больше нельзя ходить в сарай. Сделаешь?
Она хмурится и молчит.
– Он не умрет от голода, Милли. Обещаю.
Она с сомнением смотрит на меня.
– Мне нужно, чтобы ты пообещала, – прошу я.
– Хорошо, – неохотно говорит она.
– И еще кое-что, милая. Это должно оставаться тайной. Мы никому не скажем. Даже бабушке и Бланш.
Милли довольна, это видно по ее быстрой улыбке.
– Да, это наша тайна, – говорит она. – Очень большая тайна, да?
С екнувшим сердцем я думаю: «Да, это очень большая тайна».
Ночью я внезапно просыпаюсь. Странно оказаться одной в постели: я так привыкла спать в объятиях Гюнтера. Без него кровать кажется слишком большой и пустой. Дом погружен в абсолютную тишину, но мое сердце колотится, словно потревоженное каким-то неожиданным звуком. Не знаю, что могло меня разбудить.
Я встаю, подхожу к окну и смотрю на темный двор, упираясь лбом в прохладное стекло. Робко светит луна, порывистый ветер гонит мимо нее обрывки облаков.
Мальва в саду Ле Винерс кажется призрачной, нереальной, лунный свет делает ее белой и светящейся, словно лед. И тут же в голове оформляется мысль, как будто именно она пришла ко мне во сне и разбудила меня. Я же обо всем рассказала Гюнтеру. Сказала ему о призраке, которого видела Милли…
Стараюсь припомнить, как он отреагировал на мой рассказ. Кажется, успокаивал меня, говорил о собственном детстве. Но, может быть, он просто подыграл мне? Может, он догадался, кем на самом деле был призрак? Может, все это время он знал? Эта мысль приводит меня в смятение. Она не меняет моей решительности, но наполняет меня ужасом. Что будет с Милли, с нами?
Весь остаток ночи я так и не смыкаю глаз.








