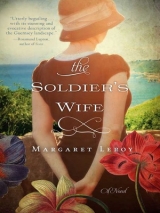
Текст книги "Жена солдата (ЛП)"
Автор книги: Маргарет Лерой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Глава 63
Готовлю суп с луком-пореем и горохом. Отвариваю окорок на косточке. Когда суп будет почти готов, я добавлю в него немного мяса, нарезав его тонкими пластинками, чтобы было удобно есть.
Пока суп варится, достаю из шкафа для посуды старый глобус. Я купила его для Бланш, чтобы помочь ей с уроками географии. Она всегда ненавидела географию. Вглядываюсь в крошечные, трудно произносимые, названия, которые сейчас, похоже, являются частью России.
Таща тряпичную куклу за волосы, заходит Милли.
– Мамочка, ты ищешь страну Кирилла? – интересуется она.
– Да. Нашла. Вот, смотри…
Она больше, чем я предполагала. По крайней мере не меньше Британских островов. Это удивляет меня. У нее нет выхода к морю и выглядит она пустынно: на карте почти нет городов.
Милли разглядывает глобус.
– А где Сент-Питер-Порт? – спрашивает она.
Показываю.
– Вот здесь Англия, здесь Гернси, но они очень маленькие, плохо видно…
Кладу палец на нужное место.
Милли хмурится.
– Ты ошибаешься, мамочка. Не может быть. Гернси очень большой, – уверенно заявляет она.
Вспоминаю свое детство… те моменты, когда начинаешь понимать масштабы мира, когда появляется мимолетное ощущение его огромности. Как от этого размаха захватывает дух.
– Если ты приглядишься, то сможешь его увидеть, – говорю я. – Вот это крошечное розовое пятнышко.
Милли позволяет тряпичной кукле упасть. Большим пальчиком она дотрагивается до Гернси, захватывая еще и половину Франции. Не отрывая руки, Милли мизинчиком дотягивается до Беларуси.
– Страна Кирилла не так уж и далеко, – говорит она.
– Далеко, Милли. Очень далеко. Ему дом кажется дальше, чем луна и звезды.
– А он когда-нибудь туда вернется?
– Не знаю, милая.
Милли обхватывает глобус ладошками и закручивает его. Все цвета сливаются воедино. Весь мир – головокружительный вихрь цветов, яркий калейдоскоп зеленого, коричневого и розового. Глобус крутится так быстро, что кажется, будто страны могут слететь с него. Могут подняться в воздух, а когда глобус замедлится, упадут обратно. Но все они перемешаются и будут уже на других местах. Неправильных.
Распахивается дверь. От миссис Сибир вернулась Бланш. Она решительно заходит в дом. Стягивает воздушный платок и пробегает рукой по своим светлым, цвета карамели, волосам.
– М-м-м.
Она с наслаждением принюхивается и идет к плите, чтобы заглянуть в кастрюлю.
– Хороший суп, – говорит Бланш. – Давно такой ждала.
Я вижу, как она сглатывает, когда рот наполняется слюной. Меня охватывает чувство вины.
– Бланш, мне очень жаль, но этот суп не для нас, – говорю я.
– Мама, но я очень хочу есть. – Ее голос напряжен, в нем слышится протест.
– Я знаю, прости, милая. К чаю у нас макарони.
– Ты же знаешь, я не люблю макарони… И кто же этот особенный некто, для кого предназначен этот великолепный суп?
– Гость.
– И почему он важнее нас с Милли? – оскорбленно интересуется она.
– Он не важнее вас, просто ему это нужнее, чем вам… Слушай, если что-нибудь останется, ты доешь, когда вернешься от Селесты.
– Но к чему вся эта таинственность? – спрашивает Бланш.
– Ты все равно его не знаешь, – отвечаю я.
Некоторое время она изучающе на меня смотрит, пытаясь прочесть что-нибудь на лице.
Между нами возникает неловкое молчание. Ее прищуренные глаза застывают. Ощущаю, что рот, словно бумагой наполнили. Интересно, она считает, что этот человек мой любовник? Подозревает она меня и Гюнтера? И этот суп укрепил ее подозрения.
Я всегда пыталась оградить ее от того, что мы с ее отцом несчастливы. Оградить от его интрижки, от Моники Чарлз. Думаю, насколько же она меня ненавидит, если в чем-то подозревает. Однако для нее же безопаснее считать, что у меня есть любовник, нежели знать правду… что я подкармливаю Кирилла.
Она отворачивается, слегка пожав плечами. Выдыхаю. Момент упущен, я гадаю, ошиблась ли в своих предположениях.
– Вот честно, мам, ты начинаешь говорить, как Милли. Ты постоянно закрываешься в своей раковине. Вы обе так делаете.
Бланш кладет свою сумочку на стол, ее взгляд падает на глобус.
– Ради всех святых, что он здесь делает? Милли еще рановато забивать голову такими вещами, – говорит она. В ее голосе слышится возмущение. – Мисс Делейни не будет ее учить географии. Не может же она быть настолько жестокой.
– Мы искали страну, – торжественно и важно сообщает Милли.
– Как же это ужасно, быть ребенком, – говорит Бланш. – Вот ты только ловил колюшку, а следующий миг уже учишь что-то про ураганы и всякое такое.
– Это секрет. Это не для школы. – Милли крепко сжимает губы.
– Вечно ты со своими секретами, – говорит Бланш.
Она поворачивается ко мне, приподняв бровь, словно говоря: «Вот, она опять за свое».
Милли засовывает глобус подальше в шкаф и закрывает дверцы с легким, но многозначительным треском, похожим на расколовшийся лед.
Глава 64
Кирилл сидит за моим столом и выпивает суп из миски до последней капли.
– Спасибо, Вивьен. Спасибо.
Прикуриваю сигареты. Он со вздохом откидывается на спинку стула.
У меня есть вопрос, который я боюсь задавать, несмотря на то, что часть меня знает: он хочет рассказать свою историю.
– Кирилл, как вы здесь оказались? Расскажите нам, что произошло.
Некоторое время он молчит. В открытое окно вливается тягучее пение птиц и томный аромат моих роз, чей запах такой сладкий, что им невозможно насытиться.
Кирилл откашливается.
– Как я вам уже говорил, я жил в деревне в лесу, – медленно начинает он своим высоким, измученным голосом.
– Да.
Милли подтаскивает стул ближе к моему и прижимается ко мне, как делает это всякий раз, когда я ей читаю. Для нее это начало одной из сказок.
Взгляд Кирилла направлен на нас, но я не уверена, что он видит именно меня и Милли. Его глаза горят, словно от лихорадки.
– Однажды ранним утром, было еще темно, в дверь вломились немцы. Было четыре часа утра. Они растормошили нас с Даней и выволокли на улицу, на дорогу, которая вела в соседнюю деревню. Нас туго связали друг с другом. Вот так.
Он вытягивает руку и прижимает ее к моей крепко-крепко. У Кирилла такая холодная кожа, что от его прикосновения я вздрагиваю.
– Рука к руке? – уточняю я.
Он кивает.
– Они связали нас вместе и заставили выстроиться по всей ширине дороги. Нам было сказано передвигаться мелкими шагами… Моя жена оказалась в самом конце.
В его голосе мне слышится жесткость. Меня охватывает страх. Я понимаю: то, что его жена в конце линии, что-то значит.
Смотрю на Милли. Ее глаза сосредоточены на его лице. Думаю, смогу ли заставить ее уйти, должна ли я уберечь ее от того, что она услышит. Но меня что-то останавливает, некое ощущение того, что они друзья… я чувствую, что у Милли есть право узнать его историю.
– Мы шли, а немцы следовали за нами на некотором отдалении, – говорит он.
Могу себе это представить, но не понимаю, почему у него на лице такой ужас.
– С немцами воевали партизаны Красной Армии, – продолжает Кирилл. – Они жили в лесах, окружавших наши деревни. И эти партизаны повсюду расставляли мины.
Милли хмурится.
– Я не знаю, что такое мины, – шепчет она мне.
Ей отвечает Кирилл.
– Мина – это секретное оружие, спрятанное под землей. Если наступить на мину… – Он вскидывает руки в воздух, имитируя взрыв. – Если наступишь, тебе конец.
Глаза Милли распахиваются.
– Немцы использовали нас для поисков мин, – говорит Кирилл. – Что бы мы ни сделали, мы бы погибли. Если бы мы наступили на мину, мы бы взорвались. Если бы мы пропустили мину, а на ней взорвался бы потом немец, они бы нас расстреляли, потому что мы ее пропустили. Так что мы шли безо всякой надежды на что-либо, потому что впереди нас ждала лишь смерть.
Мы делали все, что было в наших силах. Шли по следам лошадей. Пытались избегать тех мест, где была потревожена земля, потому что смерть от взрыва казалась ужаснее смерти от пули. От страха у меня во рту пересохло. Я плакал, все мы плакали. Наши слезы почти ослепили нас. Что было, то было…
Он замолкает. Мое сердце бешено бьется. Милли сидит совершенно неподвижно, она побледнела, глаза широко открыты.
– Помню, как неожиданно тряхнуло, помню шум. Никогда прежде такого не слышал. Нас отбросило на землю. А потом – тишина. На какое-то время нас оглушило. Мы вообще ничего не слышали. Вокруг нас повсюду была кровь и земля. Даже еще не обернувшись, я знал, что Данечка мертва. Она лежала неподвижно, все тело было разворочено. Немцы разрезали веревку на ее руках, что связывала ее с другим человеком. Они просто оставили ее лежать там. Остальных, кто остался в живых, отправили дальше по дороге…
Его голос замирает.
Я смотрю на него, но лица не вижу. Пока мы разговаривали, на комнату опустились сумерки. Фигура Кирилла на фоне окна почернела. Позади него голубое небо, а в Белом лесу заливается соловей. Я не могу понять, как эти вещи могут сосуществовать в одной вселенной: соловей, нежно-голубые сумерки… и боль, что изливается в голосе Кирилла.
– Мне так жаль, – говорю я, но мои слова звучат как-то неправильно, слишком громко для этой тихой маленькой комнатки. – Мне очень жаль Даню.
Он слегка кивает.
– Той ночью, – говорит Кирилл, – они заперли нас в деревенском амбаре. Я плакал по своей жене. Думал, что это я должен был быть в конце линии, что это я должен был умереть, а не Даня. Это моя вина. Если бы я пропустил ее вперед себя, она не погибла бы. До сих пор меня одолевают такие мысли…
Открываю было рот, чтобы сказать ему, что он не виноват, что он ничего не мог изменить… Но я знаю, что это его не успокоит. Его невозможно успокоить.
– Перед тем как она погибла, вечером мы с ней поссорились. Она сказала, что я постоянно работаю, а на нее внимания не обращаю, – говорит Кирилл приглушенным голосом… мне приходится наклоняться ближе к нему, чтобы лучше слышать. – Я не всегда был ей хорошим мужем. Я не был хорошим человеком. Мои последние слова, сказанные ей, были злыми словами.
По тому отчаянию, что сквозит в его голосе, могу сказать, что это мучает его больше всего.
– Я должен был умереть, но спасти ее, – говорит он. – Но у меня не было такого шанса.
Я уже слышала, как люди винят себя, когда вокруг них гибнут другие, а они сами остаются живы. Вину эту они ощущают всю свою жизнь. Я вижу, что это написано на его лице.
– Вы ничего не могли сделать, – говорю я. – Ничего.
Мои слова пусты.
Он долго сидит молча, перед лицом горит огонек сигареты.
Милли притягивает мою голову к себе и шепчет:
– Я хочу знать, что случилось дальше.
Словно после того, что услышала, она теперь боится Кирилла, боится разговаривать с ним напрямую.
Он слышит ее и начинает шевелиться.
– Я все вам сейчас расскажу, – говорит Кирилл. – На следующий день нас повезли в Минск на грузовике. Это наша столица. Из Минска нас отправили в Германию. Мы оказались в большом центре, в Вуппертале, где было много пленных. Старых и слабых отделили и увели, больше мы их никогда не видели.
Милли поднимает на меня глаза. В них плавает вопрос.
– А что с ними случилось? Со всеми этими старыми людьми? Что случилось?
– Ш-ш-ш. – Обнимаю ее. – Ш-ш-ш.
– Потом нас перевезли к морю. Оттуда на корабле переправили сюда. До этого я никогда не видел море.
Милли пораженно бормочет мне:
– Но море же есть везде.
Я еще крепче прижимаю ее к себе.
– Корабль плыл не очень долго, – продолжает Кирилл. – У нас не было еды. Многие умерли. Немцы выливали воду прямо в трюм с заключенными. Мы же ловили эти капли…
Он показывает: открывает рот, закидывает голову назад, складывает руки так, словно ловит воду.
– А потом мы приплыли сюда, – говорит он мне. – Вот так я здесь и оказался.
Кирилл тушит сигарету в пепельнице. Он опирается на стол и опускает голову на руки. Он вымотан. Рассказ лишил его последних сил.
Долгое время мы просто сидим молча. Тикают часы, вокруг нас сгущаются тени. У меня нет слов.
– Вам пора возвращаться, – наконец говорю я.
– Да, – соглашается он.
Я провожаю его к задней двери и далее через сад к переулку.
– Приходите завтра в амбар, – говорю я.
– Да, Вивьен. Спасибо.
Он исчезает в сумерках.
Когда я возвращаюсь в дом, Милли все еще сидит в полумраке кухни.
– Пора идти спать, милая, – говорю я.
Она ничего не говорит.
Зажигаю свет.
Она смотрит на меня, моргая от внезапно вспыхнувшего света. Она плачет. На бледном личике блестят дорожки слез.
Обнимаю ее. Прижимаю так крепко, что чувствую стук ее сердца.
Я жду, когда у нее возникнут вопросы. Почему это все с ним произошло? Почему они были с ним такими жестокими? Почему его жене пришлось умереть? Так много вопросов, на которые нет ответов.
Но она прижимается ко мне и ничего не говорит.
Глава 65
Сегодня последний день перед тем, как Гюнтер должен вернуться из отпуска. Собирается гроза: небо темное, словно синяк. Когда я иду по полям, внезапный порыв ветра задувает мне волосы в рот и закручивает маленькие вихри из пыли и сухих листьев.
Сегодня у Кирилла есть кое-что для меня – немного цветов с живой изгороди: герани и льнянки. Все это связано в букет проволокой.
Он передает мне букет с легким, обходительным поклоном.
– Это вам, – говорит он. – У меня нет другого способа отблагодарить вас.
– Они очень милые.
Я прижимаю цветы к лицу. У них древесный запах. Я очень тронута… несмотря на свою нищету, он нашел способ сделать мне подарок. Я знаю, для него это важно… он гордый человек. Его нужда ненавистна ему.
Увожу его к себе домой, где на кухне к нам присоединяется Милли. Кормлю его супом. Пока он ест, ставлю цветы в стеклянную вазу на подоконнике. Они очень красивы, но уже начали увядать: их розовые и фиолетовые лепестки побурели по краям. Сорванные с живой изгороди цветы живут недолго.
Когда он поел, я сажусь рядом с ним за стол. Милли приставляет свой стул к моему, обнимаю ее одной рукой.
Сегодня вечером он рассказывает нам о родине… березовый лес, тихие реки; мастерская, где он делал свои скрипки. Представляю его чуть моложе, его лицо еще не отмечено страданием, голова склонена над работой. Размышляю над сложностью и изысканностью этой работы. В моих мыслях его руки здоровы.
– Когда-нибудь я вернусь туда, – говорит Кирилл.
– Да, – отвечаю я. – Да, конечно, вернетесь.
Потом мы сидим в тишине… по-товарищески, словно давно друг друга знаем.
Когда мы собираемся уходить, он бросает взгляд на картинку, которая висит на стене кухни, – распечатанная картина Маргарет Террант. Младенец Христос в своей колыбели, окруженный ангелами. У них огромные, замысловатые крылья мягкого цвета колокольчиков.
– Вы верите во все это? – спрашивает он меня, показывая на картинку.
– В некотором смысле, – отвечаю я. – В кое-что верю.
– Моя мама верит до сих пор… тайком хранит иконы на чердаке, – говорит Кирилл уставшим голосом. – Но я больше не верю. Никто в нашем лагере не верит. Никто. Никто из тех, кто прошел через все это. Невозможно страдать так, как мы страдали, и все равно верить.
На это мне нечего ответить.
– Я не верю в Бога, но злюсь на него, – говорит Кирилл. Он слегка улыбается. – В этом нет никакого смысла, да, Вивьен?
Веду его через сад. Падает несколько пожелтевших листьев. Деревья шумят так же, как море, как шелест гальки. Эти звуки, как говорила мне Энжи, предвещают дождь.
В тени живой изгороди я беру Кирилла за руку.
– Кирилл, я должна вам кое-что сказать. Не хотела говорить это при Милли. Но с завтрашнего дня вам будет небезопасно приходить сюда. – Меня это ранит. Ранит то, что я должна говорить ему это… понимая, что это для него значит, приходить к нам домой. – Один из немцев, живущих по соседству, возвращается из отпуска. Он иногда заходит к нам.
Мне интересно, ужаснет ли это Кирилла. То, что немец приходит в мой дом. Спросит ли он меня о чем-нибудь. Сомневается ли он во мне. Он просто кивает.
– Мне очень жаль, – добавляю я. – Но я принесу вам еду в амбар, как делали Милли с Симоном. Если вас там не будет, я оставлю ее под трактором.
– Спасибо, Вивьен, – говорит он.
– Берегите себя.
– И вы, Вивьен. – Он немного наклоняется. – Я вам очень благодарен.
Он отворачивается и уходит от меня в темнеющий сад. Синюшные тучи опускаются на землю. Скоро начнется дождь.
Глава 66
Суббота. Я просыпаюсь счастливая. Солнечное, радостное чувство охватывает меня еще до того, как я осознаю, почему так счастлива. Потом я вспоминаю: сегодня Гюнтер возвращается из отпуска. Но вместе с пониманием приходит опасение, приглушая мое яркое настроение, как дыхание туманит поверхность зеркала.
Что он сделает, если узнает, что я подкармливаю Кирилла? Выдаст ли он нас: Кирилла, и Милли, и меня? Как он поступит? Я говорю себе: «Конечно, он нас не выдаст. Он хороший человек. Я знаю, какой он добрый…» Но в моей голове звучит голос Бланш: «Как вообще можно узнать кого-то по-настоящему? Как можно быть уверенным?»
Выходя во двор, я бросаю взгляд на большой эркер Ле Винерс в надежде хоть мельком увидеть Гюнтера. Время от времени я поднимаюсь к себе в спальню и оглядываю их палисадник. Яркий и сверкающий мир, умытый ночным штормом, наполнен сиянием и надеждой. Но мне не удается его увидеть.
Задолго до комендантского часа я отношу еду в сарай Питера Махи. В моей корзине хлеб, окорок, яблоки, завернутые в кухонное полотенце. Кирилл уже ждет. Он забирает еду.
– Спасибо вам, Вивьен. Большое спасибо.
Я не жду, пока он поест: слишком рискованно оставаться здесь. Что, если кто-нибудь меня увидит и задумается о том, куда я иду… или даже последует за мной? Но оставляя Кирилла, я чувствую укол грусти.
Я слушаю, как Милли молится перед сном, и подтыкаю ее одеяло. Она поднимает руки и настойчиво тянет мою голову к себе. Прижимая губы к моему уху и щекоча дыханием мою кожу, она шепчет:
– Кирилл не пришел.
– Нет, милая. Но я его покормила. Отнесла еду ему в сарай. Теперь мне придется делать так.
Яркий, как ноготки, свет лампы заливает Милли. Когда я наклоняюсь к ней, моя тень закрывает ее лицо.
– Он больше не может приходить сюда?
– Да, думаю, не может. Теперь ему опасно здесь находиться. И я не хочу, чтобы ты ходила со мной в сарай, на случай, если кто-то увидит.
Я быстро отстраняюсь, испугавшись, что она спросит еще что-нибудь.
– Но мне очень хочется пойти с тобой. – Она сердится. – Он и мой друг тоже. Он стал моим другом раньше, мамочка.
– Знаю. Но мы должны быть осторожны, ты же понимаешь. Это может быть опасно, Милли. Ты должна делать, как я говорю.
Она хмурится. Раздумывает: стоит ли возражать, уступлю ли я.
– В любом случае твоя простуда прошла, – говорю я. – Ты снова сможешь играть с Симоном после школы.
В глубине ее глаз маленькой рыбкой мелькает сомнение. Чувствую, как моя кровь течет быстрее. Жду, что она спросит: «Но почему, мамочка? Почему Кирилл не может прийти сюда?»
– Мне бы хотелось, чтобы он мог приходить к нам на кухню, – говорит она.
– Знаю, милая. Мне тоже. Но мы же не хотим подвергать его опасности, – отвечаю я.
Она принимает это объяснение. Потом зевает широко, как кошка, показательно потягивается и устраивается на подушках, накрываясь одеялом до подбородка.
– Смотри, мамочка, заботься о нем хорошенько, – говорит она.
* * *
В десять часов раздается тихий стук в дверь, заставляя мое сердце забиться сильнее.
Открываю дверь. В лунном свете выделяется темный силуэт Гюнтера.
Он принес бутылку бренди для нас. Иду на кухню за бокалами, он – следом за мной. Неожиданно, но в его присутствии я чувствую себя неловко. Как будто мы забыли, как быть вместе, как будто нам надо заново учить мелодию, которую мы когда-то знали.
– Как все прошло в Берлине? – спрашиваю я.
Это обычный вопрос, который задают, когда кто-то уезжал. Но для нас этот вопрос сложный, опасный. Собственное тело кажется мне неуклюжим, слишком большим для моей кухни.
– В Берлине все как обычно. Но Кельн и Любек подверглись ужасным бомбардировкам. Так много уничтожено. Не хочу об этом говорить, – отвечает он.
Не знаю, что и думать. Разве не этого я должна желать? Чтобы немецкие города были уничтожены. Но я вижу страдание на его лице и не чувствую ликования – только растерянность и тоску. Я молчу.
– Мы живем в ужасном мире, Вивьен, – говорит он.
– Да.
По крайней мере с этим я согласна.
Спрашиваю о его жене, Илзе.
– Она такая же, как всегда, – отвечает он. – Всегда хорошо следит за домом. Хотя, конечно, жизнь стала труднее.
Размышляю о том, как странно – спрашивать такое. Пока он не уехал в отпуск, наша любовь казалась такой естественной. Как воздух, как неотъемлемая часть моей жизни. А теперь появился какой-то сдвиг, надлом.
– Ты виделся с Германом?
При имени сына лицо Гюнтера смягчается, но он качает головой:
– Нет. Он в Африке с Роммелем.
В его голосе слышится страх. Он отворачивается от меня, пряча свои чувства, и его взгляд падает на цветы, которые мне подарил Кирилл. Они уже почти завяли, лепестки сморщились, как обрывки оберточной бумаги, но это такой драгоценный дар, что я никак не могу заставить себя их выбросить.
– Кто-то подарил тебе цветы? – спрашивает Гюнтер несколько напряженным голосом.
Я понимаю, что он думает, будто у меня появился другой поклонник.
– Ах, это. Всего лишь Милли, – говорю я с непринужденным смешком.
Но получается плохо: смешок звучит натянуто. Меня охватывает дрожь, по коже бежит мороз. В короткий миг паники я пугаюсь, что он прочтет мой секрет по лицу.
Но затем его губы накрывают мои, а руки обнимают меня, и я чувствую, что раскрываюсь ему навстречу, как всегда. Я изголодалась по нему.
Веду его наверх, в спальню. У Гюнтера целая сумка подарков для меня. Он показывает, что принес: шелковые чулки, французские сигареты, и «L’Heure Bleue» от Guerlain – во флаконе из шлифованного стекла, который ослепительно сияет, отражая свет. Я открываю духи и вдыхаю прекрасный аромат, насыщенный, отдающий миндалем и меланхолией.
Осторожно прикасаюсь к чулкам, ощущая, какие они тонкие, как паутинка. Я боюсь, что мозоли на моих руках насажают зацепок. Мне придется пользоваться перчатками, чтобы их надеть. Думаю, что эти подарки чересчур роскошны для меня: я слишком огрубела для подобной красоты.
Но в объятиях Гюнтера я не думаю ни о чем, кроме него. Так правильно и сладко, что он находится здесь, в моей постели, где и должен быть. Но после меня одолевают вопросы, они настойчиво бьются крыльями в темные окна моего разума.
И конечно, Гюнтер чувствует.
– Ты чем-то озабочена, дорогая, – говорит он. – Что-то важное?
– Ничего, не беспокойся, – отвечаю я.
Он пальцем очерчивает контур моего лица.
– Я знаю, что что-то есть.
– Да все как обычно. Знаешь, повседневные дела. Нехватка продовольствия. У Эвелин не все в порядке с головой…
Мои мысли вертятся вокруг истории Кирилла: связанные жители деревни в лесу. Мне хочется спросить Гюнтера, как подобное может случаться, как можно относиться к людям, словно они ничто, использовать и выкинуть за ненадобностью. Хочется узнать, слышал ли он когда-нибудь о подобной бесчеловечности. Но я не могу спросить. Потому что, если я спрошу, он сразу же поинтересуется, где я услышала эту историю.
– А что насчет малышки Милли? Ты все еще волнуешься за нее?
Лучше бы он не спрашивал. Слишком близко к тому, что давит на меня. Я слегка отворачиваюсь от него, чтобы он не видел моего лица.
– Нет, кажется, она в порядке. Все успокоилось.
– Больше никаких призраков?
– Нет, она больше не говорит ничего такого.
– Это был просто этап. Все дети проходят такие этапы.
– Да, думаю, так и есть.
Он глубоко вздыхает, потягивается и снова обнимает меня. Я кладу голову ему на грудь. Слушаю, как бьется его сердце.
– Как же хорошо быть дома, – говорит он мне.
Не могу поверить, что он так думает, что считает мою спальню домом. Говорю себе, что он обмолвился. Но я все равно счастлива от того, что он это сказал.








