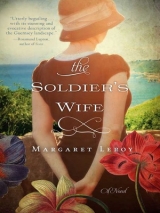
Текст книги "Жена солдата (ЛП)"
Автор книги: Маргарет Лерой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Глава 33
Достаю книгу, которую мне отдала Энжи.
– Это подарок миссис ле Брок, – говорю я Милли.
Она прижимается ко мне. Ей нужно помыть волосы. Вдыхаю запах ее волос, в котором намешано много разных ароматов.
– Отлично, тогда почитай мне, мамочка, – говорит она.
Открываю книгу.
Она хмурится.
– А картинок-то нет, – говорит она.
– Нет. Они будут появляться в нашем воображении…
Меж страниц все еще лежит веточка стальника. Милли забирает ее и осторожно держит большим и указательным пальцами.
Начинаю с первого рассказа.
– Жил да был на Гернси человек, который поплыл на лодке на Сарк…[3]3
Сарк (англ. Sark, фр. Sercq, сарксский Sèr или Cerq) – небольшой остров в юго-западной части Ла-Манша, является одним из Нормандских островов, частью коронного владения Гернси.
[Закрыть]
Милли рада. На ее лице расплывается улыбка.
– Мы там уже были, да, мамочка? Мы уже ездили на Сарк, – говорит она.
Вспоминаю, как одним летним днем мы плыли на лодке. Это было до того, как ушел Юджин, до того, как началась война. Мы взяли с собой сэндвичи и домашний лимонад. Сарк – небольшой тихий остров, где нет никакой техники, нет машин. Место глубоких, необыкновенных улочек, лежащих между нависающих живых изгородей, с любовью ухоженных садов, полных цветов. Там обитают большие птичьи колонии: на рифах, на шельфе, на Летаке и Лес Отелетс. Птицы взлетают, словно белый дым клубится вокруг. А шум от них улетает далеко в море.
Милли очень внимательна… гордится тем, что знает то место, о котором идет повествование.
Продолжаю читать.
– Мужчина был отличным стрелком и планировал добыть чего-нибудь на обед. Он уселся на скале над Хавр Госселин, откуда и увидел стаю диких уток, летящих в форме идеального круга. Его оружие, казалось, не причиняло им никакого вреда.
Взгляд Милли стал задумчивым.
– Как ты думаешь, это были какие-то неправильные утки? Они были волшебными, мамочка?
– Да, я думаю, они были волшебными.
Она довольно вздыхает, удовлетворенная тем, что сказка о чем-то сверхъестественном. Она рассеянно проводит засохшим цветком по лицу.
– Вернувшись на Гернси, мужчина пошел к белой ведьме, колдунье, чтобы посоветоваться с ней.
Хочу объяснить ей, но Милли кивает. Слово «колдунья» ей знакомо.
– Колдунья сказала охотнику, чтобы он стрелял по уткам особенными пулями – серебряными, на которых изображен крест. Мужчина поплыл обратно на Сарк и снова уселся над Хавр Госселин. В спокойном воздухе за краем обрыва опять летели утки, выстроившись в идеальную окружность. Мужчина выстрелил серебряной пулей. Она попала в одну из уток, но не убила, а лишь ранила в крыло.
Возвращаясь домой, мужчина заметил среди других островитян девушку. Она была бледна, вся тряслась. И у нее была ранена рука.
Глаза Милли сияют. Она знает, что происходит в подобных сказках: ослепительные превращения – вещи становятся не тем, чем казались ранее.
– Это она, да, мамочка? Девушка – это та самая утка, которую он подстрелил. Она умеет колдовать и превращаться в утку…
– Да, я думаю, ты права, – отвечаю я.
Но я прислушиваюсь к ней лишь наполовину. Эта сказка задела во мне что-то, чего я не могу объяснить или выразить. Я так живо представляю себе картинку: маленькая лодка, серое море, серое небо, черные волосы девушки и ее бледное, напряженное лицо; девушка дрожит от боли, а по ее руке струится яркая кровь.
Переворачиваю страницу.
– Мужчина знал, что эта девушка и есть утка, которую он подстрелил. Но он посмотрел на нее и ничего не сказал. В течение многих лет после этого случая он хранил молчание и поведал о случившемся только в день своей смерти…
Милли задумалась.
– Он сожалел, да? Он не должен был в нее стрелять. Поэтому он никому не рассказывал.
Я думаю о том миге, когда они взглянули друг на друга, те двое – девушка, обладающая запретной магией, и мужчина, ранивший ее в руку. Когда он смотрел на нее, поняла ли она, что он никому не скажет, что он сохранит ее тайну?
Они стали соучастниками, и это тронуло меня.
Часть III: Октябрь 1940 – Сентябрь 1941
Глава 34
Набираю из бочки дождевой воды, она хорошо действует на волосы. Мою их и завиваю. Когда волосы высыхают, трясу кудряшками. Они пахнут свежестью и садом. Прибравшись после чая, надеваю свое лучшее платье, морского кроя. Оно сшито из шаньдунского шелка. У темной мерцающей ткани призматический блеск. Так сверкает масло на поверхности воды. Смотрюсь в зеркало своего туалетного столика. У него три створки, оно отражает само себя и множество сомнений внутри меня. Глаза блестят, вся покраснела и напугана, словно во мне сидит куча нетерпеливых, взволнованных женщин.
Приходит Бланш, чтобы пожелать мне спокойной ночи.
– Мама, ты великолепно выглядишь, – говорит она. – Ты уже много лет не надевала его.
В ее словах невысказанный вопрос.
– Мне просто захотелось надеть что-то получше, – отвечаю я.
– Это платье очень красивое, – говорит Бланш. – В нем даже можно пойти на танцы. И не скажешь, что ты чья-то мама.
Она задумчиво, возможно, немного завистливо, разглядывает меня. Потом отворачивается, пробегая пальцами по стоящей на пианино музыкальной шкатулке с нечетким изображением двух девушек в импрессионистском стиле.
– Можно? – спрашивает она.
– Конечно, можно.
Она крутит ручку. Музыка звучит, словно звенит множество крошечных колокольчиков. Звук серебристый и чистый, будто это стекло или лед. Бланш слегка раскачивается в такт. Она всегда танцует, когда слышит музыку, даже если это «К Элизе» из музыкальной шкатулки.
Мне становится неловко перед дочерью. Это она, а не я должна наряжаться.
– Бланш, а ты ведь больше ни разу не ходила на танцы вместе с Селестой.
– Ты имеешь в виду те вечеринки, которые были в Ле Брю?
– Да. Их больше не устраивают?
– О, нет. Я думаю, они все еще проводятся там, – говорит она.
– Я не стану возражать, если ты захочешь пойти. Правда. Если только ты будешь в безопасности. Если только тебя подвезут до дома.
– Да все нормально, мам.
– Но, мне показалось, тебе понравилось, когда ты ходила туда…
– Ну, одно время было весело, – говорит она. – Я люблю танцевать. Но потом я помолилась и решила, что это неправильно.
– Да, милая? Ты так решила?
Ее религиозное рвение порой заставляет меня содрогаться.
– Дело в том, что эти немецкие мальчики предлагают встречаться, – говорит она. – Но это было бы неправильно, да, мам? Стать девушкой немца.
Я удивлена. Не думала, что Бланш задумывается над этим.
– Ну, это с какой стороны посмотреть, – неопределенно говорю я.
– Я не хочу. И тебе бы тоже это не понравилось. – Ее взгляд сосредоточен на мне – голубой, как летнее небо. В нем сквозит такая ясность и чистота.
– Ну, конечно же, есть люди, которые этого не одобрят. Но если он хороший человек… – Я замолкаю.
– Но ведь в этом нельзя быть уверенной, так? – спрашивает она. – Я хочу сказать, ты же не можешь знать наверняка, хороший он или нет.
– А Селеста? – спрашивает она. – Она все еще встречается с Томасом?
Бланш утвердительно кивает.
– Он очень ей нравится, – говорит она. – Хотя, я думаю, что ей не следует с ним встречаться.
– А она знает, что ты так думаешь? Думаешь, что она поступает неправильно?
– Конечно, мама. Мы с Селестой говорим обо всем. У нас нет друг от друга секретов. Но она говорит, что я ошибаюсь, что он не такой, как все остальные.
– Что ж, может, она и права… может, он действительно не такой, как другие.
Музыка в шкатулке замолкает, когда заканчивается завод. Внутри слышны перестукивания и жужжание. Бланш закрывает шкатулку.
– И все равно, я не стану так поступать, – говорит она. – Я думаю… как вообще можно узнать кого-то по-настоящему? Как можно быть уверенным в том, что они из себя представляют?
– Но разве ты не можешь назвать человека хорошим? Даже если он воюет на другой стороне.
Она бросает на меня недоверчивый взгляд, словно я вообще ничего не понимаю.
* * *
Когда девочки и Эвелин улеглись, сижу на кухне и жду его. Тени бархатными складками залегают на стенах моей комнаты, меня начинают одолевать сомнения. Все становится очень отчетливым: необузданное, иррациональное намерение – необдуманное, импульсивное, неправильное. Сидя здесь, облаченная тенью, я принимаю решение.
Скажу ему, что больше он не может сюда приходить, я передумала. Наши отношения не могут продолжаться по многим, многим причинам. Он поймет или, по крайней мере, не будет удивлен. Может, даже стоит снять свое платье из шаньдунского шелка и надеть что-то будничное. Может, мне даже стоит задуть свечи, которые я зажгла наверху в своей комнате.
Слышу стук в дверь. Сердце подпрыгивает в груди. Иду открывать.
Он не улыбается. Вижу, что он тоже очень нервничает, и это кажется мне трогательным. Понимаю, что не смогу попросить его уйти. Я уже выбрала свой путь.
– Вивьен…
Мне нравится, как он произносит мое имя: медленно, почти бережно.
Он заходит и стоит в коридоре прямо передо мной. От его близости идет волна желания, но более рассеянная, более эфемерная, чем я чувствовала прежде, когда он пробегал пальцем по моему лицу. Лишь ниточка. Шепоток.
Отворачиваюсь и веду его вверх по лестнице, стараясь не разбудить спящих. Показываю ему, где скрипит, тихо говорю, на какие места лестницы наступать не нужно. Сердце бьется быстро, как у воришки. Я вор в своем собственном доме.
Открываю дверь и завожу его внутрь. Закрываю дверь и поворачиваю ключ в замке. Звук красноречиво повисает между нами.
Он стоит в свете свечей и смотрит, смотрит на меня, будто и не собирается отводить взгляд. Я думала, что в такой момент мне будет неловко, даже стыдно, но меня одолевает абсолютная радость от того, что мы вместе.
У меня появляется ощущение бесконечной свободы. В этой комнате мы можем делать, что захотим. Здесь, куда не добралась война. Меня переполняет радость, когда он заключает меня в свои объятия. Я пробегаю пальцами по его лицу, чувствую кости его черепа под коротко стрижеными волосами и ощущаю, насколько ему приятно мое прикосновение. Он ласкает меня руками, полностью захватывая меня своими прикосновениями.
С Юджином, много лет назад, когда мы еще занимались любовью, я всегда была как будто где-то вне происходящего, наблюдала со стороны. Смотрела с потолка, на расстоянии. Меня это не касалось, я была где-то на удалении, разделенная надвое: часть меня принимала участие, а часть просто наблюдала.
Но здесь, сейчас, я присутствую при каждом прикосновении, каждой ласке. Я четко ощущаю твердость его тела, запах его кожи, его губы на моих губах. Мое тело сотрясается от его рук, словно я разваливаюсь на части. Он прикрывает мне рот рукой.
– Тсс, – произносит он, – Тише.
Потом я чувствую его внутри себя, и мое тело обнимает его. Я прячусь в нем, прячу его в себе.
После мы тихо лежим рядом. Открываю глаза и вижу, что моя комната осталась такой же, какой и была, и это меня удивляет. У меня такое чувство, как будто я унеслась на большое расстояние и оказалась в другой стране.
Его форма лежит на кресле. Ее вид раздражает, напоминая мне о том, о чем я думала до его прихода. Отвожу взгляд. Говорю себе, что это все часть другой жизни – его жизни, когда мы не вместе. Ничего не говорит о том, кто он такой на самом деле здесь, в моей комнате.
Он целует меня и говорит:
– Спасибо.
Ощущаю внезапный прилив счастья. Так странно, что он благодарит меня, когда сам дал мне так много.
Кладу голову ему на грудь, слушая тихое биение его сердца. Его же рука у меня на волосах. Мы молчим. И эта тишина такая сладостная. Не знала, что близость может подарить такое умиротворение.
А потом я слышу то, чего так боялась: звук шагов, поворот дверной ручки и стук в дверь
– Прячься под одеялом, – говорю я ему.
Надеваю халат и открываю дверь.
Я очень боюсь, что это Бланш. Она заглянет в мою комнату и сразу все поймет: почему на мне было мое лучшее платье, почему между нами состоялся тот разговор. Но это Милли в своей карамельной пижаме. Ступни в вязаных ночных носках кажутся огромными и неуклюжими. Ее глазки широко распахнуты, но я не знаю, что она видела. Она еще не проснулась толком, у нее сонное личико.
– Мамочка, пчелы прилетели. Они повсюду.
У нее тоненький, пронзительный голосок. Она до сих пор еще проживает свой кошмар. В глазах Милли отражается блеск свечей – крошечное, безукоризненное отражение.
– Нет, милая. Это всего лишь сон.
– Они у меня в кровати, мамочка!
Я приседаю и обнимаю Милли. Ее сердечко бьется напротив моего, словно ее сердце – моё сердце. Вокруг ее глаз залегли тени.
– Там нет никаких пчел.
– Мамочка, пчелы у меня в волосах. Я слышу их… Я бежала, бежала, но не могла убежать, – говорит Милли тонким, словно прозрачным, голосом.
Глажу ее по волосам.
– Это всего лишь сон. Не стоит бояться.
– А ты не слышишь, как они жужжат? – спрашивает она.
Отвожу ее обратно в комнату. Меня охватывает чувство вины. Задумываюсь, не моя ли вина в том, что она тревожится. Слышала ли она что-то, видела ли? В ее комнате я внимательно прислушиваюсь, оглядываю каждый угол, чтобы доказать ей, что нет никаких пчел. А потом пою ей, чтобы она заснула. Не думаю, что она видела Гюнтера. Но ощущение покоя оставило меня, пошло трещинами и разлетелось на тысячу блестящих осколков.
Когда я возвращаюсь в спальню, он уже одет.
– Она в порядке? – спрашивает Гюнтер.
– Да, она спит. Не думаю, что она что-то видела.
Он обнимает меня.
– Вивьен, дорогая, я хотел бы увидеть тебя снова. Мы встретимся еще раз? Ты бы этого хотела?
Его вопрос наполняет меня радостью.
– Да. Хотела бы…
Но ночной кошмар Милли тревожит меня. Я ощущаю всю чудовищность того, что мы сделали, что мы собираемся сделать.
– Гюнтер, а сможем ли мы оставить это все в тайне? Сделать все так, чтобы никто не узнал? Мы должны сохранить свой секрет… от Эвелин, от девочек. От всех и всякого…
– Мы будем очень осторожны, – говорит он.
Провожаю его до двери. Смотрю, как он уходит… уходит в свою другую жизнь. По моему двору разливается серебряный свет луны. Такой яркий, что сад отбрасывает тени.
Возвращаюсь в свою комнату. Мое тело, моя кровать – все пахнет им. Я уже скучаю по нему.
Глава 35
Мы разрабатываем правила. Я оставляю ему сигнал – пустой горшок на пороге дома, – чтобы он знал, что все в порядке, все спят. Если он приходит, то точно в десять. Если до четверти одиннадцатого его нет, я отправляюсь спать одна.
Я слишком долго жила в доме с одними женщинами. Испытываю потрясение от того, что в моей кровати спит мужчина. Я благодарна ему за тепло, за тяжесть его тела, тонкий запах его кожи. За то, что он другой. А еще я потрясена тем, какая я с ним. Я, которая всегда считала себя такой застенчивой, такой замкнутой, с этим мужчиной могу быть какой угодно – открытой, бесстыдной. Такое ощущение, что мое тело – не мое, когда я с ним, словно я меняюсь, когда он рядом.
Мы занимаемся любовью, а потом обязательно разговариваем. Моя голова лежит на его плече. В мягком свете свечей спальня кажется такой таинственной и обособленной, как пещера в лесу или лодка в непостоянном море. Слышно, как покряхтывает и потрескивает старый дом, отходящий ко сну, словно лодка поскрипывает, стоя на якоре.
Он берет две сигареты, одну прикуривает для себя, другую – для меня. Как правило, мы говорим о прошлом, в котором гораздо спокойнее, чем в настоящем.
– Каким ребенком ты была? – спрашивает он. – Расскажи мне о своем детстве.
Капитан выпускает изо рта табачный дым. Нас окружает покой. Мне нравится видеть его здесь, в своей постели, люблю смотреть на его тело: волосы на груди, позвонки, проступающие сквозь бледную кожу, вены на запястьях, изящество жестов. И поразительная улыбка, внезапно озаряющая его лицо. Он кажется мне очень родным, словно стал частью меня, словно я всегда ждала только его.
Рассказываю ему об Ирис, о том, как мы росли в высоком доме в Клапхэме. О тетках, которые нас воспитывали.
– Мама умерла очень неожиданно, когда мне было три года, – рассказываю я. – От пневмонии.
Он обнимает меня, прижимая крепче. Ждет.
Воспоминание вдруг становится таким ярким. Почти чувствую прохладный, с примесью антисептика, запах комнаты, где находится больной. В груди появляется ноющая боль.
– Нас привели туда, чтобы попрощаться… меня и сестру.
Понимаю, что начинаю плакать. Как будто твердый панцирь, защищавший меня, в присутствии капитана смягчается. Я много лет не говорила о своем горе.
Он вытирает слезы с моего лица своим теплым пальцем.
– Ты была такой маленькой, – тихо говорит он. – И тебе пришлось столкнуться с подобным.
Все произошедшее здесь, в моей голове. С внезапной и тревожной точностью.
– Она выглядела странно. Не как моя мама… С тех пор я поняла, что порой, когда приходишь навестить больного, ты можешь сказать… Ты знаешь, что скоро он умрет. Ты точно видишь, что выглядит он по-другому.
– Да, я понимаю, о чем ты.
– Мне кажется, это я увидела в своей маме. Хоть и не понимала.
Он гладит меня по волосам. Прикосновение, ритм успокаивают меня.
– Тебе было очень трудно, – говорит он. – И для твоей матери тоже, поскольку вы были такими маленькими… Я с самого начала почувствовал, что в твоей душе есть какая-то рана. Что-то спрятано там и ждет, когда это вытащат наружу. Я понял это в тот первый раз, когда увидел тебя в переулке.
– Вот как? Ты правда это понял уже тогда? Расскажи мне…
Впоследствии я даже была рада, что рассказала ему о своей маме. Я не понимаю, почему это было для меня столь утешительно. Словно рассказав ему, я от чего-то освободилась.
* * *
По ночам наша близость кажется мне абсолютно естественной, как будто так и задумано, как будто такой и должна быть моя жизнь. Но иногда я вижу его днем: в реквизированном «Бентли» или с другими солдатами. Он смеется с Гансом Шмидтом или Максом Рихтером. Смеется громко, как смеются мужчины, находясь вместе с другими мужчинами. И осознание того, что я делаю, обрушивается на меня.
И я думаю: «Какой он с другими людьми, с теми вражескими солдатами, которые делают все возможное, чтобы держать наш остров под контролем? Насколько хорошо я его знаю? Что значит, узнать кого-то?» И когда эта мысль приходит ко мне, в голове слышится голос Бланш: «Как вообще можно узнать кого-то по-настоящему? Как можно быть уверенным в том, что они из себя представляют?»
Однажды я прошу его рассказать про свою жизнь.
– Я так мало о тебе знаю, – говорю я.
– Что тебе рассказать? – спрашивает он.
Моя голова забита вопросами, и я не знаю, какой задать первым. Выбираю самый безопасный.
– Расскажи про Германию. Я никогда там не была.
Я лежу, повернувшись к нему, глядя на него. На туалетном столике позади него стоит пузырек с духами, на котором в свете свечей пляшет стрекоза. Она будто горит. Профиль капитана на стене такой безликий, черный по сравнению с огненными крыльями.
– Кое-где в Германии очень красиво, – произносит он.
– Расскажи мне о ее красотах, – прошу я.
– Бавария очень красива, – говорит он. – Там живет дядя моей жены. Мы собирались поехать туда летом, до войны, до того, как все началось. Такого воздуха, как в лесах Баварии, больше нет нигде. Такой тишины, как там, больше нет нигде.
Пытаюсь их представить. Величественные леса, аромат можжевельника и сосны. Я невежественна, словно ребенок, и так мало знаю об окружающем мире.
– А вот Берлин давит, – говорит он. – Все эти большие здания, люди, живущие друг на друге. Мне не нравится находиться там долго. Люблю ехать куда глаза глядят. Чтобы ни о чем не думать…
Вспоминаю стихотворение, что выбрала для него:
Хочу бродить все дни,
Где всё цветёт.
Может, это был не такой уж и неправильный выбор, как я думала.
– Мне нравится рисовать в Баварии, – говорит он мне. – Поставить мольберт на склоне горы. Целый день тишины наедине с моим угольным карандашом и красками… Это те моменты, когда не нужно бороться, не нужно куда-то стремиться. Ты именно там, где должен, и все течет, как вода, выходя из-под твоей руки.
Мне кажется, что у каждого есть мечта, поддерживающая его. Мысль: «Вот закончится война…» Для Гюнтера мечта там, на фоне тех лесов и тишины. Именно там он оставил частичку себя. На склоне горы в Баварии, там, где его мольберт, кисти и маленькие тюбики с красками. Аромат можжевельника и тишина.
Говорю ему об этом.
– Вот, где бы ты был, если бы мог выбирать.
Некоторое время он молчит.
– Нет, Вивьен, – наконец произносит он. Потом поворачивается ко мне лицом. В нем чувствуется напряженность. – Видишь ли… может быть, ты действительно, как и говорила, слишком плохо меня знаешь. Из всех мест, что я мог бы выбирать, я хотел бы быть здесь, в этой постели.
Глава 36
На коврике у двери лежит конверт. На нем ни имени, ни адреса. Гадаю, кто же оставил его здесь и почему этот кто-то не остался поговорить?
Открываю конверт. Внутри лист бумаги, сложенный пополам. Разворачиваю. Комната вокруг меня начинает вращаться.
Послание составлено из букв, вырезанных из «Гернси-пресс» и наклеенных на бумажный лист. Буквы, словно пьяные, с кривыми углами, как будто их наклеивали в спешке, как попало. Но послание совершенно четкое: «Вив де ла Маре – подстилка для джерри!!!»
Быстро кладу письмо на столик в коридоре, как будто прикосновение к нему может ранить, как будто может опалить меня. Но я понимаю, что не могу оставить конверт здесь. Уношу его в гостиную, сминаю и бросаю в огонь. Бумага разворачивается, занимается пламенем, по ней пробегает красная линия. Я смотрю, как конверт вспыхивает, чернеет и рассыпается в пепел. Даже подумать не могу – и не хочу – о том, кто мне его отправил.
В комнату позади меня заходит Эвелин, под ней скрипит пол. Она осторожно садится в свое любимое кресло и берет из корзинки вязание.
– Что-то горит, – говорит она. – Что это здесь горит? Я чувствую. Что-то горит в камине.
– Ничего, Эвелин, – отвечаю я. – Не беспокойся.
– Кто это сжигает письмо? – спрашивает Эвелин.
Она может увидеть сожженную бумагу в камине. Я разбиваю пепельные фрагменты. Даже сейчас, когда письмо полностью сожжено, оно все еще стоит у меня перед глазами. Перекошенные газетные буквы, уродливые слова.
– Это не письмо, – отвечаю я. – Ничего такого. Просто старый рисунок Милли.
Я задаюсь вопросом, откуда Эвелин знает, что это было письмо. Она видела его на коврике у двери? Она видела из своего окна, которое выходит на переулок, кто принес его? Но я не могу спросить об этом, не в силах узнать, кто оставил его там, потому что я уже сказала ей, что это не письмо.
Эвелин принимается за вязание. Ее пальцы двигаются резво, спицы звучат яростно, как упрек.
Некоторое время она молчит. Я же задумываюсь над тем, что случится со мной? Многие ли знают и кому они уже рассказали? Представляю, как люди будут меня осуждать, если узнают про мою любовную связь. Я представлю холодный взгляд Эвелин, Гвен и моих детей, они отвернутся от меня. Становится трудно дышать. Боюсь, что Эвелин увидит на моем лице чувство вины и страх.
Она внезапно перестает вязать, держа спицы острием вниз. Ее руки словно ослабли, петли начинают соскальзывать. Подхожу к ней, опасаясь, что ее вязание распустится и расстроит ее.
– Где Юджин? – спрашивает она. – Куда он делся?
– Эвелин, Юджина здесь нет. И тебе это известно.
– О.
Я сжимаю ее руки вокруг спиц. Ее кожа холодная и тонкая, как бумага… почти не похожа на плоть. Эвелин снова начинает вязать.
– Где Юджин? – спустя какое-то время снова спрашивает она. – Хочу поцеловать его на ночь. Кто-то же должен.
Она одаривает меня весьма суровым взглядом.
– Эвелин, Юджин на войне. Он очень храбрый, – говорю я.
– Письмо было от него? Ты сожгла его письмо?
– Нет, конечно же, нет. С чего бы мне это делать?
– Он нам не пишет, – говорит она.
– Нет, он не может. Ты же знаешь. Я уверена, он хотел бы написать, но просто не может. Письма не дойдут. Пока здесь немцы. Идет война, Эвелин, помнишь?
– Война. Все говорят, идет война. Они постоянно говорят, что идет война, – отвечает Эвелин. – Но что-то я не вижу здесь боевых действий. На самом деле, скорее наоборот.
Запах бумаги совсем слабый, в воздухе от него почти не осталось и следа… но кажется, что он останется здесь еще надолго.








