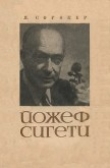Текст книги "Старомодная история"
Автор книги: Магда Сабо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
Ракель Баняи, которая знала наизусть чуть ли не половину Библии и была твердо убеждена, что тщеславие – огромный недостаток человеческой натуры, а потому даже молоденькой девушкой не очень-то смотрелась в зеркало и не интересовалась нарядами и прочими суетными вещами, и не подозревала, что сама не свободна от вышеозначенного недостатка. Дочь ее, Эмилия Широ, скучала со своим мужем, Кароем Гачари, который был на двадцать лет старше ее; если говорить честно, то от него ей нужно было лишь одно – как раз то, к чему этот не совсем сексуально полноценный мужчина редко испытывал склонность; свекра же своего, великого Гачари, который, кроме всего прочего, был ей крестным отцом, она просто-напросто боялась. Для Ракель Баняи же гениальный летописец-священник, прекрасно сложенный, эффектный, так выигрывающий рядом со щуплым Даниелем Широ, в юности был идеалом мужчины; удивительно ли, что она заявила Эмилии: коли ей выпала честь попасть в семью Гачари, то других желаний у нее в жизни и быть не должно. И разве может быть скучен Карой, если он тоже такой большой ученый? Двадцать лет разницы? Ну и что! Чем мужчина старше, тем мудрее. И вообще пусть думает о том, кто ее свекор, это куда важнее. Короче говоря, сухая, жилистая рука Ракель Баняи сама открыла Муки Дарваши дверь в дом. В гостиной они встретили Эмму, хотя ей там совершенно нечего было делать, никто ее туда не звал; она стояла перед большим портретом деда. «Я слышала разговор из комнаты, – рассказывала Эмма Гачари дочери своей, Пирошке. – Я знала, что ни меня, ни Эржебет все равно не позовут, вот и вышла сама и встала под портретом; портрет показывали каждому гостю, если он интересовался дедушкой Гачари. Ты бы тоже вышла, он был такой красивый, такой светский, необычный, прямо как в романе. Одного я только не понимала: чем мог заинтересовать такого человека какой-то проповедник, давным-давно умерший. Но когда я вошла туда и он взглянул на меня, я сразу догадалась: не «Хроника» его сюда привела. Стояла я под портретом, красная до ушей, и шевельнуться не смела от смущения и от счастья. Бабушка представила его, я поклонилась, он поклонился…»
Эмма Гачари знала достаточно много молодых людей, которые после придирчивого отбора Ракель Баняи попадали к ним в дом, однако они если и открывали рот, то говорили о заграничных путешествиях, замшелых университетских зданиях, библиотеках, знаменитых профессорах, о Геттингене и Утрехте, о лейденском Актовом зале, о неброской красоте пейзажа, радующего глаз путешественника, взобравшегося на башню Гейдельберга или Марбурга. Но что за дело было Эмме Гачари до пергаментно-мертвого мира, заставлявшего замирать сердце кальвинистских юношей, если из головы у нее не выходили балы, кружева и жаркие эротические картины! Молодой человек, вошедший к ним в тот день, был привлекательнее, чем даже сам молодой барон Венкхайм, к тому же наконец-то занимал ее разговорами, которые действительно были ей интересны. «Землеустроитель» Яблонцаи видел Вену, венский свет; поскольку из дневника его нам известно, что деньги свои он растратил в одно мгновение и буквально сидел на хлебе и воде, то можно представить, какими высокопоставленными друзьями, роскошными залами, придворными балами морочил он голову доверчивой провинциалочке. А когда он принялся рассказывать о Граце, то даже Ракель Баняи проявила интерес к его словам. Старуха любила умных и прилежных венгерских студентов, которые даже среди австрийцев выделялись упорством в овладения науками. («Отец не то чтобы лгал, – неуверенным толом говорила мне тетя Пирошка, – но, знаешь, он же был поэт, фантазия часто уносила его к небесам».) А кроме того, Юниор умел нечто такое, что не умел никто из допущенных в дом молодых людей: он писал стихи. У Эммы Гачари, как в те времена у любой барышни ее круга, был свой альбом, куда юноши-посетители вписывали почтительные строки, призывающие пылко любить родину и бояться бога, если же какой-нибудь автор, не ограничившись упоминанием отца небесного или отчизны, эгоистическим образом делал расплывчатые намеки насчет того, что совсем не будет против, если его имя и память о нем сохранятся в сердце юной хозяйки, как бы ни бросало бушующее море жизни лодочку барышниной судьбы, это уже производило впечатление дерзости. Однако все вдохновленные Новым заветом глубокомысленные поучения и даже сам великий стилист Павел, вкупе с классиками патриотической поэзии, моментально потускнели, когда альбома Эммы Гачари коснулась рука Кальмана Яблонцаи. Правда, Юниор целомудренно нарисовал в альбоме два-три цветочка и написал несколько строк, которые можно было без боязни показать кому угодно; но меж листами альбома Эмма обнаружила потом тайно вложенные туда обращенные к ней стихи: они восхитили ее слух и смутили, ибо никто никогда еще не писал ей любовных стихов. Откуда было знать шестнадцатилетней девушке, что сочинения эти ходят в Дебрецене по рукам, что их, спрятанными в кульке с конфетами, в кармане бальной накидки, в муфте, получали по меньшей мере тридцать барышень и что, когда она читает строки вроде «облик твой не запятнаю черною изменой» или о губах прекраснее коралла, о губах из алого рубина, то от этих страстных строк уже загорались в Дебрецене сердца Илонки Балог, и Розы Брукнер, и танцующей в украшенном незабудками платье Розы Нанаши, и Маришки Ковач, и Ирмы Фукс, и Милли Конти, и еще многих и многих, в том числе даже глазеющей на балаган с мартышкой Веронки Сабо, в которую, кстати, в этот момент в совсем недалекой отсюда Кёрёштарче, куда Веронка приехала к родне, с неестественной в этом возрасте пылкостью влюблен семилетний Элек, сын тарчайского реформатского священника, в будущем муж Ленке Яблонцаи.
Восстановить спектакль, что разыгран был в доме № 520 по Большой улице, нетрудно, опираясь на «Книгу хороших манер» Розы Калочи, – труд, на основе которого воспитывалась в Венгрии целая вереница юных поколений. Эмма Гачари, которую бабушка учила прилично и достойно стоять, сидеть, ходить, равно как и тому, какие темы выбирать для разговора в присутствии мужчины, очевидно, держит себя тем безукоризненнее («первейшим же условием надлежит считать прямую осанку, которая не становится, однако, напряженною. Молодой девице и сидя надлежит помнить: помещение ног крест-накрест являет собою позу весьма некрасивую, кою утонченный вкус не приемлет и отвергает. В присутствии пожилых дам молодым девицам неприлично откидываться на спинку стула»), чем больше у нее причин что-либо скрывать. Девушка давно усвоила, что хозяйка никогда не «ведет беседу одна», но, ловко направляя разговор, «делает его общим» и, кроме того, «старается выставить в наилучшем свете самые лучшие качества гостей». Эмма знает, что провожать до дверей следует лишь даму, мужчину же – лишь в том случае, если он в преклонных летах; что до самого замужества барышня не имеет права сидеть на мягком диване, даже если накануне она свалилась в кладовой с лестницы и сегодня ни рукой, ни ногой не может шевельнуть. Для сидения она должна выбирать жесткие стулья с прямой спинкой, диван же – это для немолодых или замужних дам. Что касается Юниора, то и мать, и гувернеры, и родственники Риккли воспитывали его по тем же правилам, причем школа Марии Риккль была не менее требовательной, чем школа Ракель Баняи, так что молодой Яблонцаи, появляясь в фюзешдярматском доме, всегда твердо помнит: «молодой человек заслуженно навлечет на себя упрек в невоспитанности, если в присутствии дам сядет на стул верхом или во время разговора будет держать руки в карманах брюк. Неприлично ставить локти на стол и подпирать руками голову; качание ногой неприятно для других, равно как и любой шум: тихое насвистывание, постукивание пальцами; надлежит воздерживаться от сдвигания голов, перешептывания и смешков». И вот два молодых и здоровых тела, созданных для сильных чувств, для любовных объятий, вынуждены находиться в неудобных, неестественных позах на почтительном расстоянии друг от друга, под бдительными взглядами Ракель Баняи и висящих по стенам, обезличенно идеальных предков и венгерских классиков. Граф Гектор – великолепный актер, и он достаточно побывал во всяких переделках, чтобы без особого труда сыграть скромного и прилежного дебреценского землеустроителя (чего не сделаешь ради этой удивительной девушки, подобная которой, в очередной раз уверен он, ему еще не встречалась и которая, по всей вероятности, на мрачном небосводе его жизни будет сиять теперь действительно вечным светочем). Эмма же впервые в жизни встретила того, кого всегда ждала, и так страшится потерять его, что, как никогда, следит за каждым своим движением. У Ракель Баняи нет причин для подозрений: ведь Эмма твердо знает, что время, когда бабушка начнет выбирать ей мужа, еще не наступило, а этот молодой Яблонцаи, если у матери его и осталось что-то, то по отцовской линии он даже в собеседники нежелателен – то есть был бы нежелателен, не одари его господь каким-то мальчишеским, покоряющим сердца обаянием. Никакой опасности он, конечно, не представляет, пусть себе приходит: ведь пропасть между ними слишком велика, чтобы у Эммы могла возникнуть мысль, что юноша этот может стать для нее чем-то иным, не просто приятным собеседником, который исчезнет с горизонта, как только работа перестанет связывать его с Шарретом, – пускай пока приходит, тем более что он так увлеченно слушает ее рассказы про великого Иштвана Гачари, делает какие-то записи, которые потом, вернувшись в Дебрецен, использует в серии статей. Яблонцаи – закоренелые католики, это тоже заведомо исключает всякие отношения между двумя семьями; впрочем, к чести молодого Яблонцаи надо сказать, судит он весьма объективно и, несмотря на различия в вере, способен оценить фигуру проповедника Гачари, Слава богу, он ходит к ним в дом не из-за Эммы, иначе пришлось бы его выдворить, хоть он и мил, и терпеливо держит моток шерсти, пока она рассказывает ему про свата, и порой дает разумные советы касательно земли, сева и других хозяйственных вопросов, в которых он, видимо, немного разбирается. Ракель Баняи с невероятной быстротой умеет отваживать от дома тех молодых людей, с которыми, по ее мнению, Эмме нет смысла встречаться. Однако Муки Дарваши – опытный ловец, да и Эмму, такую порывистую, несдержанную, любовь учит предусмотрительности и осторожности. Бабушка крепко спит, когда беседа, в отведенное для визитов время касающаяся преимущественно личности и деяний Иштвана Гачари, продолжается в иной обстановке; сторожевые псы, завороженные какими-то таинственными чарами, виляя хвостами и счастливо скуля, дают Юниору по ночам прокрадываться под окно или во двор; все Яблонцаи – прирожденные дрессировщики: сколько бездомных собак и кошек, зачарованных одним словом, одним взглядом, с поднятыми к небу хвостами бегало всю жизнь за Сениором, Имре, парками, Юниором, за их детьми и внуками. Юниор много поцелуев сорвал в своей жизни, но таких – таких он еще не получал, огонь, что сжигает его у колен Эммы Гачари, даже отдаленно не походит на влечение, испытываемое им рядом с испуганно-покорными молоденькими крестьяночками, за которыми он охотился в Паллаге и в поместьях Рикклей. Эту девушку природа создала не для вздохов и мечтаний; Кальман Яблонцаи, которого все еще мучает стыд за позорные неудачи в Граце и за унизительный контроль со стороны матери, чувствует: наконец-то его ценят так, как он того заслуживает. Эта девушка – истинное сокровище, он должен удержать ее и, главное, заполучить. Он убежден: все прежние его увлечения были лишь наивными, полудетскими поисками большого, настоящего чувства, и вот теперь он познал, что такое истинная любовь, что такое истинное желание.
Дебреценские девушки, у каждой из которых был целый двор из кавалеров, привыкли к комплиментам, к красивым словам; Эмму Гачари же впервые закружил самум великосветской – в ее представлении – страсти. Кальман, как мы знаем из его дневника, на каждом шагу предлагал кому-нибудь руку и сердце, это было одной из главных причин гнева Марии Риккль; к счастью, дома эту его слабость и барышни, и их матери прекрасно знали и не принимали всерьез его клятв. «Вы – большой ребенок», – бестактно заявила Роза Нанаши, выслушав от Юниора признание в любви и просьбу стать его женой. Снисходительная улыбка Розы все еще жжет Юниора, и настоящий бальзам на его рану – то, что Эмма Гачари уж никак не считает его большим ребенком; более того, когда он сообщает ей, что любит ее, не может без нее жить и просит ее руки, Эмма воспринимает это так, будто иначе и быть не может, сам господь предназначил ей в мужья этого красавца с таким безумно интересным прошлым; правда, граф Гектор тактично не упоминает, что материальное его положение не то чтобы неопределенно: оно никакое, у него ни должности, ни своего поместья, ни денег, – так что Эмме ничто не мешает мечтать, как Юниор увезет ее из Фюзешдярмата и они не остановятся до самого Дебрецена, а оттуда – в Пешт, потом к великосветским друзьям Кальмана в Вену, а может, и в Париж, и, когда они вернутся из свадебного путешествия, она, видимо, будет принята и у Венкхаймов – Кальман введет ее туда. Желание, пробужденное в ней Юниором, все сильнее овладевает ее созревшим для любви телом, и пусть непривычна форма, которую обретает их любовь – без церковного благословения, без свадьбы, – Эмма убеждена, что она всего лишь берет авансом частицу ожидающего их впереди безмерного счастья, ведь все равно они будут вместе, так стоит ли противиться настойчивым и таким жалобным мольбам се возлюбленного, который к тому же угрожает, что, если она не утолит огонь его страсти, он покончит с собой. Эта угроза – такая же пустая фраза, как и прочие приемы штурма девичьих сердец в арсенале Юниора, в Дебрецене никто и внимания бы на нее не обратил, но Эмма видит только: у Юниора есть охотничье ружье, с которым он ходит по камышам, – что, если он обратит его против себя? Конечно, аргумент этот для Эммы, скорее, самооправдание; истинное положение вещей таково, что не только Кальман не в силах уже ограничиваться жаркими поцелуями без продолжения: Эмма, пожалуй, еще более нетерпеливо жаждет отдать то, что нужно Юниору. Счастье Юниора по крайней мере столь же велико, как и его изумление, когда однажды ночью – Эржебет как раз больна, у нее жар, и Ракель Баняи приказывает ей лечь рядом, в осиротевшую постель Даниеля Широ (уход за больными, забота о здоровье сирот едва ли не единственное дело, в котором старуха позволяет себе преувеличения: слишком свежа еще память об Эмилии, о ранней ее смерти, о страшной болезни) – Эмма открывает окно своей комнаты и Юниор наконец попадает в девичью комнату с обтянутой пестрым цветастым кретоном и белым миткалем мебелью, со столиком для рукоделия и аскетически узкой кроватью. Кульминация любви – действительно кульминация, момент наивысшего счастья, когда всепоглощающее, чуть ли не до обморока, наслаждение лишь дополняется робостью Эммы и ее страхом перед утратой невинности; девушка, которую обнимает Юниор, даже в неопытности, неосведомленности своей оказывается непревзойденной любовницей. Кто-кто, а Юниор-то прекрасно знает: он даже тогда не мог бы на ней жениться, если б родился под более счастливой звездой и был бы более самостоятельным; Мария Риккль не раз излагала ему свое мнение по этому вопросу: она сама выберет ему спутницу жизни, когда немного придет в себя от разочарования, что Юниор вернулся из Граца без диплома. Но к чему об этом думать, ведь эта любовь – самый прекрасный подарок, который преподнесла ему до сих пор судьба. Узкая постель благоухает собранными и высушенными Ракель Баняи травами, чистым дыханием лаванды в тюлевых мешочках; ей-богу, жаль, что эта девочка с нежными губами, словно созданная для любви, лишь эпизод в его жизни; честное слово, он охотно бы взял ее в жены. Но об этом не может быть и речи, это просто нереально, а то, что случилось, пусть останется их вечной тайной. Кальман уже начинает сочинять стихотворение, в котором он простится с девушкой, и заранее жалеет себя, думая о страданиях, которые ему придется испытать, когда он больше не будет видеть Эммы.
Эмма Гачари во многом не походила на прежние предметы увлечений Юниора – например, в том, что не была ни по-девичьи боязливой, ни сдержанной. Она не знала обстоятельств жизни Юниора, не знала его семьи – и особенно матери – и потому почти с неприличной настойчивостью торопила его сообщить Ракель Баняи о своих намерениях и таким образом легализовать их связь. Эмма готова была хоть завтра броситься с головой в тот ослепительный мир, в котором у Юниора, по его собственным словам, был доступ в любой аристократический дом, и не понимала, чего ждет Кальман, почему он не сообщит всему миру, что они уже обручились. Связь их началась 28 апреля 1882 года, в этот день Юниор записывает в дневник: «Моя маленькая жена: Эмма Гачари». Летят недели, полные любви; Кальман то просит небо, чтобы скорее уже пришел август, когда должны закончиться осушительные работы в окрестностях Фюзешдярмата, то мечтает, чтобы время остановилось, ибо Эмма, с которой после выздоровления Эржебет он каждую ночь встречается в садовой беседке, живет сказкой: никто и никогда еще с таким благоговением не слушал выдумки и фантазии Кальмана Яблонцаи. Теперь уже навсегда останется тайной, тайной их двоих, как удавалось Юниору сдерживать нетерпение Эммы вплоть до наступления трагического момента, чем он объяснял свое нежелание сию же минуту отправиться к Ракель Баняи и открыться ей во всем. И вот в самом конце июля влюбленные получают грозное предупреждение: Эмма обнаруживает, что беременна. Странно, но напугана она куда меньше, чем можно было бы ожидать. Много лет спустя она рассказывала своей младшей дочери, Ирен, что в тот момент, собственно говоря, почувствовала даже некоторое облегчение: теперь-то уж решающий шаг, который определит ее дальнейшую судьбу, неизбежен. Зато Муки Дарваши в полнейшей панике. Обратиться за советом он может лишь к ласковому кумиру его детских лет, Сениору: то, что произошло, – тема для сугубо мужского разговора, а ведь отец тоже, наверное, не был в молодости святым, – вдвоем авось они что-нибудь придумают. Лучше всего бы, конечно, исчезнуть, и как можно скорее, – но как оставить в беде это прелестное существо, воплощение любви и преданности, как бросить ее на произвол судьбы, на «позорище», как выразились бы Мария Риккль и Ракель Баняи. Мария Риккль!.. Ракель Баняи!.. Трудно сказать, кого Юниор боится больше. И он снова изобретает какие-то не слишком убедительные отговорки, лишь бы успокоить смертельно влюбленную в него девушку, которая, впрочем, не слишком-то и беспокоится; она скорее испытывает приятное возбуждение и приподнятость, ведь скоро, скоро все решится, скоро долгожданная свадьба; тем временем Юниор в Сегхаломе, на их общей с отцом квартире, рассказывает Сениору, какая неприятная с ним приключилась штука. Отец женился почти в тридцатилетнем возрасте и попадал, наверное, в подобные ситуации. Как в этом случае должен поступить мужчина? За двадцать два года своей легкомысленной жизни Юниор придавал значение лишь тем побуждениям, тем образам, которые были порождены собственной его фантазией, собственными его страстями. И теперь он по-настоящему испуган, наблюдая реакцию отца; хотя много недель подряд он только и слышал, что рассказы о жизни великого проповедника, однако лишь теперь, видя отчаяние Сениора, он начинает понимать, кто же такие Гачари и кого он соблазнил в роковой тот день. Сениор и Юниор с ужасом смотрят друг на друга: в мыслях у обоих одновременно всплывают образы двух ничего не подозревающих женщин – Марии Риккль в Дебрецене и Ракель Баняи в Фюзешдярмате. Дед Эммы Гачари – гордость Шаррета, отец ее – олицетворение жизни, отданной на благо общества; если девушка вела себя легкомысленно, нельзя ни отдать ее в руки подпольных пештских повитух (такой вариант графу Гектору приходил в голову!), ни бросить на позор. Остается одно – просить ее руки и жениться на ней; Сениор едва удерживается, чтобы не добавить: а потом уповать на милость божию. Отец и сын договариваются: пока никому ни слова о том, почему этот брак неизбежен, ибо, если что-либо всплывет, Ракель Баняи возненавидит Юниора, а Мария Риккль – Эмму. Отец и сын Яблонцаи размышляют за бутылкой вина, что разумней: поставить Марию Риккль перед фактом или просить у нее согласия на брак – согласия, которого они, по всей вероятности, не получат, – и уже тогда действовать, хоть бы и против ее воли. Последний вариант, кажется, более приемлем, и Кальман скачет в Фюзешдярмат сообщить Эмме: благословение отца уже получено, теперь надо потерпеть уж действительно самую малость, он едет в Дебрецен за согласием матери. А как только он вернется, тут же пришлет отца свататься.
Пока Гектор добирается до Дебрецена, дело кажется ему не таким уж безнадежным. Умный и предусмотрительный Сениор предупредил его: после того, как выяснится печальный факт различия в вероисповедании – в этот момент, вероятно, нужно ожидать самых страшных слов, – самое время настанет позолотить пилюлю, сообщив, что невеста очень богата, в ее поместьях Кальман будет себе потихоньку вести хозяйство, так что о его будущем можно больше не заботиться, ведь мать и сама мечтала для него о такой партии.
Мария Риккль выслушала сына, потом взяла палку и отколотила его. Суть ее устного ответа сохранилась в памяти третьей парки, верного пажа Юниора; Мария Риккль высказалась в таком духе: двадцатидвухлетнему оболтусу, который чуть ли не каждую минуту влюбляется в какую-нибудь новую юбку, нельзя жениться даже в том случае, если он собирается взять богатую девушку из хорошей семьи, – такая женитьба и для него самого, и для других обернется трагедией. Уж она-то, мать, слава богу, знает, что за сокровище произвела на свет; Кальман – ветреник и флюгер, он сам себя-то не знает как следует, и совсем ни к чему делать несчастной незнакомую невинную девушку. А идея насчет Кальмана как хозяина? Кальман – и хозяйственность! Да он так нахозяйничает, что скоро от тех поместий и воспоминания не останется. Разве сумеет шестнадцатилетняя девчонка держать его в узде или хотя бы дать совет; в лучшем случае они вдвоем и пустят все на ветер. Короче говоря, Мария Риккль больше его никуда не отпустит, хватит с него осушения, а женится он на той, кого определит ему она, его мать, иначе он никогда не остановится, катясь вниз. Разговор, кстати, потому уже беспредметен, что Гачари – оголтелые кальвинисты, с нее оголтелых кальвинистов достаточно, дай бог забыть хоть бы того галерника. И вообще, если эта девчонка даже красива, как звезда небесная, – неплохо бы, кстати, подсчитать, о скольких таких красавицах слышала Мария Риккль восторги Кальмана, – то наверняка дура набитая, раз она хоть на минуту могла принимать всерьез такого пустомелю, как ее сын. Словом, пусть Кальман убирается в свою комнату, а с Сениором она еще поговорит: не для того она отпустила с ним сына, чтобы они влезали в какие-то немыслимые истории.
Третья парка отдает горячо обожаемому брату свои сбережения, и он в ту же ночь, тайно выбравшись из дома, возвращается в Шаррет, к отцу. С этого момента события развиваются стремительно, так как Мария Риккль, узнав о бегстве сына, велит заложить коляску, чтобы самолично поговорить с двумя жеребцами.
В Сегхаломе Сениору, которого она охотнее всего тоже побила бы палкой, не остается ничего иного, кроме как выложить ей всю правду: девушка в безвыходном положении и Юниор, как это ни неприятно, должен на ней жениться. Сцена, разыгравшаяся между супругами, останется в памяти Сениора как самый унизительный эпизод в его жизни; победа, которую он одерживает, – пиррова победа. Мария Риккль вынуждена сдаться, но говорить она будет лишь с будущей сватьей, а на эту кальвинистскую потаскушку даже не взглянет, да и к Ракель Баняи она не собирается ехать домой, она вызывает ее к себе, в Сегхалом, пока Юниор прячется где-то в Фюзешдярмате.
Тем временем Эмма так грустит и льет слезы, тоскуя по графу Гектору, что бабушка без особого труда догадывается, что дело нечисто. Ракель Баняи мрачнеет, уж не влюбилась ли внучка в биографа своего деда? Эмма же, которой Юниор сказал, что она может считать себя его законной невестой, не видит причин дальше утаивать свои чувства и, давясь рыданиями, сообщает бабушке: она любит Кальмана Яблонцаи, они дали друг другу обет верности. Вначале старухе даже не приходит в голову выйти из себя, настолько абсурдно то, что она слышит; она лишь отмахивается сердито: Эмма выйдет за того, кого пошлет ей господь – не смешно ли думать, чтобы господь послал ей в мужья именно Яблонцаи?! Ей лучше знать, отвечает Эмма, они навеки неразделимы в жизни и в смерти. Ракель Баняи, вскипев, заявляет: пусть только явится сюда еще раз молодой Яблонцаи, она его выставит вон, чтоб не мутил девушке голову; Эмма, которую беременность сделала раздражительной, кричит в ответ: все равно она станет женой Кальмана, даже бабушка не воспрепятствует ей в этом, и если она хочет знать, то Кальману плевать на заплесневелую «Хронику» старого Гачари, он совсем не из-за «Хроники», а из-за нее, Эммы, приходил к ним в дом, и хочет или не хочет бабушка, а ей придется отдать ее за Юниора – все равно выхода уже нет. Эти несколько слов, брошенные в лицо остолбеневшей, уничтоженной Ракель Баняи, предопределили судьбу будущих мужа и жены и девяти их несчастных детей.
Итак, нелегальное бракосочетание состоялось 28 апреля 1882 года, легальное же – 2 сентября, после трех скромных объявлений. Живых свидетелей встречи двух сватий уже не осталось, но сцена поддается воспроизведению. В один и тот же момент рухнули, рассыпались в пыль надежды, цели, результаты двух жизней, питавшая их вера, и Ракель Баняи, очевидно, с такой же ненавистью смотрела, на мать Кальмана Яблонцаи, как и Мария Риккль – на женщину, воспитавшую Эмму Гачари. Мария Риккль видела лишь, что безрассудная, восторженная девчонка взяла и похитила у нее сына, ее Кальмана, а вместе с ним – все ее надежды: теперь-то Юниор разойдется вовсю, будет сорить деньгами направо и налево, транжирить, пока будет что. Учиться он теперь и не подумает, в этом нечего и сомневаться, не пойдет и служить. О, если б эта девчонка была какой-нибудь горбуньей, которая цепко держала бы ключ от сундука с деньгами, чтобы не оказаться в одиночестве, когда не останется форинтов, – но она красива, так красива, что для Марии Риккль это дополнительное оскорбление: парки рядом с нею – просто серая моль. Сениор, который как раз здесь, в Шаррете, начал чувствовать себя всерьез больным, почти так же ненавистен Марии Риккль, как и сын; Сениор мертв для нее, теперь мертв и Юниор – и о, если бы мертва была и эта девчонка, эта распутная внучка кальвинистского пророка, которая обрушила на ее голову столько горя, поддавшись уговорам лживого мальчишки. Мария Риккль не желает их больше видеть, ее нет и на свадьбе, невесту не привозят представить в дом на улице Кишмештер, из золовок одна лишь третья парка в будущем, когда познакомится с Эммой, снизойдет до того, что склонна будет с ней разговаривать. Обряд, состоявшийся в огромной церкви деда Эммы Гачари и ознаменованный проповедью досточтимого Беньямина Чанки, собрал на редкость мало народу; из Яблонцаи здесь только Сениор, который уже на все махнул рукой; правда, по такому случаю, ради прелестной невестки и своего легкомысленного, но горячо любимого сына он надел даже парадное черное венгерское платье. Сентябрьский день тих и чудесен, невестка буквально цветет за двоих, она счастлива, она отныне независима и богата; что же касается материнского проклятия Марии Риккль и холодного лица Ракель Баняи, которой, Эмма не сомневается, она с этого момента столь же безразлична, как если бы вообще умерла, то все это омрачает ее настроение не более, чем плывущее над церковью облачко. Сияют ампирные украшения, гранатово-красен бархат на перилах вокруг стола господня, граф Гектор, который привез разрешение дебреценского прихода на совершение венчального обряда по реформатским правилам (еще один жестокий укол в сердце Марии Риккль), стоит несколько растерянно, пока священник зачитывает молодым, что писал апостол Павел о любви к ближнему. Из старых его друзей и собутыльников лишь одного привело на свадьбу любопытство: среди зрителей стоит молодой торговец Лейденфрост, и взгляд его останавливается на юном, разгоревшемся от волнения лице четырнадцатилетней Эржебет Гачари. Один свидетель, аптекарь Дюла Корниш, стоит позади Эммы; второй, сегхаломский помещик Йожеф Боршоди, друг Сениора, – позади Кальмана. Машинально повторяя про себя слова Священного писания, что «любовь долготерпит и никогда не перестает», Юниор думает о том, что матерью он проклят, домой ему путь заказан, разве что Гизелла ночью пустит его в окошко. Впрочем, что ему делать дома, по крайней мере первое время? Эмма богата, огромные земли ее – сплошь первоклассный, жирный чернозем, да и наличный капитал выражается в какой-то невероятной сумме: теща без единого слова, лишь потребовав расписку, передала ему утром, в день свадьбы, сказочное наследство старшей внучки, сообщив, что дом также в их распоряжении, она с мужем в свое время переселилась сюда лишь из-за больной Эмилии, чтобы поддержать зятя, Кароя, и воспитывать внучек. Их собственное жилище, дом Широ, уже почти четырнадцать лет стоит пустым; она переберется туда. Итак, жена его утром получила все свое состояние, без остатка; последняя фраза, которую произнесла Ракель Баняи, после того как с сухими глазами и без комментариев надела на Эмму фату и венец и поправила складки, была: если любой из них, даже нищим, вздумает обратиться к ней за помощью, она не даст ни филлера. Эмме больше не полагается ничего.
После завершения свадебного путешествия дочь Кароя Гачари ждало богатое приданое; фюзешдярматские друзья, дальние родственники надеялись, что их, как предписывал обычай, пригласят на смотрины, но Ракель Баняи обычаем пренебрегла, лишь одна Эржебет, которая искренне горевала после отъезда сестры, чувствуя, что с Эммой из дома на Большой улице исчезают радость и веселье, копалась, онемев от восторга, в грудах свежекупленных вещей. Эржебет была полностью в курсе событий, предшествовавших скоропалительному браку; главным информатором ее была сама Эмма, с которой они, две круглые сироты, были куда более привязаны друг к другу, чем это обычно бывает между сестрами. Эржебет не меньше Эммы переживала, волновалась, горела надеждой на всех стадиях романа, разыгравшегося в то бурное шарретское лето, а поскольку Эмма куда чаще была наверху блаженства, чем в тревоге, то и в сознании Эржебет период этот запечатлелся довольно своеобразно: вот так, только так, считала она, стоит отдаваться страсти, бросаться в пучину чувств, так же без оглядки, так же жертвенно, – и если до сих пор она не очень-то обращала внимания на молодых людей, то теперь и сама стала рассматривать из окошка прохожих на Большой улице с той точки зрения, кто из них мог бы вот так же завладеть ее воображением, ее сердцем, как Кальман Яблонцаи – воображением и сердцем Эммы; Эржебет, под влиянием рассказов сестры, начала интересоваться такими вещами, которые прежде почти не занимали ее.