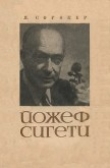Текст книги "Старомодная история"
Автор книги: Магда Сабо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
Уйфалуши велел оставить Ленке на время в покое и не заставлять есть. Мелинда, на которую снова была возложена забота о питании Ленке, восприняла указание буквально и вообще ей не накрывала, считая, что, проголодавшись, та сама запросит есть и все придет в норму. Этот период в жизни матушки завершился гротескной историей с яйцами, которая в определенном смысле обернулась так трагикомично, что последствия ее ощущаются до сих пор. Есть у меня две троюродные сестры, с которыми я не общаюсь, и мы, все трое, так и сойдем в могилу жертвами старой распри: мы всю жизнь не могли ни знать, ни любить друг друга, и причина тому – четыре яйца, художественно раскрашенные матушкиной теткой, Илоной. В каждом из Яблонцаи были какие-то творческие наклонности: Маргит хорошо пела, Илона с детства прекрасно рисовала портреты, цветы, животных, воображаемые и подлинные пейзажи. Рисовала на фарфоре, на дереве, на бумаге; один из ее девичьих рисунков сохранился у Мелинды, и даже я видела его. Однажды она сварила четыре яйца и с помощью кисти превратила их в фигуры, напоминающие Шалтай-Болтая из английского детского стишка. У них были большие головы, и одеты они были в тирольские платья; два яйца изображали мальчиков в кожаных штанах, щетинных шляпах, другие два – тирольских девочек с косичками. Илона положила яйца в прихожей на тумбочку, ей льстило, когда гости восторгались ее талантом; однажды во время ахов и охов какой-то родственник уронил или стукнул обо что-то одно из яиц, скорлупа треснула, и кусочек ее отвалился; Илоне жаль было выбрасывать фигурку, и она оставила ее на месте, лишь повернула к стене поврежденной частью. Матушка, чьи большие грустные зеленые глаза все вокруг внимательно подмечали, засмотрелась на яйца. И по отвалившейся скорлупе, по сожалениям и утешениям догадалась, что тирольского мальчика, собственно говоря, можно есть, что это просто яйцо, которое мама давала ей дома – бог знает, где и когда это было, дома, – откуда ее привезли в это страшное место. Она была голодна, и никто не следил за ее руками. Короче говоря, она очистила и слопала все четыре яйца. Тетка не била матушку, но никогда не могла ей этого простить: Ленке просто перестала для нее существовать; правда, когда Ленке была уже девушкой, Илона несколько раз приглашала ее к себе в дом – именно у нее, в Зилахе, познакомилась матушка с новой венгерской литературой, как раз в те годы начавшей свой славный поход к триумфу, – но поскольку купецкая дочь не принуждала их встречаться еще, то контакты между ними навсегда оборвались. Я, например, никогда не видела Илону, матушка даже на улице мне ее не показывала, и детей ее я знаю лишь по фотографиям; не комично ли, что четыре яйца, раскрашенных одной из младших сестер моего деда, встали меж нами стеной, куда более непреодолимой, чем широкие моря и высокие горы в какой-нибудь народной сказке.
Яичный скандал сопровождался таким шумом, что дошел, благодаря Аннуш, до веселых старых господ. Сениор послал за Гизеллой. Когда младшая дочь явилась, Сениор, это воплощение тишины и всепрощающего ласкового спокойствия, обратился к ней с непривычной резкостью. Если две взрослые девушки, Илона и она, неспособны поладить с таким умным, послушным ребенком, как Ленке, значит, они сами не достойны быть матерями. Пусть маленькой Ленке накрывают теперь у него в комнате, он будет с нею заниматься и берется, кстати, научить девочку правильно обращаться с приборами. Непонятно, как дело могло зайти столь далеко, ведь Мелинда и Илона подбирают больных, беспризорных животных, ухаживают за ними, жалеют их – почему же они терзают ни в чем не повинную девочку только из-за того, что ненавидят ее мать? Разве Ленке – не дочь Кальмана, в конце концов? Мелинда послушно принесла скамеечку с розами, табурет, накрыла на нем и сообщила Ленке, что теперь она будет есть у Сениора; матушка смотрела на нее, словно не понимая, о чем та говорит.
Память Ленке Яблонцаи на всю жизнь сохранила часы, которые она провела у деда, слушая чудесные рассказы Сениора о говорящих кометах, о конях, рожденных хортобадьским ветром и питающихся горящими углями, чтобы выше летать. Сениор не мог встать со своего кресла, он лишь говорил внучке, что и как надо делать, и ребенок, слыша доброе слово, из кожи лез, стараясь угодить деду. С тех пор большую часть времени Ленке проводила у Сениора или играла в саду; в парадной части дома по ней по-прежнему никто не тосковал. Богохульник Имре иногда посылал сказать ей, пусть приходит танцевать, карман на стене ждет. Матушка шла с удовольствием, воспоминания о Пеште и о родителях тускнели; матушка то пряталась от парок и от бабки, то плясала и пела перед веселым старцем, то пододвигала скамеечку к креслу Сениора и клала головку на его парализованные колени, боясь пропустить хоть одно слово, пока Сениор рылся в глубинах своей памяти, добывая то, в чем так нуждались в свое время, будучи детьми, и Кальман с Мелиндой, – поэзию. Лечением Сениора занималась Мелинда, следуя предписаниям доктора Уйфалуши, дополнительные же лекарства специального назначения, которые контрабандой проносил тестю остепенившийся Хенрик Херцег, Сениор принимал с помощью Ленке; матушка с гордостью наполняла стакан свежей водой и помещала на серебряную ложечку «регенерирующие пилюли» Рихарда, чудо-средство для лечения «тайных болезней». Матушка всегда испытывала отвращение ко всему, что связано было с отношениями полов, и я, собирая материал для «Старомодной истории», ужаснулась, когда разузнала, что за лекарство просил подавать себе дедушка, когда старался воспитать во внучке уверенность и точность движений: пилюли Рихарда оказались лекарством от венерических болезней, содержащим камфору и генциану, – лекарством столь же безвредным, сколь и бесполезным. Сениор взял в свои ловкие, все еще сильные руки и ежедневное причесывание Ленке, поддерживая в порядке ее локоны, а когда девочку, еще не достигшую шести лет, отдали в школу, он же следил за ее уроками. Последние полтора года своей жизни Сениор жил в теплых лучах горячей и благодарной любви маленькой Ленке; даже во враждебной броне Мелинды, когда она смотрела на Ленке Яблонцаи, появлялась не заметная глазу трещинка: с одной стороны, Ленке была дочерью Эммы Гачари, а с другой стороны – преданной слугой Сениора, Кальман Яблонцаи-Сениор всем сердцем любил внучку. Илона же все время лелеяла свою обиду из-за четырех яиц; самая старшая парка не желала видеть у себя отродье кальвинистской шлюхи и не разрешала своим сыновьям и дочери с ней играть, она и смотрела как-то сквозь нее, когда им приходилось встречаться в доме матери; из трех сестер лишь Мелинда роняла порой доброе слово, обращаясь к племяннице, поправляла у нее на голове косо повязанный бант. Матушка в таких случаях испытывала столь сильную благодарность, что целовала ей руку; Мелинда глядела на нее в смущении и куда-нибудь исчезала.
Потом Сениор умер.
Агония Сениора не была ни легкой, ни быстрой; ухаживали за ним все, даже Маргит, и лишь ребенка, чтобы не мешался под ногами, прогоняли к прислуге, которая со слезами на глазах обсуждала, какие звуки издает барин, что шепчет, сколько все это еще протянется, сколько он выдержит. По-настоящему, конечно, занимались Сениором, кроме доктора Уйфалуши, Мелинда и Мария Риккль; мать и дочь никогда еще, пожалуй, не были столь близки друг другу, как в ту неделю, дни которой все стремительней несли Кальмана Яблонцаи-Сениора к могиле. Сениор до последней минуты был в сознании; Мелинда сидела с ним днем, Мари – ночью. После стольких лет отчуждения супруги вновь проводили ночи в одной комнате, вновь, промолчав так долго, разговаривали друг с другом. Служанки воспринимали только сам факт общения, содержания разговоров они, конечно, знать не могли; тетя Клари за всю эту неделю принесла в кухню одну-единственную интересную новость: Мари послала за Кальманкой, Сениор хочет проститься с сыном. Ленке околачивалась там же, в кухне, всегда под ногами, всегда мешая взрослым; в суете никто и не думал, как она воспринимает разговоры, как ее сознание откликается на мрак близящейся смерти, на перевернувшийся порядок в доме, на то потрясение, что отец ее оказался где-то близко, в пределах досягаемости.
Когда Ленке привезли на улицу Кишмештер, ей немного погодя сообщили, что совсем ни к чему звать и дожидаться мать: Эмма Гачари умерла, как Эрнёке и Эммушка, и Ленке никогда ее больше не увидит, а отец уехал очень далеко и оттуда не так-то просто вернуться домой, теперь ее будут воспитывать здесь, ведь родители, пусть она запомнит это, отдали ее, когда мать была жива. Матушка верила всему, что ей говорили, да и как ей было не верить: если братик и сестренка ее исчезли, то ведь могла исчезнуть и мать; уехал – это понятие тоже не было для нее незнакомым, она вот уехала же сюда из Пешта на поезде. Услышанная в кухне весть, что Сениор посылает за сыном, пробудила в ней мысли, которые она еще не способна была высказать. Она не плакала, не кричала, лишь сидела молча, словно готовясь к прыжку, с напряженным спокойствием охотника за бабочками: шевельнись – и добыча улетит, может быть, безвозвратно. Было лето, тетя Клари повязала чистый передник, надела вместо домашних туфель ботинки и отправилась куда-то. Матушка, хоть ей запрещено было околачиваться в воротах, ухитрилась все же подсмотреть, в какую сторону ушла кухарка: с той стороны, думала она, нужно ждать и отца. Будучи уверена, что отец находится где-то невероятно далеко, она приготовилась к многодневному ожиданию; но едва Аннуш управилась с Богохульником, а Агнеш помыла посуду, как тетя Клари уже снова была на кухне, с ними. Матушка чувствовала: вероятно, это Мелинда опять сыграла с ней одну из своих злых шуток, – Мелинда, которая столько раз обманывала ее с тех пор, как Ленке живет здесь, да еще издевалась над ней за доверчивость, смеясь невеселым своим, прячущимся за узкими губами смешком. На сей раз она, видно, и тетю Клари каким-то образом провела: не может быть, чтобы отец вот так взял и вернулся. Теперь Ленке наконец заплакала, но никто этому не удивился, тень смерти нависла над домом. Тетя Клари нашла какую-то тряпку, бечевку и сунула в руки Ленке сухой кукурузный початок: пусть сделает себе куклу, выходить из кухни пока нельзя. В доме было тихо, лишь время от времени скрипела калитка в воротах и росла в прихожей, в большой вазе-наутилусе, горка визитных карточек: соседи и родственники справлялись о здоровье Сениора. Что за разговор состоялся между родителями и сыном у смертного одра Сениора – никто не знает; но то, что больших изменений он не принесет, почувствовали и члены семьи, и прислуга. Если Мария Риккль позвала только Юниора, значит, купецкая дочь по-прежнему не желает признавать Эмму Гачари и по-прежнему стоит на том, чтобы до расторжения брака сын, за исключением некоторых особых случаев, не показывался дома, о выдаче Ленке же не может быть и речи. Рука, что некогда так уверенно держала поводья танцующего коня под окнами Ансельмова дома, так нежно сжимала пальцы Марии Риккль в танце, раздавала карты, просеивала зерна пшеницы и поднимала саблю во время революции, а теперь не могла оторваться от простыни, на которой лежала, – рука эта лишь на короткие несколько часов способна была открыть для блудного сына двери родительского дома. Маленькая Ленке встретилась с отцом лишь вечером, когда тетя Клари после ужина вела ее спать: Сениора уже не было в живых, Юниор с опухшим от слез лицом как раз вышел из комнаты покойного. Когда взгляд его упал на дочь, вытянувшуюся, худую, он зарыдал, схватил ее на руки, матушка же целовала его, крича: «Возьми меня домой!» Кальман Яблонцаи, отныне единственный обладатель этого имени, что-то пролепетал, опустил дочь на пол и выбежал из дома. Местом изгнания Юниора по-прежнему оставался Паллаг; как член семьи, он лишь получил право надеть траур, участвовать в похоронах, ведя под руку мать, и забрать с собой в поместье Сениорово наследство – землемерные инструменты, теодолит и бинокль; биноклем этим он уже никогда не мог пользоваться по назначению: едва он подносил его к глазам, как слезы застилали ему зрение, перед ним возникал светлый образ отца, показывающего ему созвездия на бескрайнем ночном небе Альфёльда.
После этой встречи не имело смысла утаивать действительное положение вещей от Ленке, в памяти которой по-появление отца осталось как некое призрачное видение. С собой он ее не взял и сам с ней не остался, на похоронах лишь появился, чтобы потом снова исчезнуть, – где же он тогда, если его вроде бы и нет? «Он в поместье, в Паллаге, – сообщила Мелинда, – но не может же одинокий мужчина воспитывать девочку, вот мы и воспитываем тебя вместо него. Он ничего в этом не понимает, да и нельзя ему мешать работать». – «Работать… – хихикали в кухне. – Хороша работа – опрокидывать Эмму на мягкую постель да девок под кусты. Или смотреть, как жена павлинов кормит; они там больше о павлинах заботятся, чем о скотине да о посевах. И как только его имя-то вписали в траурное извещение?» Увидев матушку, стоящую на нижних ступеньках в своих бесшумных тряпичных туфлях, тетя Клари тут же сменила тему и стала рассказывать про какого-то старого столяра по имени Ласло, который покончил с собой, бросившись в колодец на улице Сечени, потому что у него не было работы и ему нечего было есть. Мгновение, когда тряпичные туфли Ленке замерли на нижней ступеньке ведущей в кухню лестницы и чуткий слух ее уловил смех прислуги, опять-таки словно приостановилось. Матушке было уже за восемьдесят, когда она рассказала мне про тот день, – день, когда она должна была бы почувствовать, что все проблемы ее решены, несчастная судьба ее не так страшна, она должна быть счастливой, ведь и отец ее оказался совсем не в какой-то недостижимой дали, и мать вовсе не умерла, оба живы и находятся совсем близко. Но матушка думала: «Не умерла? Какой ужас». Лишь смерть могла бы оправдать Эмму Гачари с ее павлинами в глазах Ленке, которой в этот тяжкий момент мать казалась каким-то бессердечным палачом, лично ответственным за все, что случилось с маленькой Ленке, за Хромого, за побои, за подвязанный шнур звонка. Если она кормит павлинов да валяется в постели, то понятно, почему ни у нее, ни у Кальмана Яблонцаи нет ни времени, ни необходимости думать о детях.
Первый выход Ленке Яблонцаи в дебреценское общество произошел в день похорон Сениора, смерть которого была хотя и не неожиданным, но столь сильным ударом, что дом на улице Кишмештер зашатался. Имре весь день напролет сыпал проклятьями и рыдал в своей комнате, крыл почем зря этого негодяя, господа, столь подлого, что он сына забрал раньше, чем отца, и он, несчастный, парализованный старик, в свои девяносто лет все еще должен жить нахлебником у купецкой дочери, которая, наверное, даже на могилу да на крест для них двоих пожалеет денег. Мария Риккль сразу после кончины мужа закрылась в своей комнате; Мелинда, когда спустя много лет мы подолгу беседовали с ней в домике на горе долгими страшными ночами, наполненными гулом самолетов и взрывами бомб, рассказывала, что мать выходила из комнаты, лишь когда объявляли посетителя, покрасневшие, но сухие глаза ее холодно смотрели на гостя, бормочущего прочувствованные слова соболезнования. На похоронах лицо ее было скрыто трехслойной вуалью; если она и плакала, то никто этого не видел. Матушку вела в процессии тетя Клари: Мелинда была в таком состоянии, что едва ли могла думать о ком-нибудь, кроме самой себя. Могилы представителей рода Яблонцаи встречались и в Араде и в Мезёберени; были они и в Дебрецене: здесь покоились племянники Сениора, дети бежавшего в Эрдей, бесследно сгинувшего там Белы и его жены, скончавшейся от чахотки баронессы Балужански: сын Ласло и две дочери-монахини; здесь лежали в земле Эрнёке и Эммушка вместе с младенцем Йожефом, о рождении которого Ленке даже и не знала. Однако настоящее, большое место упокоения для членов семьи готовилось лишь сейчас; Сениор был первым жильцом огромного, окаймленного гранитом, увитого плющом семейного склепа, на мраморном обелиске которого в моем детстве уже блестел позолотой целый список имен. Хоронили Сениора торжественно, с пышным обрядом. Лица Марии Риккль никто не видел, рука ее в черной перчатке ни разу не подняла к глазам платок; Мелинда лишь дома, снимая с матери шляпу, ужаснулась, увидев ее размокшее, изъеденное слезами, несчастное лицо. Кальман Яблонцаи после похорон проводил семью до ворот, потом ускакал в Паллаг. Эммы Гачари не было на похоронах.
За год до того, как умер Сениор, Мария Риккль решила отдать Ленке в школу, хотя шесть лет девочке было должно исполниться лишь на третьем месяце учебного года, 17 ноября. Школу для внучки купецкая дочь выбрала после длительных размышлений; ребенок был, по матери, реформатского вероисповедания, но никто не относился к этому всерьез; Мария Риккль, еще только решив взять Ленке к себе, заявила дочерям: когда придет время, Ленке все равно перейдет в католичество, а потому и воспитывать ее надлежит так, словно она уже католичка. В отношении обрядов никаких проблем с ней пока не было, в барочной церкви св. Анны девочка провела немало счастливых минут, любуясь огнями свечей, образами святых, наслаждаясь стройным пением; когда Яблонцаи входили в церковь, Мелинда, обмакнув в святой воде пальцы, протягивала их матушке, с ее холодной, худой руки и принимала Ленке очистительные капли. Она быстро усвоила, что ей нужно делать, и преклоняла колено вместе со всеми – только не молилась, поскольку не знала иной молитвы, кроме той, которой ее научила еще мать и которую она должна была произносить перед сном. Много лет спустя Мелинда рассказывала матушке, сколько споров было в семье относительно того, о чем должен просить боженьку ребенок Эммы Гачари, ибо первое время маленькая Ленке каждый вечер в постели твердила сквозь рыдания: когда ей сон смежит глаза, пусть добрый боженька заботится о ней, о родителях, о братьях и сестрицах. Чушь, сказала купчиха, вверять заботам господа нужно разве что ее несчастного отца, а братьев и сестер у нее нет. Для решения вопроса, как Ленке молиться на ночь, созван был настоящий семейный совет с участием всех трех парок и даже Йозефы Бруннер. Илона сожалела, что с ними нет Кальмана, он бы в момент написал какую-нибудь подходящую молитву в стихах; Маргит предложила обучить Ленке «Аве Мария», но никто ее не поддержал; отвергнут был и «Отче наш», ведь Ленке даже не знает, кто такая дева Мария, хорошо еще, если у нее есть какое-то представление об Иисусе и о боге-отце. «Пусть молится по-немецки, – решила спор Мария Риккль. – Schl(frig bin ich, geh zur Ruh…» – «Да ведь она не знает немецкого!» – сказала Гизелла. «Научится. Schl(frig bin ich, geh zur Ruh, schliesse meine Augen zu, Vater lass die Augen dein (ber meinem Bette sein.[91]91
В дом приходит тихий сон, глазки мне смежает он. Милый боженька, со мной будь всегда во тьме ночной (нем.).
[Закрыть] Это как раз то, о чем нужно молиться перед сном такому ребенку, притом рано или поздно ей все равно учиться немецкому языку». Илона и Мелинда обучили матушку молитве, в которой для четырехлетней девочки не было ни капли смысла, но которую она каждый вечер послушно отбарабанивала, чтобы потом, натянув на голову одеяло, лежать в ожидании страха, шорохов и Хромого. Она понятия не имела, о чем говорила с господом.
Первоначальный вариант купецкой дочери – сразу же, с первого класса учить Ленке в католическом заведении – не осуществился; правда, ради Марии Риккль, столько тратившей на нужды церкви, все с радостью пошли бы на уступки и приняли бы Ленке в католическую начальную школу; но тогда за ее обучение пришлось бы платить двойную плату – она была другого вероисповедания, – а в глазах купецкой дочери это жалкое, неблагодарное, замкнутое существо не то что сорока форинтов – четырех крайцаров не заслуживало. И Мария Риккль записала ее на улицу Цеглед – ныне улица Кошута, – в школу знаменитого Доци, с полным правом гордящуюся успехами, достигнутыми на ниве воплощения в жизнь заветов Розы Калочи и Гедеона Доци. В восьмиклассном женском заведении, над которым шефствовала гельвецианская церковь, работали два ординарных преподавателя, три учительницы, один младший преподаватель, три преподавателя закона божьего, учитель музыки и учитель танцев. Разум шестилетней Ленке шлифовали на занятиях по развитию речи и сообразительности, на уроках венгерского языка, арифметики, географии, естествознания, немецкого языка, рукоделия и физкультуры. Во втором классе добавились рисование и чистописание, в третьем – она знакомилась с историей Венгрии, в пятом – осваивала физику, всемирную историю, в седьмом – математику, химию и антропологию, в восьмом – психологию; кроме всего этого, она училась вязать спицами и крючком, кроить и шить простое белье, вышивать. Из воспитателей своих она чаще всего вспоминала самого Гедеона Доци, его огромную эрудицию и то снисходительное презрение, с которым он смотрел на своих, легко теряющихся у доски, заведомо менее полноценных по сравнению с мальчиками воспитанниц. Насмешливый стишок, которым он порой возвращал на место Ленке Яблонцаи, запомнился и мне: «Темна ума обитель, просвети нас, учитель, ступай на место, Яблонцаи».
Первый, самый тревожный год из восьми помогла Ленке одолеть ласковая рука Сениора; впрочем, за все эти годы Ленке по всем предметам, кроме арифметики и закона божьего, получала лишь отлично. Относительно низкая отметка по закону божьему – явление довольно странное, но причину я нашла быстро. Мария Риккль даже не купила внучке учебник по предмету, запретила ей ходить на реформатское богослужение – и вообще не делала секрета из того, что, достигнув соответствующего возраста, девочка сразу перейдет в веру Яблонцаи. То, почему у матушки в этом знаменитом церковном заведении не было серьезных неприятностей из-за полной неосведомленности в своей религии, объясняется двумя обстоятельствами. Руководители заведения с самого начала знали о намерении Марии Риккль; нетрудно было понять: во всем, что делается или не делается, виновата не воспитанница, девочка все равно не станет овечкой в кальвинистской пастве, хоть и относится сюда по рождению. Гедеон Доци, который строгостью своей порой, во время каких-нибудь особо трудных опросов, буквально замораживал атмосферу в классе, был тем не менее достаточно человечным, чтобы закрывать глаза, если был уверен: с открытыми глазами он никому не принесет пользы, а ребенку нанесет вред, может быть непоправимый. Вторым обстоятельством была удивительная музыкальность Ленке Яблонцаи: девочка с абсолютной уверенностью играла псалмы и гимны, левой рукой импровизируя сопровождение к древним мелодиям. У Доци рояль стоял в каждом классе; обучение внучки музыке Мария Риккль начала сразу же, как только записала ее в школу. Мадам Пош, учительница музыки, уже через две недели после начала обучения попросила у Марии Риккль ее принять и сообщила, что девочка очень и очень талантлива, к ее музыкальному образованию следует отнестись особенно внимательно. Поскольку дети Яблонцаи все учились играть на фортепьяно, причем все у мадам Пош, и поскольку впервые случилось, что учительница, не ограничившись принятием гонорара, еще и по собственной инициативе стала комментировать успехи очередной ученицы (Мелинда, например, играла на рояле, словно сырое мясо отбивала, сердясь, что оно никак не становится мягким), то Мария Риккль лишь рукой махнула, пропустив услышанное мимо ушей. Но в школе Ленке часто спасали от последствий далеко не блестящего знания закона божьего именно суровые мелодии, которые так уверенно звучали под детскими ее пальцами: матушка аккомпанировала классу, и когда в конце года ей выставляли отметку, то выставляли скорее за музыкальные способности, чем за знание предмета.
Последний год жизни Сениора прошел в обществе грифельной доски, грифеля и сушеной заячьей лапки на бечевке. Он читал Ленке, объяснял ей уроки, диктовал, поправлял прописи, спрашивал выученное, делал с ней упражнения; а Богохульник в соседней комнате распевал во всю глотку. Я сама уже была замужем, когда матушка решилась процитировать навеки врезавшиеся ей в память слова, и в старости краснея от них: «Эх, не шлюха ты, сноха, эй-ге-ге-гей, лучше бы шлюхой ты была, эй-ге-ге-гей, ведь у шлюх у всех, ей-ей, сердце все ж как у людей, эй-ге-ге-гей». Когда он очень уж расходился, Сениор брал палку с серебряным набалдашником в виде собачьей головы и стучал в стену; ненадолго становилось тихо, Ленке писала, потом Богохульник заводил новую песню – у него их был большой запас, он всю семью зарифмовал, годами сидя в своем кресле. «Ах ты, Бела, сукин сын, в мире ты такой один…» – «Что видел ты во сне, скажи, о сын мой милый», – диктовал Сениор.
«Ты, наверное, любила ходить в школу?» – спросила я матушку и не поверила своим ушам, когда она ответила отрицательно. Купецкая дочь запретила ей дружить в классе с кем бы то ни было, заявив, что друзей она сама ей назначит; если кто-нибудь из одноклассниц приходил к Ленке без приглашения, гостью попросту выпроваживали. Как я возмущалась, слыша это: у меня с малых лет было множество друзей, без них я не мыслила своей жизни; теперь мне казалось совершенно естественным, что, будучи настолько изолированной от сверстников, она не любила ходить в школу. «Ах, тебе не понять этого, – сказала матушка. – Не в том было дело. Я и одна умела превосходно играть, у меня были собаки, шарики, сад, я влезала на площадку, к чердаку, и смотрела, когда на башне появится красный флаг и в какой стороне пожар, я танцевала прадеду, дедушка Кальман меня любил по-настоящему, а позже, когда мне уже разрешали выходить, меня всегда ждала купальня «Маргит», ну, а еще я играла на рояле, могла играть хоть целыми часами, еще придумывала сказки и рассказывала их сама себе. Я, собственно говоря, не жалела, что никто ко мне не приходит и я никуда не хожу. Но я с трудом выносила то, что у других были родители, а у меня нет, хотя и настоящей сиротой я не была. Я так завидовала другим. Как увижу, бывало, что за кем-нибудь из одноклассниц приходит мать и целует ее или как отец ведет дочь домой, держа за руку, так начинаю терзать себя: чем я провинилась, что не нужна своим родителям, что им даже не интересно, какая я, они и не спрашивают обо мне. Ни у кого не хватало ума серьезно поговорить со мной, какая бы я ни была маленькая, сказать что-нибудь, успокоить; а дедушка, который, я думаю, охотно бы это сделал, тот молчал, боялся бабушки. К тому же меня столько водили в церковь и я там столько слышала о Марии, божьей матери, что в конце концов даже Иисусу Христу стала завидовать: у него была своя родная мать. Учиться я любила, но к школе никак не могла привыкнуть. Не было у меня ни религии, ни семьи настоящей – не семья, а одно название».
После смерти Сениора комнату его приспособили для каких-то других целей; Мелинда хотела было разобрать его вещи, но Мария Риккль не позволила ей этого: один бог знает, что мог хранить в своем комоде этот красавец мужчина, так плохо кончивший. Закрывшись в комнате, она сама просмотрела его бумаги; нашла ли она там что-то, никто никогда не узнал; все, что ей хотелось сохранить, она унесла к себе, остальное сожгла. Дочери в память об отце получили каждая прядь его волос: Мелинда носила их в медальоне, Илона – в молитвеннике, Маргит же заказала из них кольцо на палец; маленькой Ленке прядь срезать забыли, да у нее все равно не было ни медальона, ни вообще чего-либо такого, в чем она могла бы ее хранить, не было даже простой коробки с крышкой. Притом Ленке на какое-то время вновь стала трудным ребенком: сердчишко ее разбередил появившийся ненадолго отец, и Сениора ей не хватало, она никак не могла смириться с потерей. «Пусть теперь старик занимается ее воспитанием, ему все равно делать нечего», – сказала Мария Риккль. Мелинда напомнила было об ужасной лексике Богохульника, но купецкая дочь лишь отмахнулась: слышала его Ленке и раньше, ничего страшного. Скамеечку и табуретку перенесли в комнату к старику, но дело закончилось неудачей. Имре любил Ленке, однако терпением и лаской, столь ей необходимыми, не обладал; о том, чтобы проверять уроки и заниматься с нею, и речи быть не могло. Изредка он звал ее к себе и велел танцевать, а потом быстро прогонял. Мария Риккль некоторое время еще экспериментировала, надеясь, что Богохульник груб с ребенком только из-за тяжко нависшего над домом, над всеми его обитателями траура по Сениору; она приказала маленькой Ленке с этого времени самой приносить прадеду газеты, угождать ему, стараться, чтобы он подобрел к ней. Матушка послушно приносила старику политическую, общественную и экономическую газету «Дебрецен», пыталась, как ей было приказано, читать про Кальмана Тису,[92]92
Тиса, Кальман – с 1875 по 1890 г. премьер-министр Венгрии.
[Закрыть] но Имре орал: долой Кальмана Тису; тогда Ленке читала другое, о том, что у будапештского телефонного предприятия, о котором она понятия не имела, что это за штука, уже тысяча пятьдесят подписчиков, читала о румынском бунтовщике Доде Траяне из Караншебеша, о кончине верховного раввина Франции, об ограблении квартиры вдовы Меньхертне Ревицки по улице Баттяни и о клептоманке Эстер Тёмёри, о том, что наши гонведы возвращаются домой с тапиошюйских учений и что у Петера Бургера пропал желтый пес по имени Шайо, с медной пряжкой на шее. Богохульник не очень слушал ее; в последнее время он пристрастился было играть на флейте, как когда-то в молодости, но в один прекрасный день флейта ему надоела и он раздавил ее в своих могучих пальцах, с тех пор он снова только пел, и снова про сноху, которая, если б была шлюхой, не была бы такой бессердечной, – и крыл на чем свет стоит господа, иезуитов, всю святую церковь. Спустя некоторое время эксперименты прекратились; Ленке благодаря Сениору уже умела есть правильно, ей снова можно было накрывать за общим столом; ей сказали, чтобы слова и песни Богохульника она не принимала всерьез: когда человек очень стар, случается, он не понимает, что говорит.
Богохульник пережил Сениора на год; он часто звал к себе Ленке, но выдерживал ее лишь несколько минут; из комнаты его то и дело неслись рыдания: жизнь его, и без того невыносимая, с уходом сына потеряла всякий смысл, стала абсурдом, – где его Кальман, что вместе с Петефи двинулся из Мезёберени на поле боя, его сын-инженер, сын-офицер, сын-помещик, его единственная радость, его свет в окошке, его умный, красивый, образованный сын? Сениор был верующим и всерьез воспринимал свою принадлежность к католической церкви, он сам попросил viaticum[93]93
Последнее помазание у католиков.
[Закрыть] и получил его из рук аббата Маруха; Имре же умер, даже не приняв последнего напутствия, на смертном одре он возглашал здравицы Лайошу Кошуту и кричал: «Да здравствует революция, долой попов!» Не будь он свекром Марии Риккль, церковь отказалась бы его хоронить.