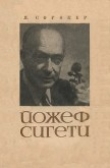Текст книги "Старомодная история"
Автор книги: Магда Сабо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц)
Марию Риккль, собственно говоря, ни капли не удивляет, что во второй половине 1888 года почтальон посещает дом на улице Кишмештер чаще, чем когда-либо с тех пор, как семья Яблонцаи туда вселилась; Кальман унижается, заискивает, взывает к небесам, письма пишутся от имени маленькой Ленке, Ленке и подписывает их, все до одного, зажатыми в руке отца пальцами. Маленькая Ленке жалуется, что очень хочет есть; маленькая Ленке пишет, что ей холодно; маленькая Ленке просит немножечко денежек на платье; маленькая Ленке умоляет дорогую бабушку спасти их, пока им всем не пришел конец. Купецкая дочь долго размышляет, прежде чем принять решение; мольбы маленькой Ленке ее не трогают, она знает руку и стиль Юниора, – но то, что сейчас появилась возможность снова взять в свои руки поводья, теперь уже навсегда… словом, тут стоит раскинуть мозгами. Если маленькая Ленке так упорно ее штурмует, стало быть, дела у Юниора совсем плохи, и он до того нуждается в точке опоры, в передышке, что наверняка готов сдаться на милость победителя вместе со своим злым гением, этой мерзкой Гачари. Едва ли они подняли бы такой переполох, если бы речь шла лишь о туфельках и лекарствах для Ленке; вопрос, видно, куда более серьезен, скорее всего – если учесть безответственность Юниора – касается чести. Когда в Дебрецен приходит заказное письмо Пала Татара, Мария Риккль тут же берет в долг у младшего брата, Гезы, – у нее самой нет столько наличных – и посылает в Пешт Ансельмова адвоката, чтоб выплатил долг этому наглому Татару и передал Юниору ее предложение. Адвокат назначает Юниору свидание на нейтральной территории, в кафе; здесь граф Гектор выслушивает, что решила относительно его судьбы Мария Риккль. Из двух предложений первое представляется Юниору, несмотря на все домашние сцены и ссоры, столь абсурдным, что он даже забывает быть высокопарным: когда возникает опасность, что он вынужден будет отказаться от Эммы, она снова становится ему необходимой. Нет, он не разведется с Эммой Гачари, мать не права, считая Эмму виновной в том, что они оказались в таком положении, он, только он несет ответственность за все, что случилось, и в какой-то мере сама Мария Риккль, которая никогда не доверяла ему много денег, боялась, что он их растратит – мудрено ль, что у Кальмана закружилась голова, когда в руках у него оказалось целое состояние. Что касается новой женитьбы на той, кого подберет ему мать, то для такой правоверной католички сама идея эта, право же, почти безнравственна: у него уже есть жена, и на эту тему он не желает больше разговаривать. Второе предложение Марии Риккль выглядит более приемлемым: чтобы соблюсти в чистоте имена Яблонцаи и Рикклей, она согласна предоставить в его распоряжение паллагское поместье. Сениор слишком болен для какой бы то ни было работы, в поместье все разворуют, если не будет хозяйского глаза. Вот и пускай Юниор переселяется с семьей в Паллаг и ведет там дела, чтобы и самому прожить, и матери обеспечить ту сумму, которую она получала до сих пор от арендатора.
В Пеште Юниора постоянно мучила ностальгия, городская жизнь доставляла ему удовольствие, пока он веселился в ночных заведениях, днем же у Кальмана, даже в те времена, когда он был еще богат, появлялось ощущение, что в людской толпе, среди домов ему не хватает воздуха, он скучал по деревьям, по цветам, по животным, радующимся степному приволью, даже по диким зверям, по вою степного волка, по удирающему зайцу, по высовывающейся неожиданно из кустов рыжей морде лисы, охотящейся на мышей. Юниор, который в городе всегда чувствует себя довольно скованно, только в степи, вообще в провинции по-настоящему дома, в своей стихии. Когда в 1911 году, в возрасте пятидесяти четырех лет, он заканчивает свою бестолковую, грустную жизнь, на похороны его без всякого приглашения или приказания приходят все паллагские крестьяне: патриархальный феодализм Юниора, легкость, с которой он умел и любил одаривать людей, любовь к земле, так сближавшая его с простыми хлеборобами, и сельскохозяйственная работа, за которую он часто и с большой охотой, хотя и не всегда с одинаковым успехом, брался, и вообще свойственное потомственным Яблонцаи обаяние, которое так отличало и Сениора, неспособность браниться, шуметь, заметив какое-нибудь упущение, из-за которого Мария Риккль подняла бы целое следствие, – все это сделало Юниора популярной фигурой в имении, в то время как на купецкую дочь крестьяне и смотреть не могли без отвращения. И Сениора, и Юниора простые люди любили.
У Муки слюнки потекли от мысли, что он снова окажется в Паллаге, что маленькая Ленке, а затем ожидающий появления на свет ребенок смогут вырасти там, под старой липой, в тени которой прошло и его детство. В сборнике его новелл, вышедшем в 1904 году, немало слов сказано о Паллаге, об этом потерянном, вечно оплакиваемом, вечно желанном рае, где под широким небосводом прошло его безоблачное детство, не знающее страха и забот. «…Вижу батюшку своего выходящим из столовой. Слышу его голос, ласково зовущий нас по именам. Словно цыплята на призывное квохтанье наседки, мчались мы на зов лучшего из отцов. Сгрудившись вокруг этого милого, бесконечно доброго человека и желая показать, как мы привязаны к нему, мы брали его за руки, цеплялись за колени, кружились вокруг него, с любовью заглядывая в улыбчивые его глаза. После захода солнца мы возвращались домой усталые, у сестренок веки смежались сами собой, против их воли. Как славно спалось после утомительного дня! Каким сиянием зажигал счастливые детские лица первый луч солнца, прокравшийся в окно сквозь щели ставен!
Двадцать лет минуло с той поры. Липа, на которую когда-то я повесил первые свои качели, стоит на прежнем месте, став еще толще, еще раскидистее, еще старше; зеленые могучие ветви ее с той же любовью и преданностью, что и раньше, склоняются к одряхлевшему дому. Первые буквы имен, вырезанные на ее стволе, заплыли, слились с толстой корой, став неясными, как наши воспоминания. Со стесненным сердцем стою я под ней, сам в синяках и ссадинах от ударов судьбы, от неудавшейся жизни, ищу в окнах головки щебетуний-сестренок – и не нахожу, их нет там, они разлетелись по свету. Нет и соловьиного гнезда вверху, меж ветвей. Даже на месте сирени топорщится колючая акация. Я пытаюсь услышать укоризненный голос матери – и не слышу, ищу доброго своего отца – и не вижу нигде. Он давно покоится в холодной земле, где людям, может быть, лучше, чем здесь. И, припав к шершавому стволу старого друга, я обнимаю его и горько-горько плачу».
Мария Риккль, конечно, не была бы Марией Риккль, если бы не выдвинула перед сыном дополнительные условия: адвокат сообщает, что мать не может быть спокойна за судьбу имения, если Юниор будет распоряжаться им по своему усмотрению, и потому ставит над сыном дядю Гезу, с ним Кальман должен обсуждать все свои хозяйственные планы, ему должен еженедельно докладывать о состоянии дел. Геза будет осуществлять за Юниором постоянный надзор, ему же Кальман должен вернуть по частям взятую в долг сумму, так как именно благодаря дяде получил свои деньги Татар. Униженный Юниор чувствует, что радость его стремительно тает; теперь, когда он вот-вот станет отцом двух детей, снова быть под опекой, причем не под ласковой опекой Сениора, а под мелочным контролем дяди Гезы, которого Юниор с малых лет терпеть не может! Однако адвокат еще не кончил. Мария Риккль просила передать сыну: она по-прежнему уверена, что брак его – ошибка и если сейчас он его и не намерен расторгнуть, то рано или поздно к этому придет; а потому пусть Кальман имеет в виду, что она не желает общаться с невесткой и категорически возражает, чтобы он вводил жену в дебреценское общество, если же он ослушается, то может собирать вещи и убираться из Паллага. Эмму Гачари она не желает видеть и на улице Кишмештер; кстати, пусть Кальман не питает излишних иллюзий: сам он тоже будет посещать родительский дом, лишь если за ним пошлют или пригласят иным образом. Юниор вскакивает, опрокинув стул, и убегает вне себя от возмущения, адвокат же везет домой расписку Татара и сообщает, что миссия его, к сожалению, не увенчалась успехом. Купецкая дочь, однако, ничуть не огорчена. Юниор убежал из кафе, не успев даже получить ту небольшую сумму, которая предназначалась ему как временное пособие; Мария Риккль с бесстрастным видом опирается на свою любимую вышитую подушечку на подоконнике, рассматривает прохожих, идущих по улице Кишмештер, и ждет.
Маленькая Ленке вскоре снова дает о себе знать; самое первое письмо, по всей вероятности, писалось не дома, не на глазах у Эммы, а, может быть, на почте. Маленькая Ленке-Кальман на этот раз просит, пусть бабушка попробует победить в себе гнев и найти для них уголок в своем сердце; а еще пусть бабушка не требует, чтобы они ее не навещали и жили в Паллаге изгнанниками, они хорошие, и мамочка тоже хорошая, и все они очень-очень любят милую бабушку. Поскольку ответа не последовало, «маленькая Ленке» вновь берется за перо; теперь про Паллаг в письме нет ни слова: Ленке сообщает, что она больна, ей очень плохо, в квартире нетоплено, есть почти нечего, пусть бабушка поможет, иначе она уйдет вслед за братиком и сестренкой. День, когда приходит это письмо, надолго останется в памяти обитателей дома на улице Кишмештер: на Марию Риккль в этот день страшно смотреть. Все притихли, притаились, чтоб не попасться хозяйке под горячую руку; и тетя Клари, и Мелинда, и Илона, и Аннуш, ухаживающая за паралитиками, и горничная Агнеш; даже прислуга догадывается, почему несется из комнаты Сениора пронзительная немецкая ругань, Мелинда же, которая, как и мать, двуязычна, понимает каждое слово. Купецкая дочь снова выкладывает беспомощному Сениору все, что она думает о нем и о его сыне, и снова клянет тот день, когда впервые услышала само это имя, Яблонцаи, и швыряет мужу на колени письмо «маленькой Ленке»: видывал ли свет более изуверскую форму шантажа, более подлое, бесстыдное вымогательство! Ведь она, Мария Риккль, стояла возле Эрнёке и маленькой Эммы, они задыхались у нее на глазах, – так где же мерило, где средство, с помощью которого удалось бы определить, где тут правда, а где ложь; ведь если написано, что Ленке – которая, Мария Риккль это прекрасно знает, постоянно недоедает, склонна к простуде, живет в сырой, холодной комнате, – что Ленке серьезно больна и лежит при смерти, то это столь же вероятно, как и то, что Юниор бессовестно врет, правдивость в нем спокойно уживается со лживостью, – но вдруг Ленке действительно умрет и ей, Марии Риккль, до конца дней придется нести на себе страшное бремя ответственности за это? Так вот и будут идти месяцы, годы, и к ней всегда будет протянута рука за милостыней во имя маленькой Ленке, ведь под тем предлогом, что живущий где-то вдали, по существу, и не виденный ею ребенок страдает, нуждается в каком-то особенном лечении, по той или иной причине не может жить в Паллаге, так как это ему вредно, – под такими предлогами великолепно спевшийся дуэт, Юниор – Гачари, всегда сможет ее шантажировать. Нет, так невозможно жить! Мелинда, подслушивающая в коридоре, утверждала, что Сениор ни слова не сказал в ответ, а когда жена умчалась от него и Мелинда смогла войти в комнату, он сидел белый, как стена, постаревший, рука его, когда он потянулся за книгой, тряслась. Мария Риккль утихла, даже повеселела: ей пришел в голову вариант, позволяющий не только унять неспокойную совесть, но и помочь маленькой Ленке в беде, в то же время получая в руки козырь, который позже, бог даст, поможет-таки подтолкнуть молодых к разводу. Она написала письмо, тут же заставила Мелинду отнести его на почту и заявила домашним: ею принято решение забрать маленькую Ленке у Кальмана, одежда в доме найдется, можно будет подобрать что-нибудь из старых платьев Мелинды, что касается еды, то там, где питается столько взрослых, да собак, да кошек, одного ребенка всегда прокормят. У Кальмана свалится с плеч такой груз, что он сможет вздохнуть свободно и без помех начать все сначала, а эта девка, Гачари, если захочет когда-нибудь получить дочь обратно, пусть отказывается от Кальмана и дает согласие на развод.
Тетя Пирошка сама видела в бумагах, оставшихся после Юниора, письмо, решившее судьбу Ленке. Мария Риккль писала сыну: она сама с сожалением узнала, что на него свалилась новая беда, – уход за ребенком, особенно после болезни, в условиях, в которых они живут, – задача просто непосильная, она прекрасно это понимает и потому не только подтверждает свое предложение насчет Паллага, но сверх того еще согласна взять к себе Ленке. О том, надолго ли она берет Ленке, в письме речи нет, но вторая, в мягкой обложке, тетрадь стихов Юниора свидетельствует, что Кальман Яблонцаи был хоть и наивен, но не глуп, он понял, что задумала мать, и, пока это было в его силах, пытался отразить опасность. Письмо пришло на квартиру, утаить его от Эммы, которая на последнем месяце стала капризной и плаксивой, было невозможно, Юниор попал в сложное положение. Эмма, естественно, не знала, что стоит за паллагским вариантом, и, с тех пор как Кальман сообщил ей, что не принял предложений, переданных матерью с адвокатом, пилила его не переставая. И вдруг оказалось, что дело поправимо; Эмма готова прыгать от радости, готова, впервые в жизни, изменить свое мнение о свекрови, которая, как видно, способна-таки понять, что без денег, без помощи, с непоседливым, пристающим с бесконечными вопросами, постоянно голодным четырехлетним ребенком на шее Эмма не может спокойно рожать. Если мать Юниора хоть ненадолго возьмет на себя заботы о Ленке и не станет принуждать их жить с нею в одном доме, то, глядишь, постепенно их отношения придут в норму. Кальман рассказывал Мелинде, что чуть умом не тронулся, пока Эмма, счастливая, раскрасневшаяся, суетилась вокруг, объясняла Ленке, что скоро она поедет в гости к бабушке, там есть и собачка, и киска, и еще много-много всего, чего здесь у них нет, и большой сад, потому что бабушка любит свою внученьку, и искала среди оскудевших пожитков, что дать дочери с собой, и сама принесла Юниору перо и бумагу, чтобы он написал матери. Между супругами происходит еще одна ужасная сцена, Юниор, не написав письма, убегает и бродит в отчаянии по городу; вместо письма 29 января 1889 года появляется такое стихотворение:
Написала мне письмо мать родная:
дескать, внучка ей тоже не чужая,
так и быть, заберу на воспитанье,
а тебе, мол, отец, до свиданья.
Свет не видывал такого коварства:
да сулите мне за дочь хоть полцарства,
обещайте мне горы златые,
не отдам ее вам, люди злые.
Без нее мне ни жизнь, а мученье,
душу мне надорвет огорченье,
знайте ж: сердце пока не остынет,
дочь никто у меня не отымет.
Юниор вступил в самый критический период своей молодой – ему все еще нет и двадцати девяти – жизни. Эмме открыть истинное положение вещей он не может, а та не дает ему покоя бесконечными попреками и жалобами – Юниор один знает, на что, собственно говоря, толкает его жена. Сказать ей всю правду, объяснить, почему он так упорно сопротивляется предложениям матери, значило бы отнять у бедняжки последнюю надежду: Юниор чувствует, что их хотят разлучить, и потому ни за что не хочет отдавать дочь. Непоправимо трагичным обстоятельством в жизни моей матушки стало то, что она ни разу не проявляла интереса к литературным опытам отца; она так и умерла, считая, что Кальману Яблонцаи просто надоело с ней возиться, что он, должно быть, не любил ее совсем, потому и постарался от нее избавиться. Когда обнаружилось литературное наследие Юниора, едва ли не самыми драматичными оказались в нем те стихи, где отразилась отчаянная борьба с матерью, борьба, закончившаяся полным его поражением. Не будучи в состоянии накормить своего ребенка, обеспечить Эмму самым необходимым, он отдал-таки Ленке и принял все условия, поставленные матерью. Стихи, родившиеся в это время, – не сладкие вздохи любви; Юниор впервые в жизни всерьез думает о самоубийстве; он писал о нем и прежде – в стихах, исполненных позерства и жалости к самому себе. Но теперь он действительно рад был бы умереть: в доме ни полена дров, ни ложки жира, жизнь его, с вечно голодной, терзаемой кашлем Ленке, с вот-вот готовым появиться на свет вторым ребенком, с полуобезумевшей от лишений Эммой, превращается в такой абсурд, что почта наконец приносит на улицу Кишмештер письмо: они поедут в Паллаг, как хочет мать, Ленке может отправиться хоть сию минуту, а они с Эммой – немного позже. По словам Мелинды, ни в одном из жизненно важных для семьи Юниора писем не было упоминания о скором появлении нового внука Яблонцаи, и это позже, когда все выяснилось, не удивило сестер Юниора: для Марии Риккль и Ленке-то было чересчур много, она едва ли бы была в восторге, узнав, что супружеская жизнь Юниора и Эммы продолжается, и продолжается плодотворно.
Эмма охотнее всего и сама бы сию минуту отправилась в дорогу, но Юниор отговаривает жену: в ее положении это безумие – и просит у матери небольшое вспомоществование на самые насущные нужды и на дорогу. Мария Риккль не посылает деньги по почте: она уже не доверяет сыну – с него станет проиграть их в карты или отдать Эмме на платье; поскольку народ этот крайне ненадежный, то за ними кто-нибудь должен поехать, пусть-ка поедет Дюла Сиксаи, бывший Хенрик Херцег, бывший раз веселый член «Тройственного Союза», ставший примерным зятем и отцом семейства. Пусть Дюла и доставит их сюда, что это за причуды – посылать одну Ленке, ехать – так уж ехать всем! Сиксаи пусть возьмет в помощь Мелинду, вдвоем они вытащат Юниора с Эммой из этого чертова города.
Хенрик Херцег, он же Дюла Сиксаи, с довольно мрачным видом бредет по неприветливым улицам будапештской окраины, поднимается по темной, жутковатой лестнице на второй этаж, в квартиру Юниора; он искренне жалеет бывшего приятеля, графа Гектора, он и себя чувствует виноватым в том, что Юниор скатился так низко; все-таки теща его явно перестаралась, изображая олимпийский гнев и преследуя эту очаровательную женщину, Эмму Гачари; но и ему, конечно, не следовало бы бросать Кальмана в беде и соглашаться с доводами купецкой дочери насчет того, что, если он будет покрывать Кальмана, шурин так и останется на всю жизнь дармоедом, сидящим на шее у других, никогда не научится трудиться, никогда не станет серьезным человеком. Войдя к Яблонцаи, Сиксаи и Мелинда застывают в изумлении – фигура Эммы не оставляет сомнений: через две-три недели она снова станет матерью. «Дюла принялся грызть серебряный набалдашник на трости, – вспоминала Мелинда, – а я представляла, что скажет мама, когда выяснится, что напрасно мы отняли Ленке, скоро появится следующий ребенок и опять можно будет шантажировать семью; момент был поистине драматический. Ленке же подала всем лапку, старательно сделала книксен – чулки на ней были в дырах – и с восторгом слушала, как мы ей объясняем, что скоро мы всё вместе поедем на поезде; было у нее какое-то красное пальтишко и белый меховой капюшон, их и надели на нее; кожа у девочки на лице была почти такой же белой, как тот мех. Мы уже не спрашивали, почему не едут Кальман с женой: и так все было ясно; Дюла дал твоему дедушке денег, и мы отправились. Все вещи твоей матушки поместились в одной вышитой сумке, Эмма прямо выталкивала нас обеими руками, она ведь еще не знала, что больше ей Ленке не отдадут. Кальман плакал, Дюла же вдруг стал браниться последними словами, и никто ему ничего не сказал, только Эмма смотрела большими глазами и не понимала, что это на него нашло. Ленке спускалась по лестнице торжественная, встретился нам какой-то сосед зверского вида, она и ему похвасталась, мол, а ее к бабушке везут; испугалась она, только когда ее усадили в экипаж, а Эмма с Кальманом остались; она к ним ручонки тянет, а мы погоняем, чтоб скорей уехать. В поезде она устроила такой концерт, что пришлось мне ее отшлепать; повсхлипывала она, потом заснула. Не бойся, я ее чуть-чуть пошлепала. Ты бы видела, какую оплеуху схлопотал от мамы несчастный Дюла – хотя он-то тут совсем был ни при чем, он только сказал то, что видел, – словом, когда он собрался с духом и выдавил: мол, Кальман с Эммой приехать не могли, потому что Эмма, у него такое впечатление, через неделю-другую родит, – ну, тут мама ему сгоряча и вмазала. А Ленке стояла посреди комнаты и уже не плакала, только смотрела вокруг, ничего не понимая, со следами слез на щеках, под носом, на вспухших губах. Потом мама затихла и села, словно ее уже ноги не держали. «Против судьбы своей не пойдешь», – сказала она. Не мне, не Дюле. Самой себе».
Спустя двадцать пять лет эта фраза прозвучит еще раз. Ленке Яблонцаи произнесет ее на Печатной улице, обращаясь к Белле Барток, когда у Белы Майтени вновь обострится чахотка и Ленке поймет, что сейчас она не может подать на развод, что ей суждено оставаться с ним, может быть, до последних его дней. «Против судьбы своей не пойдешь».