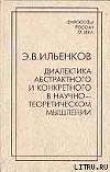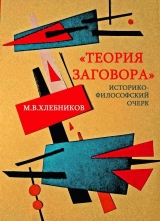
Текст книги "«Теория заговора». Историко-философский очерк"
Автор книги: М. Хлебников
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
Автор не утомляет читателя долгим ожиданием и предлагает свой ответ. Подобной религиозной группой являются иудеи. Жёсткое следование идентичности социальной и религиозной приводит к тому, что евреи, подчинившиеся талмудической моральной системе, достаточно быстро становятся этносом-дегенератом. Этническая замкнутость приводит к росту психических заболеваний, физических и сексуальных отклонений. Отказавшись от естественного регулирования, что способствует как нормальному выживанию, так и развитию этноса, и опираясь на доктрину богоизбранности, иудазим признаёт ценность каждого еврея, независимо от его морально-психической природы. Климов цитирует выдержки из книги «Еврейское зерцало» крещёного еврея А. Бриманна, представляющей собой избранные переводы «Шулхан Аруха» – кодифицированного варианта Торы и Талмуда. «Когда у еврея есть дети, хотя бы незаконнорожденные или тупоумные, тогда он исполнил свою обязанность размножать род человеческий <…> дети гоев не могут быть и сравниваемы с незаконнорожденными или с идиотами еврейского происхождения» {562} . Нормальная социальная среда отторгает подобные девиации, поэтому евреи вынуждены мимикрировать, внешне адаптироваться. С другой стороны, дегенеративная природа евреев заставляет их прибегать к конспирологическим методам воздействия на общество. Благодаря этому находится простое и «разумное» объяснение либерализации современного общества не только в политическом аспекте, но и в области сексуальной морали. Будучи гомосексуалистами вследствие инцестуальнои природы своего социума, евреи всячески поощряют отступление от здоровой нравственной природы. Пропаганда гомосексуализма, лесбиянства и прочих сексуальных отклонений становится мощным инструментарием разложения общества. И здесь большую роль играют объединения интеллектуалов, по своей природе склонных к этическим и сексуальным перверсиям. Автор обращает внимание на распространение «тайных обществ» в русской интеллектуальной среде предреволюционной эпохи. Возникает мифическое тайное общество «Голубая звезда», членами которой, в частности, объявляются В. С. Соловьёв и Н. А. Бердяев. Участники общества были объединены двумя целями: подрывом традиционного православия посредством так называемого «богоискательства» и реализацией своих извращённых сексуальных наклонностей. Эти цели нередко совпадали. «А в области религии, в поисках нового бога, эти богоискатели экспериментировали с тем, что когда-то называлось чёрной мессой. Они устраивали подобие алтаря. Но вместо распятия распинали в алтаре голую женщину, обязательно девственницу, которая символизировала Деву Марию. Потом богоискатели становились в очередь и прикладывались к модернистическому распятию – взасос целовали и лизали голую деву в святая святых» {563} . К оральному сексу добавлялись такие малоприятные детали, как уринофилия и копрофилия. Естественно, что «Голубая звезда» с её религиозно-сексуальными экспериментами была не единичным явлением. Политической составляющей подобного инспирированного и поощряемого евреями движения выступает масонство. В отличие от поборников мистико-эротического «обновления», «вольные каменщики» занимались практическими вопросами реализации деструктивной программы – подготовкой к свержению самодержавия в России. Еврейско-масонское доминирование, начавшись в формах относительно «безобидных» сексуальных новаций, логически завершается полным подчинением современного мира, хорошо подготовленного к подобному закономерному финалу. И здесь России отводится важное, но отнюдь не ключевое положение. Речь идёт о тотальном поглощении всего человечества дегенератами, сосредоточившими в своих руках колоссальную власть. Стремительное распространение ущербных сынов Израилевых делает этот процесс необратимым. «Большинство членов правительства США являются масонами. А большинство этих масонов так или иначе связано с евреями: или смешанные браки с евреями, или продукты этих браков еврейская помесь всех сортов и оттенков, ну и немножко “настоящих” евреев. Вот вам и ключи к власти» {564} . Сумев навязать миру новую сексуальную мораль, по сути, собственную дегенеративную природу, евреи запускают процесс цивилизационного распада, который уже, скорее всего, необратим для западного мира.
Определённый парадокс заключается в том, что книги Климова выходят в свет в период заката «первой волны» русской эмиграции, для которой подобные сексуально-конспирологические изыски представляются явно избыточными. Рождающаяся «третья волна» выходцев из СССР практически полностью состояла из «настоящих евреев» или «еврейской помеси». Для них знакомство с сочинениями бывшего советского офицера проходило по разряду «культурного трэша» – неизбежного компонента «свободного мира» и уж никак не являлось откровением. Симптоматично, что одно из немногих интервью у Климова берёт тогдашний корреспондент «Нового русского слова» Э. Лимонов. Позже он напишет рассказ «Первое интервью», в котором конспиролог представлен явно в карикатурном виде, страдающим от мании преследования и нереализованных надежд. Для будущего автора скандального «порнографического» и «гомосексуального» романа «Это я – Эдичка» – Климов диковинный, но малоинтересный персонаж, застрявший в причудливом мире фантазий, мало соотносящихся с тем, что происходит в реальности.
Также показательно отношение к Климову русских конспирологов «первой волны» эмиграции, которые должны бы, в отличие от молодого «испорченного» поколения, приветствовать продолжателя общего дела. Но и они не принимают климовскую концепцию всемирного заговора «педерастов и вырожденцев». Об этом не без горечи рассказывает сам автор в последней части своего шестикнижия – «Божий народ». Определённым ориентиром для начинающего конспиролога в начале его карьеры послужили работы А. И. Дикого: «Самым известным исследователем еврейского вопроса в русской эмиграции был некто Андрей Дикий, который написал очень хорошую книгу “Евреи в России и СССР”. Эта книга вышла в Нью-Йорке в 1967 году. Я её внимательно проштудировал и считаю очень интересной и очень ценной книгой» {565} . Но внимательно ознакомившись с биографией автора, Климов обнаруживает ряд настораживающих моментов. Во-первых, настоящая фамилия Дикого – Занкевич, что наводит на весьма интересные этимологические выводы. Во-вторых, Климов открывает ещё более тревожащее конспиролога-натуралиста обстоятельство: «У него, оказывается, был младший брат – сухоручка. А неумолимый закон природы гласит – если у одного брата или сестры есть дегенеративные признаки, это, как правило, распространяется и на всех братьев и сестёр, т. к. это штука – генетическая. В течение нескольких поколений погибает весь род, ибо корнем всему этому является вырождение» {566} . Далее следуют жирные штрихи, ещё больше затемняющие фигуру Дикого. Участие последнего в работе НТС автор толкует как однозначную связь с масонством. Бриллиантом сверкает женитьба Дикого на караимке, которая трактуется или как признание неполноценности, или как косвенное признание собственного еврейского происхождение. Не отрицает Климов и возможного синтеза этих двух «порочных» составляющих биографии и личности Дикого.
Впрочем, далее в тексте следует указание на причину подлинного глубоко «научного» интереса Климова к своему предшественнику. «В 1971 году вышло первое издание моей книги “Князь мира сего”. Я понимал, что даже просто затронув еврейскую тему, я тут же попаду в разряд антисемитов. И вот я, так сказать, новоиспечённый молодой антисемит, а тут рядом – маститый, всем известный антисемит Дикий – ну, я и решил позвонить ему по телефону и познакомиться, представиться патриарху русских эмигрантов-антисемитов. Я позвонил, представился, спросил – не читал ли он моей книги? Он говорит, что трижды прочёл её и считает, что это всё сплошная чушь, абсолютное идиотство. И говорит это так взволнованно и даже с некоторым хамством… В общем, союза двух антисемитов не получилось» {567} . Климов многозначительно добавляет, что смерть Дикого было тяжёлой и он страшно кричал. Видимо, «патриарх русских эмигрантов-антисемитов» на смертном одре осознал свою вину за «некоторое хамство», а может быть, и за неправильную женитьбу. Впрочем, нужно признать, что Климов прекрасно понимает различие между собственной конспирологической концепцией и взглядами старой эмигрантской школы конспирологии: «Дикий, в своей очень интересной книге, описывает факты политической жизни, но не ищет корней проблемы. Он подходит к этой проблеме только с исторической точки зрения. Я же – подхожу с биологической. Я ищу эти самые корни, биологические и психологические, феномена непомерного участия евреев в “русской” революции» {568} . Таким образом, реанимация первоначальной модели «теории заговора» – натуралистической, самим автором подаётся как шаг вперёд, как возможность «онаучить» аналитический уклон «старой школы».
В содержательном аспекте модель «теории заговора», предложенная Климовым, явно свидетельствует об упадке, регрессе русской конспирологии. Настойчивое сведение социальных катаклизмов к извращённой сексуальной природе его творцов, в сущности, воспроизводит натуралистический вариант «теории заговора», актуальный и интересный для XIX века, но не для современного общественного сознания. Наивный фрейдизм автора, подкреплённый общетеоретическими ссылками на такие «свежие» работы, как «Вырождение» М. Нордау, «Пол и характер» О. Вейнингера, «Гениальность и помешательство» Ч. Ломброзо, рождает неизбежное ощущение провинциальности и глубокой вторичности всех построений Климова. Некоторый парадокс заключается при этом в том, что обозначенные научные авторитеты относятся как раз к этносу, дегенеративную природу которого автор столь старательно разоблачает.
ГЛАВА 8.
«Теория заговора» в контексте развития массовой и элитарной культуры
Периоды подъёма и спада интереса к конспирологии на современном этапе мы можем проследить по присутствию конспирологических мотивов в массовом искусстве, прежде всего, в литературе. Специфика массовой литературы заключается в большей значимости фигуры читателя, в более устойчивой связи между текстом и субъектом, по сравнению с работами, относящимися к «высокой классике». «Внимание к произведениям “второго ряда” не только расширяет культурный горизонт, но и радикально меняет оптику, ведь разнообразие массовой культуры – это разнообразие типов социальности» {569} . Именно в литературе «теория заговора» находит своё отражение как «художественное тайноведение, одно из наглядных воплощений криптоисторического дискурса» {570} . Приступая к рассмотрению влияния конспирологии на литературу, следует оговорить методологическое обоснование подобного анализа. К сожалению, методологические наработки в этой области весьма скудны. Отмечают данное состояние вещей и исследователи, обращающиеся непосредственно к проблемам конспирологических художественных текстов: «Попытка прямолинейного разделения и различения образцов высокой литературы и популярных романов, попытка типологизации или иерархизации онтологически различных эстетических продуктов в одной плоскости – основная ошибка исследователей и преграда на пути к адекватному подходу в изучении массовой литературы» {571} . Для адекватного описания особенностей конспирологического романа отечественный исследователь предлагает обратиться к теоретическим наработкам американского литературоведа Дж. Г. Кавелти, содержащихся в его книге «Изучение литературных формул». Кавелти предлагает «формульный» подход к изучению генезиса, содержания и структурных элементов массовой литературы. Под «формулой» понимается структура повествовательных, образных, сюжетных конвенций, присутствующих в достаточно большом количестве произведений. Оперирование «формульным» методом в идеале должно решить две важнейшие проблемы.
Во-первых, подобные структуры, наполненные конкретным содержанием, вступают во взаимодействие с архетипами, приобретая тем самым устойчивость и вызывая ожидаемый отклик со стороны читательской аудитории. «Посредством литературных формул специфические культурные темы, стереотипы и символы соединяются с более общими повествовательными архетипами. Процесс возникновения, изменения и смены формул – вид культурной эволюции с “выживанием” в результате производимого аудиторией отбора» {572} . Тем самым решается вопрос об истоках популярности того или иного литературного жанра, конкретного писателя или его отдельного произведения.
Во-вторых, использование литературных формул позволяет нам проследить процесс жанровой и творческой эволюции в заданном социокультурном пространстве. Следствием этого выступает возможность дешифрации символического содержания тех образов, к которым потерян своего рода код. Например, в американской культуре конца позапрошлого века ирландец олицетворял в себе такое качество, как вспыльчивость. Понять это можно лишь обратившись к соответствующему историческому периоду. Именно тогда массовая эмиграция в Америку ирландцев породила представление о них как представителях низших социальных слоев, моральное устои которых противоположны «кодексу джентльмена». В дальнейшем маркирование вспыльчивости не только находит новую объектную форму, но по-новому соотносится с правилами социального этикета. Таким образом, следуя методологическим принципам «литературных формул», мы можем соотносить динамику социально-политических процессов с трансформационными процессами в массовой литературе. «Формулы помогают с помощью традиционных конструктов воображения усвоить изменения в ценностях. Они облегчают переход от старых к новым формам выражения и тем самым способствуют культурной преемственности» {573} .
Но у «формульного подхода» есть ряд существенных недостатков. К ним относятся следующие моменты. Сам автор ограничил поле своего исследования анализом американского «крутого детектива», что значительно снижает его эвристический потенциал. По сравнению с конспирологическим романом, «крутой детектив» в его американском варианте содержательно и стилистически одномерен. Собственно, одномерность и позволяет применять к этим текстам формульный подход. Динамизм самих «формул» имеет относительный характер, так как в итоге прочно закрепляется в новом содержательном пространстве. Явную ущербность концепции Кавелти осознаёт и отечественный автор, сначала отмечая её «некоторую незаконченность», а потом делая существенную оговорку: «Выявленные Кавелти модели можно отнести, скорее, к пространственной основе детективного жанра, чем к временной. Все элементы детективной формулы так или иначе выполняют определённые функции на определённом отрезке того временного вектора (от убийства до разгадки), который задаётся Ц. Тодоровым и другими исследователями» {574} . Говоря иначе, время в детективном романе служит лишь хронометрацией действий сыщика и лишено иных функций. Сама фигура сыщика в большинстве детективов атемпоральна, он действует в некоторой «временной капсуле». Для конспирологического же романа время – важнейший элемент не только повествовательной организации текста. Его герой, пребывая изначально в локально-субъективном измерении хроноса, вследствие конспирологической инициации совершает прорыв к подлинному времени, в границах которого и содержится подлинная история. Уже это не позволяет совмещать детективные и конспирологические тексты [28]28
Отметим ещё одну важную деталь, не дающую возможность отождествить детективные и конспирологические художественные тексты. Если первые допуска ют жанровую полифонию – «детективный роман», «детективная повесть», «детективный рассказ» и даже «детективная пьеса», то практически единственной формой выражения конспирологического текста является «конспирологический роман». Не в последнюю очередь это связано именно с особенностями его временной природы. Поэтому использование в представленной работе определения «конспирологический роман» имеет осознанную, рефлексивную природу.
[Закрыть]. К сожалению, Т. Амирян, указав на подобную особенность детективного жанра, далее даёт несколько неожиданное определение конспирологического романа: «Конспирологический детектив является поджанром детективной литературы, соприкасающимся не просто с проблемой поисков “убийцы”, раскрытия преступной тайны, но и с попыткой выявления более глобальных основ мироздания, культуры, истории» {575} . Естественно, что следуя в рамках заданного определения, автор в последующем неизбежно укладывает конспирологический роман в «прокрустово ложе» детективного жанра, не замечая противоречий со своими исходными посылками. Как мы видим, даже современные специализированные исследования далеки от создания объективного методологического и содержательного аппарата, способного адекватно раскрыть специфику конспирологического романа.
Подобная методологическая проблема приводит к тому, что объектами анализа «конспирологических художественных текстов» неожиданно становятся произведения весьма далёкие, на первый взгляд, от конспирологической тематики. Исследовательская «ловкость» или намеренный релятивизм авторского подхода позволяют «увидеть» черты конспирологии порой в классических текстах, имеющих солидный багаж научных устоявшихся толкований. Ярким примером тому выступают литературоведческие работы уже знакомого нам М. Н. Золотоносова. В качестве предмета своего анализа он выбирает роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Анализ конспирологического аспекта романа начинается со следующей ключевой посылки: «Вся свита во главе с Велиаром Вельяровичем Воландом представляла хорошо известный в литературе XIX – начала XX века (как русской, так и зарубежной) мировой еврейский заговор» {576} . Приведённое «сильное утверждение» базируется на нескольких положениях дискуссионного, по крайней мере, характера. Во-первых, вводится понятие «субкультура русского антисемитизма», раскрываемое с помощью конспирологического инструментария: «Психологической базой антисемитизма является юдофобия (страх перед евреями), тяга к тайнам и тайным организациям» {577} . Во-вторых, постулируется кодовый характер обозначенной субкультуры, способность к знаковой шифрации объектов, адекватное восприятие которых доступно «своим». Использование тех или иных образов, художественных характеристик позволяет посвященным в субкультуру разобрать изначальный замысел, увидеть явное через мнимо-внешнее.
Свой вариант дешифрации романа Булгакова предлагает и Золотоносов, располагая «вескими доказательствами» принадлежности русского писателя к названной субкультуре. Следует отметить, что исследователь начинает «сеанс разоблачения» с указания на Киев -родину писателя, как на место с «атмосферой особенного концентрированного характера» русского антисемитизма. Исходя из причудливой авторской логики, писателю приписывается знакомство с «Протоколами сионских мудрецов» именно потому, что он жил в Киеве. После твёрдо установленного факта проживания Булгакова в Киеве следует обещанное раскодирование текста романа. Но тут возникает небольшая проблема содержательного свойства – отсутствие в романе именно конспирологического содержания. Исследователь ссылается на то, что конспирологические черты в наибольшей мере присутствуют в «первоначальном булгаковском замысле». При этом «сведение некоторых особенностей романа в систему позволяет с определённой вероятностью говорить как о протосхеме, так и о круге булгаковского чтения, который он пожелал в романе увековечить» {578} .
Автор усматривает в романе отсылки к масонской проблематике, раскрывая в имени героя – Мастера – явный масонский след. Выстраивается схема иерархии в масонской ложе героев романа. Иван Бездомный – ученик, Маргарита – подмастерье, Мастер – Мастер. Приведённая иерархия определяется как «символическое масонство». Кота Бегемота Золотоносов помещает в систему шотландского масонства, отведя ему там место illuminatus major – шоландского ученика. Совершенно неожиданно автор переходит к ордену иллюминатов, перекраивая безо всяких объяснений созданную им же масонскую генеалогию героев романа: «Концепция же “мирового еврейского заговора”, наложенная на воспроизведение в системе персонажей иерархических отношений ордена иллюминатов, позволяет с достаточной уверенностью говорить о том, что это и есть из тех случаев, когда субкультура русского антисемитизма выступает в качестве фильтра» {579} . Здесь можно сказать лишь одно – что и требовалось доказать, несмотря на логику, историю, здравый смысл и сам роман.
Другое доказательство строится на сюжетной линии романа, определяемой темой денег. «Волшебные деньги, которые возникают во время сеанса в Варьете, связаны с популярной в субкультуре темой власти евреев (и Антихриста) над миром, вследствие концентрации в их руках значительных капиталов, золота» {580} . На этом, собственно, исчерпывается анализ романа. Дальнейшая аргументация строится на том, что Булгаков «возможно», «вероятно», «нельзя исключать» был знаком с теми или иными антисемитскими текстами русской культуры и политики начала XX века, которые оказали воздействие на сознание писателя. Автор «исследования» подробно пересказывает содержание данных текстов, не утруждая себя объяснением – почему это вообще необходимо в рамках заявленной проблематики. Осознавая зыбкость и некоторую анекдотичность своих выводов о конспирологической протосхеме романа, Золотоносов всё же косвенно признаёт их «относительность»: «Отсылки к субкультуре “затерялись” в сложном романном построении; экзистенциальная постановка основных проблем переосмыслила их; на первый план вышли “вечные темы”, лишённые национальной специфики» {581} . Можно признать, что книга победила своего «интерпретатора», конспирологические построения повисли в воздухе, а затем и растворились, подобно инфернальным героям романа Булгакова.
Следует признать за Золотоносовым некоторое упорство. Потерпев поражение как исследователь конкретного произведения, он осознал его истоки – отсутствие методологического базиса, позволяющего «правильно определять» конспирологическую природу произведения, без обращения к таким частностям и мелочам, как анализ самого текста. И теория была создана в работе с характерным названием «Русоблудие. Заметки о русском “ОНО”. Антисемитизм как психоаналитический феномен». Используя фрейдистский инструментарий, хорошо знакомый нам по книге о «русском маркизе де Саде» – К. С. Мережсковском, автор предлагает стройную и непротиворечивую концепцию, априорно определяющую наличие конспирологической составляющей в русской культуре. «Роль еврея – при любом этическом и ценностном отношении – роль “другого”, “не-Я”; это инструмент самопознания русского, средство, с помощью которого русское сознание медитирует по поводу своих культурных и антропологических границ, вины и ответственности перед собой и миром, “онанирует” по поводу различий и сходства с “еврейским”. Еврей – это зеркало русского» {582} . Причина подобной зацикленности на «еврейском вопросе» банальна с позиций классического фрейдистского подхода – Эдипов комплекс.
Русская национальная культура в силу своей, по мнению автора, незрелости испытывает острое притяжение-отталкивание к еврею, играющему в этой схеме роль Отца в силу своей религиозной и культурной состоятельности. «Собственно антисемитизм в терминах психоанализа уместно связать, прежде всего, с комплексом вины, переносимой на евреев, и сравнить с рукоблудием, базирующимся на шовинистических фантазиях, которые доставляют наслаждение типа аутоэротического» {583} .Невозможность нормального развития толкает русскую культуру, подобно подростку, предающемуся онанизму, к болезненной зацикленности на «еврейском вопросе». Попытка вытеснения болезненного образа Отца, доказавшего свою сексуальную зрелось уже феноменом отцовства, приводит к отрицанию родственной связи. Корни имманентной конспирологии русской культуры заключаются именно в этом – демонизации евреев, наделении их «родительской» властью, выраженной в форме «тайных еврейских обществ», контролирующих все сферы жизни. Поэтому Булгаков, создавая образ Воланда, просто автоматически обязан был следовать коду русской культуры: «Одним из прототипов Воланда <…> является созданный в недрах антисемитско-оккультной литературы образ де-монизированного еврея, превратившегося во всесильного еврея» {584} . Итак, в большинстве канонических текстов русской литературы должна присутствовать тема «еврея» и «еврейского всемогущества = заговора», выступающих в качестве смыслообразующего начала русского «Оно». Естественно, что подобный подход нельзя назвать иначе как спекулятивным и манипулятивным по отношению к сознанию субъекта. За псевдолитературоведческими штудиями скрывается вульгарный социологизм, «украшенный» фрейдистскими виньетками.
Приступая к анализу конспирологической художественной литературы, мы должны зафиксировать то, что предварительно определили как соединение культурного материала с архетипическими моделями повествования. В первую очередь, следует назвать традиционные сюжетные и образные средства европейского романтизма, чья достаточно короткая литературная судьба тем не менее определила специфику культурного европейского развития вплоть до нашего времени. Именно в эпоху романтизма сначала окончательно формируется, а потом и становится невероятно популярным жанр готического романа. Готический роман обладает совокупностью специфических черт, обозначение которых указывает на природу генезиса конспирологической художественной литературы.
Обратимся к творчеству А. Радклиф, английской писательницы конца XVIII века, создавшей канон готического романа. Её романы пользовались невероятной популярностью во всём читающем мире. Анализируя роман «Лес», В. Э. Вацуро следующим образом весьма ёмко определяет общую формулу готического романа: «Вся история Аделины, начиная с её первого появления на страницах романа, цепь таинственных событий, причём разрешение одной тайны влечёт за собой появление новых, пока, наконец, последняя из них не объясняется в конце романа как тайна её рождения» {585} . Типологически дискурсивная схема готического романа вполне соотносима с конспирологическим взглядом на амбивалентность наших представлений о бытии, на историю «внешнюю» и историю «внутреннюю», экзотерическую и эзотерическую. Случайные встречи, непонятные записки и письма обретают значение и смысл только тогда, когда становится доступен код – событие, инициирующее всё повествовательное пространство. Для большинства героев происходящие события одномерны и не вызывают интереса. Инициация же главного героя, прикоснувшегося к тайне, воспринимается ими как причуда, бурная игра воображения или психическое расстройство.
Перечисленные особенности готической литературы сопрягаются не только с конспирологической художественной литературой, но и с общими парадигмальными установками «теории заговора». Что касается образной системы готического романа, то к наиболее выразительным чертам её относятся символы потустороннего, «андегра-ундного» мира: подземелья, потайные места. Будучи скрытыми от обычного взгляда, они являются вместилищем инфернальной изнанки мира, где полностью торжествует силы, враждебные человеку. Попадая туда, герой обрекает себя на гибель, попутно открывая причины собственных несчастий. Эти особенности готического романа находят своё продолжение в конспирологической литературе, естественно, в несколько модифицированном виде. Так, субъект, обладающий информацией о разрушительной деятельности «тайных обществ» и стремящийся к её общественной легализации, сталкивается с непониманием или насмешкой со стороны окружающих. В известной степени он действует в вакууме, порождённом его же знанием. Одной из ключевых сцен конспирологических романов является картина тайного собрания, на котором решаются судьбы мира, раскрываются механизмы социально-исторических движений, скрытые от профанного, непосвященного взгляда. Сам выбор места собраний (кладбище, заброшенный дом, подземное убежище), как мы уже отметили, подчёркивает аномальный характер «тайных обществ», их изолированность от естественных социальных законов.
Наглядным примером сказанному выступает получивший широкую известность роман «Биарриц – Рим» (1866-1870) немецкого политического романиста Г. Гёдше, писавшего под псевдонимом «сэр Джон Ретклиф» [29]29
Заметим, что псевдоним Гёдше – Ретклиф, – явственно созвучный Радклиф, также указывает на готические истоки «конспирологического романа», хотя бы на субъективно-личностном уровне.
[Закрыть]. Интерес к объёмному четырёхтомному роману объяснялся не столько его художественными достоинствами, сколько центральным сюжетным эпизодом – изображением тайного собрания иудеев, разрабатывающих планы по окончательному завоеванию христианских народов. Заседания, которые проводятся регулярно, проходят на еврейском кладбище в Праге возле могилы известного каббалиста Симеона-Бен-Иегуды, реально существовавшего лица, что в глазах читателя придавало повествованию некоторую документальную основу. Представители двенадцати колен Израилевых в кладбищенском полумраке строят далеко идущие планы по окончательному покорению христианского мира. Со своего рода центральным «докладом» выступает раввин из Франкфурта. Содержание его представляет собой перечень бесконечных побед «народа Израиля» над наивными и доверчивыми христианами. «Мы хитры, ловки и владеем деньгами, отсюда следует при посредстве всяких политических журналов образовать общественное мнение и руководить им исключительно сообразно с нашими видами; нужно критиковать сочинения, сцену и приобретать влияние на наше общество или пролетариат. Идя этим путём шаг за шагом, мы оттесним христиан от всякого влияния и продиктуем миру всё то, во что он должен верить, что должен презирать и проклинать» {586} . Отметим, что, несмотря на все уверения в практически полной победе над христианами, докладчик тщательно избегает любой конкретики, подтверждающей действительность торжества еврейского племени, подменяя её лозунгами и призывами к сплочению. «Восемнадцать веков принадлежали нашим врагам, но следующие будут уже нам принадлежать!» {587}
Подобную абстрактность, отказ от эмпирической наглядности можно объяснить и влиянием традиций готической литературы. Инфернальные силы, обозначая себя в качестве имманентной причины конфликта, в готическом романе всё же не раскрывают полностью свою природу, благодаря чему достигается важный художественный эффект – усиление дезориентации читателя. Несколько схематизируя, можно сказать, что «последняя тайна» в готическом романе остаётся нераскрытой, не все сюжетные ходы находят своё объяснение. Манифестация, зримость явления инфернального начала ещё более подчёркивает потусторонний характер «тайны». Этот же эффект срабатывает и в романе Гёдше – всесилие талмудических заговорщиков основывается на стремлении к абсолютной власти, тотальность которой делает излишними любые частности. «Наше могущество разовьётся в исполинское дерево, ветвями которого будут счастье, богатство, могущество и роскошь; довольство явится для нас наградой за несчастье, опасность и презрение, которые восемнадцать веков были нашей участью» {588} . Повышенная эмоциональность, свойственная как приведённому отрывку, так и всему тексту в целом, отсылает нас скорее не к классическим образцам конспирологических сочинений с их акцентом на аналитическую подачу материала, внесубъективность, подчинение эмоциональной сферы рациональной, но к традициям романтической литературы.