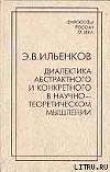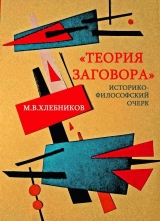
Текст книги "«Теория заговора». Историко-философский очерк"
Автор книги: М. Хлебников
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
Говоря о начале Крымской войны, заметим, что апелляция к «Завещанию Петра I» не исчерпывала конспирологического антуража назревавшего конфликта. Достаточно известный и популярный английский публицист и политический деятель Д. Уркварт в своей газете «Morning Advertiser», начиная с осени 1853 года, подробно развивал тему глобального заговора русской монархии против цивилизованного демократического мира. Масштабность подрывной деятельности царизма отражается хотя бы в факте подкупа Николаем I Мадзини. Будучи членом английского парламента с 1837 года, Уркварт использует возможность публично разоблачать коварные планы русской монархии. Особую пикантность конспирологическим построениям английского борца с русским империализмом придавало, к примеру, то, что «он резко критиковал английское правительство за недостаточно решительную борьбу против “русской опасности” и даже самого Пальмерстона именовал русским агентом» {386} .
Но Уркварт не ограничивался современностью в разоблачении «русского заговора», историческим подтверждением которого служил уже и такой серьёзный источник, как Библия. Обращаясь к Ветхому Завету, английский публицист проводит параллели между Нововавилонским царством и Российской империей. Но эта связь, по его мнению, носит не отвлечённо-символический характер, а конкретно-исторический. Оказывается, что один из вариантов имени Навуходоносора – Небукаднецар – расшифровывается следующим образом: «Нет бога, кроме царя» {387} . Здесь мы должны отступить от темы «Завещания…», обратившись к фигуре одного из сторонников Уркварта и его весьма экстравагантной конспирологии. Речь идёт о таком знаковом персонаже, как Карл Маркс. Но что может объединять консервативного английского деятеля, критиковавшего кабинет премьер-министра Пальмерстона за излишний либерализм, с леворадикальным публицистом? Ответ заключается в близости взглядов на роль России в европейской политике XIX века.
Как известно, Маркс активно интересовался военно-политическими, экономическими и дипломатическими аспектами «восточного кризиса» и последовавшей за ним Крымской войны. Им были написаны ряд статей, памфлет «Лорд Пальмерстон» и весьма примечательная, хотя и незавершённая работа «Разоблачения дипломатической истории XVIII века». Формально работа должна была быть посвящена вопросам русско-английских отношений восемнадцатого столетия, т. е. предыстории собственно «восточного кризиса». Марксу не удалось добиться издания работы, и он решает публиковать её по частям. Для публикации автор выбирает газеты сторонников Уркварта: «Sheffield Free Press» и «Free Press», в которых в 1856-1857 гг. были напечатаны отдельные завершённые главы исследования. При всей фрагментарности, отсутствии выводов и связок между частями работы, «Разоблачения…» содержат некое концептуальное мнение, которое не мог не разделять экстравагантный автор теории «Навуходоносора – Небукаднецара».
Рассуждая об англо-русских отношениях восемнадцатого столетия, Маркс приходит к смелому заключению: английская внешняя политика была объектом манипулятивного, конспирологического воздействия со стороны русских. В начале работы приводятся образцы дипломатической переписки той эпохи, заставляющие автора буквально негодовать, сетуя на их непереносимо оскорбительные для английского национального сознания тон и содержание. «Несмотря на их секретность, частный и доверительный характер, английские государственные деятели говорят между собой о России и её правителях в тоне благоговейной сдержанности, низкого раболепия и циничной покорности, которые поразили бы нас даже в публиковавшихся донесениях государственных деятелей России. Русские дипломаты прибегают к секретности, чтобы скрыть интриги против чужеземных наций» {388} . Маркс задает вопрос: в чём причины этого удивительного русофильства, приведшего к тому, что английский двор является проводником русской политики? При этом экспансионистский, захватнический характер русской империи со временем становится всё очевиднее. Следует указание на поворотный момент европейской истории, определяющий данную трансформацию – правление Петра I. Именно Пётр I сумел превратить объективных конкурентов России в своих союзников, используя богатый набор способов воздействия: от скрытого обмана, провокаций до действий специальных секретных агентов.
Но подобные «методы» не есть лишь достижения индивидуального Петровского гения. Они с необходимостью вытекают из всей истории Руси-России. Маркс обращается к основным эпизодам развития русской государственности, находя там конспирологические основания. Так, анализируя деятельность Ивана Калиты, автор выделяет следующие моменты, определившие возвышение московского князя: «Для достижения этой цели ему надо было втереться в доверие к татарам, цинично угодничая, совершая частые поездки в Золотую Орду, униженно сватаясь к монгольским княжнам, прикидываясь всецело преданным интересам хана, любыми средствами выполняя его приказания, подло клевеща на своих собственных родичей, совмещая в себе роль татарского палача, льстеца и старшего раба. Он не давал покоя хану, постоянно разоблачая тайные заговоры» {389} . Используя тактику «теории заговора», Калита не только добивается главенствующей роли среди равных ему, но и исподволь подрывает могущество Золотой Орды, обращая формальных угнетателей в проводников своей политики. «Иван Калита превратил хана в орудие, посредством которого избавился от наиболее опасных соперников и устранил всякие препятствия со своего пути к узурпации власти» {390} . Специфика методов московского князя, по мысли Маркса, закладывает основы строительства «московской империи», генетически предопределяя особое положение «теории заговора» – по сути, центрального актора российской государственности. Доказательством тому служит царствование Ивана Грозного – прилежного ученика своего учителя – Ивана Калиты. Придя к власти в период неуклонного и видимого заката Золотой Орды, Грозный, невзирая на это, отказывается от открытой, «честной» борьбы, предпочитая проверенные опытом предков методы, эффективность которых блестяще подтвердилась: «Через подкупленную татарскую женщину он склонил хана к тому, чтобы тот приказал отозвать из Московии монгольских наместников. Подобными незаметными и скрытыми действиями он хитростью выманил у хана одну за другой такие уступки, которые все были гибельными для ханской власти. Таким образом, могущество было им не завоёвано, а украдено. Он не выбил врага из крепости, а хитростью заставил его уйти оттуда» {391} . Мощную Новгородскую республику Грозный победил также лишь с помощью приёмов конспирологии. Он постоянно провоцировал конфликты внутри новгородского общества, становясь то на одну, то на другую сторону, что с неизбежностью привело к упадку ещё совсем недавно богатой и сильной торговой республики. После этого поглощение Новгорода являлось лишь технической проблемой. Но при всём «коварстве» и «нечистоплотности», московские правители решали задачи актуальные и значимые только для восточных окраин Европы. Поэтому Европа достаточно равнодушно относилась к происходящему, а может быть, даже и не различала всех тонкостей и хитросплетений «московитской политики».
Ситуация коренным образом изменяется в начале восемнадцатого века, когда на арену европейской истории приходит нежданный и незваный герой – Пётр I. Маркс признаёт гениальность личности первого русского императора, сумевшего не только преобразовать собственное государство, но и внести существенные коррективы в привычные европейские геополитические раскладки. И всё же подлинный гений Петра, по мысли автора, следует видеть в том, как он сумел применить накопленный богатый конспирологический опыт русской политики в самом сердце цивилизации – Западной Европе. «Пётр Великий действительно является творцом современной русской политики. Но он стал её творцом только потому, что лишил старый московитский метод захватов его чисто местного характера, отбросил всё случайно примешавшееся к нему, вывел из него общее правило, стал преследовать более широкие цели и стремиться к неограниченной власти, вместо того чтобы устранять только известные ограничения этой власти. Он превратил Московию в современную Россию тем, что придал её системе всеобщий характер» {392} . И западный мир оказался бессильным перед отточенной конспирологической методикой своего восточного соседа. Изощрённая западная дипломатия сдалась перед «системой всеобщего характера». Английская внешняя политика, известная всему миру своим прагматизмом и умением отстаивать собственные интересы, превращается в последовательного проводника интересов России. Падение Швеции стало возможным лишь при молчаливом согласии английской правящей элиты, заражённой непонятным «русофильством». Но природа этого феномена проясняется, если мы вспомним историю Золотой Орды, уничтоженной своим «покорным данником». Европа, раздираемая эгоистическими, частными интересами, рискует повторить судьбу своего азиатского предшественника.
Заметим, насколько сложная перед нами концепция, завязанная на одном только историческом персонаже – Петре I. Она разнесена во времени, её создатели, толкователи и сторонники представляли разные социально-политические, религиозные страты и зачастую, помимо консенсусного принятия «теории заговора», не имели ничего общего. В 1836 году во Франции выходит новая редакция «Завещания…», подготовленная Ф. Гайярде и включённая им в состав «Записок кавалера д'Эона, напечатанных в первый раз по его бумагам, сообщённым его родственниками, и по достоверным документам, хранящимся в Архиве иностранных дел». Гайярде утверждал, что известный авантюрист XVIII века кавалер д'Эон, благодаря своей дружбе с императрицей Елизаветой, сумел получить доступ к секретным русским архивам и выкрасть оттуда текст «Завещания…» В 1757 году он вывозит документ «огромной важности» во Францию, где он на долгие десятилетия оседает в частной библиотеке. В отличие от варианта Лезюра, издание Гайярде содержало формальные признаки документа – вступление, обозначение авторства, пункты «завещания». Правда, удивительные метаморфозы происходят с содержанием самого «документа». В новом изводе делается упор на обоснование особых отношений с Англией, так как она обладает рядом важных для России качеств: «Преимущественно добиваться союза с Англией в видах торговли, ибо это именно та держава, которая для своего флота наиболее нуждается в нас и которая может быть наиболее полезною для нашего флота. Обменивать наш лес и другие произведения на её золото и установить между её и нашими торговцами и моряками постоянные сношения, которые приучат нас к торговле и мореплаванию» {393} . Но радение о росте торговых связей в перспективе выхода России к границам Индии и Персидского залива оборачивается совсем иным. В новых условиях конфликт между Россией и Англией представляется русскому императору неизбежным. И первым делом в сложившейся ситуации следует отказаться от торговли с Англией, что неизбежно отразится на внутреннем состоянии английской монархии.
Примечательно, что в «Разоблачениях…» Маркс фактически дублирует свежий вариант «Завещания…», в подробностях разбирая экономические отношения между двумя странами. Используя богатый статистический материал, Маркс доказывает, что торговые отношения приобретают дисбалансированные очертания, свидетельствующие о постепенном подчинении Англии российскому экономическому диктату: «Если, таким образом, с присоединением шведских областей к России британский рынок для русского сырья расширился, то, с другой стороны, русский рынок для британских промышленных товаров сократился, в период господства теории торгового баланса такая особенность вряд ли могла говорить в пользу этой торговли» {394} . Следует «порадоваться» за Петровский гений, предвидевший такие мельчайшие детали будущего. Вариант «Завещания…», предложенный Гайярде, становится основой для множества републикаций. Впрочем, каждый последующий публикатор стремился оставить свой след в истории «судьбоносного для Европы документа», прибавляя или опуская некоторые частные моменты. Так, польский историк Л. Ходзко обнаруживает психологический элемент в истории текста. Его первый вариант был составлен Петром уже в 1709 году, после триумфальной полтавской виктории, а потом дорабатывался до самой смерти императора. Видимо, победа над Карлом XII послужила мощным стимулом, показав принципиальную достижимость для Петра практически любых целей. Естественно, что большое количество публикаций неизбежно привело к возникновению внутренних противоречий. Например, французский военный историк Корреар относит начало работы над «документом» к 1710 году, а последняя петровская редакция датируется 1722 годом, в период после заключения Ништадского мира. Окончательное же оформление «Завещания…» французский исследователь «поручает» А. И. Остерману и помечает 1730 годом. Впрочем, такие мелочи не влияли на общую оценку «документа», в истинности которого никто серьёзно не сомневался.
Далее, уже в 1860 г. «Завещание Петра» вновь привлекает к себе внимание – в свете польских событий. В определённых кругах оно становится основанием для обсуждения действий европейских стран против России. 70-е годы XIX в. добавляют новый штрих к «исследованиям» «Завещания…». Аббат М. Гома в книге «Завещание Петра Великого, или Ключ к будущему» разоблачает коварные замыслы русского императора, но уже в отношении, как ни странно, Японии, призывая католиков всего мира, в свете столь удручающих перспектив, к крестовому походу против России [19]19
Не останавливаясь на деталях, заметим, что псевдозавещание не потеряло своей актуальности и в XX веке. Оно активно использовалось как в период Первой мировой войны, так и во Второй – в качестве «оправдательного документа», обосновывавшего агрессию против Советского Союза гитлеровской Германии.
[Закрыть]. Особо следует подчеркнуть, что как само качество изготовления «Завещания…», его содержание, так и период его актуализации указывают на явные признаки подделки. Несмотря на это, как мы видим, подобный идеологический продукт находит свою достаточно широкую и многообразную аудиторию. Поэтому нельзя не согласиться со словами В. П. Козлова о роли и значении «Завещания»: «Оно формировало в общественном мнении “образ врага” – России. Монархическая Европа должна была поразиться коварством русской монархии, которая во имя достижения мирового господства разрабатывала далеко идущие планы. Для прогрессивной общественности Европы “Завещание” представлялось очередным доказательством имперских устремлений России» {395} . Уже исходя из этого, объяснение конспирологического мышления отсутствием «легитимного политического пространства» представляется нам не совсем верным.
ГЛАВА 6.
Особенности бытования «теории заговора» в отечественном социокультурном пространстве в начале XX века
Обратимся вновь к подъёму конспирологических настроений в России начала XX века. Означает ли этот подъём формирование собственно «конспирологического мышления»? На наш взгляд, это не совсем верно. Природа реактивности подразумевает достаточно локальное поле взаимодействия, в жёстких границах причинно-следственных связей. В качестве примера приведём отрывок из дневника М. Кузмина, отражающий не только эстетические искания русского поэта, но и дающий представление о социальных реалиях тех лет. «Я говорю сам для себя и называю всё своими именами; жиды и жидовствующие нахалы, изменники и подлецы губят Россию; они её не погубят, но до полнейшей нищеты и позора могут довести… Что им Россия, русская культура, богатство? Власть, возможность изблёвывать своё лакейство, поганое краснобайство, дикая пляска осатанелых жидов» {396} . При всей экспрессивности цитируемого отрывка, оценка поэтом ситуации лишена апокалипсической окраски, свойственной конспирологическому мышлению. Энтропийные процессы в социальной действительности первой русской революции, при всей их мощи, имеют естественное ограничение: «они её не погубят, но до полной нищеты и позора довести могут». Также заметим, что характеристика агентов «теории заговора», даже учитывая отсылку к их «осатанелости», сопровождается уничижительными инвективами: «лакейство», «краснобайство» и т. д. При этом иерархия социально закреплённых ценностей хотя и подвергается весьма существенной деформации, но всё же сохраняется в качестве единственно возможной для социального большинства.
Поэтому в центре внимания первых конспирологов – попытка объяснения непосредственных причинреволюционного кризиса 1905 года. А. И. Генц в следующих словах определяет уровень масонской опасности: «В России масонства, давшего нам в своё время мартиниста Новикова и декабристов – официально давно не существует: с указом 1822 года масонские ложи были закрыты у нас навсегда; но ужасная русская действительность показывает нам, что свою разрушающую работу масонство у нас тем не менее ведёт, и сопровождается она, увы, блестящим успехом» {397} . Но примеры «блестящих успехов», за практически полное столетие, отсутствуют. Доказательная часть авторских рассуждений основывается лишь на непосредственном описании событий русско-японской войны и последовавших за ней революционных выступлений. «А что касается других видов масонской измены – то какие возмутительные примеры её видели мы хотя бы в японскую войну, когда интеллигенция и здесь, и на театре военных действий возбуждала солдат к нарушению долга перед родиной; когда открыто устраивались фестивали по случаю наших поражений!» {398} Отметим, что предъявляемые обвинения имеют опосредованное отношение к «теории заговора». Действительно, упрекать «тайное общество» в организации «фестивалей», то есть праздников, – значит лишать его конспиративного начала. Это, по существу, означает аннигиляцию самого смысла его существования. Реальным объектом авторской претензии становятся не масоны, но радикальная часть русской интеллигенции, для которой, действительно, были характерны подобные настроения.
Действительно, широкое распространение радикальных настроений у русской интеллигенции заставляло властные органы с подозрением относиться к возникновению тех или иных общественных организаций. Зачастую пристальное внимание привлекали организации внешне вполне безобидные, но обладающие «конспирологическим потенциалом». Так, серьёзные опасения вызывали стремления учредителей Автомобильного клуба «исследовать состояние дорог, способствовать их улучшению (ставить на них вывески, устраивать повсеместно гаражи, стоянки, питательные пункты, магазины и т. д.)» {399} . Предполагалось, что за подобными инициативами скрывается попытка узурпации функций правительственных органов. Не меньшее волнение вызывали организации эсперантистов. В докладе Департамента полиции обер-прокурору Св. Синода В. К. Саблеру раскрывались далеко идущие планы поборников создания нового общечеловеческого языка, объединённых в общество с «подозрительным» названием «Звезда свободы»: «эсперантистский союз “Звезда (иначе Мир) свободы” <…> имеет своим основанием <…> бороться при помощи печати с религиями, догматами и предрассудками, стремиться к уничтожению милитаризма, распространению путём организации курсов или иными способами языка “эсперанто” между интернационалистами, социалистами и даже между анархистами, вести пропаганду освободительных идей среди эсперантистов и, наконец, оказывать услуги по эсперантским переводам рабочим синдикатам всех стран» {400} . Несомненно, что главная опасность скрывалась в «иных способах» действий последователей Л. Заменгофа. Впрочем, одна из задач вырисовывалась достаточно ясно – конспирологической «специализацией» эсперантистов является коммуникационная сфера. Сам язык «эсперанто» подавался как средство, обеспечивающее информационную безопасность тайным обществам в невидимой войне против государства и религии. Объективно положение усугублялось тем, что сами эсперантисты не чуждались «конспирологических» приёмов: активно использовались псевдонимы, проводилась своего рода «вербовка» влиятельных общественных фигур в различных странах с намерением обеспечить защиту и поддержку поборников нового языка.
Автомобилистами и эсперантистами не исчерпывался список потенциально подозрительных организаций, преследующих скрытые подрывные цели. К ревнителям технического прогресса и создателям общемирового языка были присоединены спортсмены. Речь идёт о таком виде спорта, постепенно обретавшем популярность, как футбол. Оказалось, что тренировки и футбольные матчи могут быть идеальным прикрытием для заговорщиков, которые разрабатывали тактические планы восстания во время тренировок и в перерывах. Подобная «широта интересов», совмещение спортивных занятий с разработкой планов грядущего восстания, отмечалась у членов Рышковского общества футболистов Курской железной дороги {401} . Заметим, что, как и в случае с обществом эсперантистов, данный пример имеет некоторое рациональное основание. Действительно, в событиях революции 1905-1907 гг. активное участие принимали именно работники железной дороги, чем и объясняется повышенное внимание не столько к футбольному клубу как «спортивно-конспирологическому» обществу, сколько к настроениям спортсменов-любителей. Для реактивнойфазы развития конспирологии, как уже отмечалось, свойственна временная ограниченность «теории заговора», которая на этой стадии служит орудием интерпретации современных событий. При этом события генетически изолированы, не «встроены» в общую конспирологическую вселенную. В центре конспирологической модели реактивногопериода находится ключевое событие (политический, экономический кризис, военный конфликт), выводящее общественное сознание из состояния равновесия и сопровождающееся ценностным кризисом. Как правило, кризисный процесс заканчивается внешне благополучно, но при этом проводится «профилактическая работа». «Теория заговора» воспринимается в значительной степени инструменталистски, как средство предотвращения подобных кризисов.
Возвращаясь к конспирологическому содержанию работы Генца, зафиксируем её реактивнуюприроду. Целью автора становится не историческая реконструкция длительного процесса функционирования «тайного общества» и результатов его имманентного воздействия на социальные процессы, но объяснение конкретных, наглядно-эмпирических фактов. Сосредоточенность на настоящем лишает «теорию заговора» важного методологического преимущества: возможности проекции в исторической перспективе. Текущие события, не обоснованные их связанностью с конспирологическим измерением истории, очень быстро теряют силу воздействовать на общественное сознание. То, что сегодня понимается как злободневное, через некоторое время легко утрачивает этот статус, приобретая черты нейтральности. Поэтому тревожная преамбула в начале работы Генца в её конце сменятся весьма оптимистическим взглядом на будущее: «С верой в конечную победу Бога над сатаной; в духовную мощь нашей великой России; в освободительную её миссию, будем бороться с масонством» {402} .
Даже Западная Европа оказывается не фатально обреченной на роль жалкой марионетки в руках масонских заправил. Возможность сопротивления, разоблачения масонства, то есть деятельности конспирологов, подкрепляется дополнительным фактором. Он открывается благодаря внутренней слабости «вольных каменщиков». «Масонство обладает лишь могуществом соединённых мошенников. У него нет даже смелости злодейства; оно состоит из трусов, храбрых лишь в минуту торжества, но которые от одного жеста спрячутся в землю. Ни один француз, достойный своей расы, не должен бояться масонов: всё это люди, которые втайне могут заниматься доносами, клеветой, диффамированием, но которые никогда, повторяю, лицом к лицу не вступят в бой с врагом, открыто их атакующим» {403} . Итак, грозное и могущественное «тайное общество» внезапно трансформируется в сборище карикатурных «злодеев». И хотя Генц приводит в данном случае слова французского конспиролога, они очень точно отражают восприятие конспирологической опасности в отечественной практике. В этом аспекте обращение к уже практически сформировавшимся канонам и традициям западной конспирологии носит не просто компаративный характер, но и строится на противопоставлении европейскому опыту. Подобный вывод мы можем подтвердить достаточно широким, помимо работы Генца, рядом примеров.
Показательно отношение к конспирологической проблеме в начале работы А. Селянинова «Тайная сила масонства». «Безусловно следует признать одно, – что сведения собственно о масонстве у нас в России очень скудны. Зато вопрос о масонах по многим причинам сильно волнует современную Францию, и там создалась целая масонская литература, уже во многих отношениях способствовавшая освещению этого вопроса. В самом деле, Франция явилась в конце XVIII века и остаётся до сих пор как бы очагом масонства, а поэтому, волей-неволей, для изучения его сущности приходится обращаться к ней» {404} . Из приведённого отрывка следует достаточно ясный вывод: масонская, то есть конспирологическая литература недостаточно распространена в России, так как русское общество, в отличие от французского, не является «очагом масонства». Поэтому не удивительно, что большая часть работы посвящена истории европейского масонства, что объясняется как раз наличием обширного материала. Но подобный вариант изложения страдает отсутствием важного элемента – актуальности для русского читателя, без которой масонская опасность представляется абстрактной и умозрительной. Именно эта проблема становится наиболее важной для русской конспирологии и отечественных конспирологических авторов.
Подробно описывая влияние масонства на политическую и культурную жизнь западноевропейских стран и США, Селянинов делает вывод о неизбежном столкновении социально-политических устремлений «тайных обществ» с российским миром: «А теперь предстоит нам совершить величайшее усилие, дабы приготовиться к великой борьбе. Опасность грозит более страшная, чем татарское иго и более стремительная, чем нашествие Наполеона» {405} . Следует обратить внимание на то, что, несмотря на высокую степень угрозы со стороны «тайных обществ», отечественные конспирологи дооктябрьского периода говорят лишь о неизбежности конфликта, но не о его реальном протекании.В этом проявляется ещё одна особенность реактивной версии «теории заговора» – обращённость к будущему, которое понимается как область реализации той или иной формы возможного. В компенсаторном варианте «теории заговора» проблема потенциального развития общества существовать не может – в силу объективного превосходства тайных обществ над всеми иными формами социальной организации. В этом контексте, как мы помним, история есть процесс реализации «тайными обществами» своих программ и установок.
Даже наиболее консервативно настроенные авторы, к числу которых, безусловно, относится М. О. Меньшиков, рассуждая о социально-исторических перспективах, всякий раз обращаются к будущему развитию конфликта. «Мы ещё не знаем всех последствий смешения отдельных племён и классов, мы ещё в начале падения народной веры и политического миросозерцания» {406} . Первые русские конспирологи, в силу их оторванности от западной модели «теории заговора», зачастую пытались увязать грандиозные схемы мировых заговоров с каким-либо отдельным фактом или событием, тем самым существенно сужая границы конспирологической вселенной. Объектами применения конспирологических схем становятся личности и события, явно не укладывающиеся в масштабы «теории заговора». Весьма интересно и симптоматично в данном ключе предисловие В. Прав дина к работе Е. Дюринга «Еврейский вопрос», вышедшей на русском языке в 1906 году. Автор предисловия констатирует агрессивную социальную природу евреев, рассуждая о деле Дрейфуса, следующим образом: «Если Франция виновата перед еврейством в насилии над одной личностью, которую она потом, так или сяк, оправдала, т. е. сняла с себя упрёк в насилии, то не виноваты ли евреи в целых тысячах насилий над личностями других народов?» {407} Неутешительный ответ следует из признания криминальной сущности еврейского этноса, социальное благополучие которого является не следствием его особых коммерческих способностей или склонности к практической деятельности, но оборотной стороной его подрывной деятельности. За этой неутешительной констатацией скрывается признание относительности самого конспирологического процесса, который оказывается инициированным событием ограниченного масштаба. Поэтому и последствия представляются весьма вариативными, далёкими от однозначного эсхатологического финала. Показательны в этой связи рассуждения В. П. Эгарта в работе «Надо защищаться». Автор в начале работы пишет о неизбежности конфликта между международным еврейством и Россией, естественно, акцентируя внимание на изначальной враждебности «религиозно-племенного братства» по отношению к «северному славянскому братству». Как мы видим, предпринимается попытка соотнести конспирологический конфликт с западной натуралистической моделью «теории заговора». Но очень скоро Эгарт отказывается от подобной трактовки и начинает рассуждать о социальных истоках возможного конфликта. А в его центре находится вопрос о гражданском равноправии евреев в Российской империи. Гражданское равноправие – это лишь промежуточный шаг к главной цели – экономической свободе. Это снимет остроту конфликта, но приведёт к необратимым, катастрофическим последствиям: «Евреи тогда дадут остальному населению России возможность жить мирно, на таких же основаниях, как это устроилось в странах с еврейским равноправием и, наиболее полным образом, в Америке, т. е., чтобы коренное население работало на евреев, чтобы капиталы сосредотачивались в их ведении» {408} .
Конспиролог приводит многочисленные примеры враждебной деятельности международного еврейства по осуществлению этого плана. И особое место здесь занимает еврейская община США. Именно там, по мнению автора, евреям удалось добиться максимального социально-экономического эффекта, в результате чего они фактически получили статус самостоятельной политической силы. Способность влиять на принятие внешнеполитических решений особенно ярко выразилась в период русско-японской войны и всплеска революционного движения. Эгерт говорит о прямом финансировании террористической деятельности «убийц и бомбистов» еврейским капиталом. Здесь следует ещё раз указать на реактивный характер русской «теории заговора» начала прошлого века. Пространство конспирологического конфликта сужается до событий непосредственной социально-исторической данности, нивелируется вся историческая глубина «тайной войны». Но как мы также указывали, благодаря реактивной форме «теория заговора» приобретает черты актуальности, а значит, и общественной значимости. Классические разоблачения сатанистов-тамплиеров вызывают классический же умеренный интерес, конспирологические посылы приобретают очертания схематичной самодостаточности.