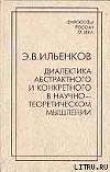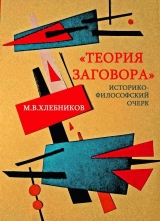
Текст книги "«Теория заговора». Историко-философский очерк"
Автор книги: М. Хлебников
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
Лютостанский объясняет феномен антисемитизма, которому нет примера в истории человечества, расовой отчуждённостью, постоянным подчёркиванием в иудаизме превосходства евреев над другими народами, пренебрежительным отношением к иным культурам и религиям. Этому посвящены обширные разделы в книге, именуемые «догматическими» и «теоретическими». Автор, ссылаясь на «аутентичное» прочтение Талмуда, приводит множество примеров такого отношения: «Мы приказываем, чтобы каждый еврей проклинал три раза в день весь христианский мир и молил Бога посрамить и истребить его со всеми царями и князьями» {437} . Именно по причине постоянной проповеди расового и религиозного превосходства евреев христианам практически закрыт доступ к основным религиозным текстам иудаизма. Отдельные переводы случаются лишь благодаря обращению того или иного конкретного еврея в христианскую веру. Приход к христианству открывает перед ними всечеловечность и подлинную религию любви, невозможные в узких рамках талмудизма. Невыносимость гнёта иудаизма такова, что формы протеста против него у самих евреев принимают самые экзотические, уродливые формы: «Проституция для еврейской женщины, находящейся под невыносимым давлением Талмуда, обезличенной им донельзя, низведённой до степени рабы, предназначение которой не идёт далее доставления мужчине возможности исполнять заповедь, повелевающую продолжать род свой, проституция, повторяем, представляет единственный возможный исход из тёмного склепа, в который заживо зарывает её изуверская талмудическая казуистика» {438} .
Все тайные общества имеют иудейскую генеалогию, при всём внешнем разнообразии, пестроте заявленных целей и задач. При внимательном прочтении оказывается, что они отстаивают доктрину о расовом превосходстве евреев и служат средством национального обособления. Автор особо обращает внимание, что постоянная пропаганда либерализма, ведущая к размыванию национального чувства, практически не затрагивает еврейский этнос, учитывая весомую долю евреев в либеральном движении. Это свидетельствует об инспирируемом характере либерализма: лишая другие нации этнического «иммунитета», евреи ещё более усиливаются на фоне подобной деградации. Поэтому расовое превосходство неизбежно сопровождается преобладанием в социальной области, в которой евреи достигли впечатляющих результатов, что в дальнейшем неизбежно ведёт к социальной катастрофе: «Так как наша социально-политическая зависимость настолько велика, что боязнь евреев и недостаток инициативы стали несомненным фактом в так называемых “лучших классах” общества, то история с беспощадной логикой идёт своим путём вперёд к погибели общества» {439} . И причиной тому, как уже было сказано, утрата национальной и расовой идентичности. Показательно, что Лютостанскии использует по преимуществу материал западных конспирологов, «русская» часть его работы насыщена ссылками на события в западных областях Российской империи. Таким образом, русскому читателю была продемонстрирована, в адаптированном виде, «передовая» конспирологическая мысль того времени. Был предложен определённый вектор развития уже для отечественной «теории заговора», которая могла воспользоваться не только фактологическим материалом, но и принятыми в западной конспирологии методологическими приёмами.
Примером тому служит такая неординарная фигура, как В. Л. Величко. Величко не был профессиональным конспирологом или политиком, хотя и являлся одним из основателей «Русского Собрания», занимая далеко не ординарное место в культуре Серебряного века. Личный друг В. С. Соловьёва, автор замеченных широким кругом читателей поэтических сборников, он занимал совсем не маргинальное положение в литературной жизни того времени {440} .
С 1896 г. Величко становится редактором издававшейся в Тифлисе газеты «Кавказ». Будучи деятельной натурой, он пытается на практике разобраться в непростых взаимоотношениях кавказских народов. Величко при этом исходил из прагматической цели: определение приоритетов внутренней политики в кавказском регионе, прогнозирование источников возможных социальных, этнических конфликтов. Итогом его деятельности на этом посту является издание ряда работ, среди которых особо выделяется концептуальной завершённостью «Кавказ: Русское дело и междуплеменные вопросы». На страницах этой работы Величко пытается представить собственную версию непростых межнациональных отношений кавказских народов, создавая, по сути, один из вариантов «теории заговора» натуралистического толка.
Субъектом «теории заговора» у Величко становится армянский этнос. Автором всячески подчеркивается научный характер его концепции, обоснованный, помимо личного опыта, авторитетом видных антропологов того времени: Пантюхова, Эркерта, Шантра. Делается предположение о расово-этнической близости армянского и еврейского этносов, имеющей своё начало ещё в событиях VIII века до н. э. «История свидетельствует о слиянии с ними [армянами] сперва во время вавилонского пленения, а затем после разрушения Иерусалима, огромной массы евреев», —утверждает автор {441} . Сходство между двумя народами обосновывается рядом экономических, социальных, религиозных факторов. Но для Величко на первый план выступают доказательства конспирологического толка. «Характерных семитических черт в армянском народе – сколько угодно: тут и историческая неспособность к мало-мальски устойчивой государственности, и постепенное исчезновение сколько-нибудь авторитетной родовой аристократии, и давнишний переход к подпольной политике теократического строя» {442} .Таким образом, перед нами предстаёт внешне адекватный образец натуралистической конспирологической модели.
Но в итоге позиция Величко оказывается далекой от однозначных оценок. Во-первых, на первый план у него выдвигаются факторы социального характера, постепенно нивелирующие биологические аспекты. Во-вторых, и это является следствием развития первого момента, исследователь приходит к необходимости дифференцированного понимания процессов, идущих уже внутри армянского этноса. «Необходимо отделить армянскую народную массу от хищной плутократии, невежественного политиканствующего духовенства и мнимо-интеллигентных пиджачников», —констатирует Величко {443} . Как мы видим, натуралистических факторов, для которых свойственны холистическое восприятие и интерпретация этнических общностей, оказывается недостаточно для адекватного толкования социально-политических процессов. Обратимся в этой связи к такому понятийному изобретению отечественной конспирологии начала прошлого века, как жидомасонство. Негативная, вполне оправданная, коннотация, обнаруживаемая при употреблении данного термина образованной, культурной частью русского общества на протяжении всего столетия, заслоняет от нас достаточно сложную и неоднозначную его природу.
Итак, мы можем сделать ряд выводов, касающихся влияния натуралистического компонента на развитие отечественной «теории заговора». Во-первых, в русской социально-философской и естественнонаучной сферах проблема осмысления расовых, антропологических вопросов представляется достаточно ясно выраженной. Тот факт, что западноевропейская конспирология уже перешла на этап социоцентрический, предопределяет отставание от «ведущих тенденций» «теории заговора». Во-вторых, проблемой являлось определение субъекта «теории заговора». Вопрос о том, какая «тёмная сила» должна подрывать устои российского общества в условиях отсутствия даже потенциального пространства для бытования подрывных сил, был весьма актуален для отечественной конспирологической мысли. Выбор реально существующих тайных обществ был очень невелик.
Следует отметить, что некоторые из современных исследователей говорят о росте конспирологических настроений в связи с появлением в России в начале XX века собственно «тайных обществ», носивших по преимуществу парамасонский характер. Либерализация общественной и культурной жизни после событий первой русской революции приводит к возникновению множества объединений более или менее эзотерического толка. Особенностью подобных организаций было то, что среди их участников практически отсутствовали представители властных структур, политических партий, то есть те лица, которые обычно в классической конспирологической модели выступают в качестве основного контингента «тайных обществ». В состав же подобных отечественных объединений входили известные персоны русской литературы и искусства того времени. На эту особенность русских «тайных обществ» указывают и отечественные конспирологи. «Самые выдающиеся деятели “Серебряного века” русской культуры А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, Ф. Сологуб, В. Брюсов, М. Волошин, А. Скрябин и многие другие были вовлечены в грязный поток разного рода оккультных учений, уходивших своими истоками к “новаторской деятельности” розенкрейцеров», – пишет Б. Башилов {444} .
В идейном плане большинство обозначенных объединений развивали в том или ином варианте софиологические концепции В. С. Соловьёва. Центром последних выступает мистическое прозрение Святой Софии как связующего звена двух миров: земного и божественного. Как известно, концепция Соловьёва органично связана с его идеей слияния внеконфессиональной религиозности, науки и искусства. В перманентной критике современной ему позитивистской науки и атеизма российский философ постоянно обращался за «союзнической помощью» к различного рода мистическим учениям.
Поэтому если говорить о собственно истоках софиологии, то следует заметить, что в её основание Соловьёвым заложено несколько социокультурных кодов. Помимо христианских традиций, как католических, так и православных, можно говорить и об отчётливо различимых гностическо-герметических и розенкрейцерско-масонских влияниях. Г. В. Нефедьев замечает по этому поводу: «Гностико-каббалические истоки и свободный теософский гнозис философии Соловьёва, безусловно, сближают его с розенкрейцерством или, по крайней мере, с его мифологией. Поэтому соловьёвское наследие, бесспорно, сыграло роль промежуточного звена и интерпретационного кода в актуализации розенкрейцерства русским символизмом» {445} . В то же время необходимо подчеркнуть, что, несмотря на несомненную эзотерическую составляющую, учение Соловьёва не является формообразующим, программным для создания какого-либо реально функционирующего «тайного общества». В эклектической философии Соловьёва розенкрейцеровские, гностические мотивы не носят самодостаточного характера. Их ценность выводится из объективной оппозиционности материалистическим учениям. Заметим в данном контексте, что в «священной войне с атеистическим мракобесием» философ, наряду с конспирологическими гностицизмом и розенкрейцерством, использует «открытия» спиритизма и теософии. Тем не менее, наследие Соловьёва, как мы уже сказали, послужило толчком для возникновения ряда оккультных объединений.
Так, в деятельности «Братства Аргонавтов» принимали участие такие видные философы и поэты начала прошлого века, как А. Белый, Л. Л. Кобылинский (Эллис), С. М. Соловьёв, М. А. Эртель. «Говоря об “Аргонавтах”, следует иметь в виду, что это была свободная ассоциация людей искусства, литературы и науки, не связанная каким-либо уставом и не имеющая чётко обозначенных контуров. А отсюда и непрочность, недолговременность этого объединения» {446} .
Но следует указать на наличие конспирологических настроений у самих участников «Аргонавтов». В своих воспоминаниях А. Белый достаточно ясно, несмотря на свойственную ему экспрессивность изложения, определяет собственное отношение к «теории заговора». «Есть ещё, стало быть, что-то, присевшее за капитализмом, что ему придаёт такой демонский лик; мысль о тайных организациях во мне оживала; об организациях каких-то капиталистов (тех, а не этих), вооружённых особой мощью, неведомой прочим» {447} . Здесь, естественно, необходимо редуцировать неловкую попытку автора «революционизировать» свои конспирологические настроения, придав им «правильный» классовый характер. Время публикации мемуаров – 30-е годы прошлого века – ясно объясняет истоки соответствующей риторики. Впрочем, далее поэт всё же возвращается к классической конспирологической схеме. «Заработала мысль о масонстве, которое ненавидел я; будучи в целом не прав, кое в чём был я прав; но попробуй в те годы заговорить о масонстве, как тёмной силе, с кадетами? В лучшем случае получил бы я “дурака”: какие такие масоны? Их – нет. В худшем случае меня заподозрили б в бреде Шмакова. Теперь, из 1933 г., – все знают: Милюков, Ковалевский, Кокошкин, Терещенко, Керенский, Карташёв, братья Асторовы, Баженов, мрачивший Москву арлекинадой “Кружка”, т. е. люди, с которыми мне приходилось встречаться тогда иль поздней, оказались реальными деятелями моих бредень, хотя, вероятно, играли в них жалкую, пассивную роль; теперь обнаружено документами: мировая война и секретные планы готовились в масонской кухне; припахи кухни и чувствовал, переживая их как “оккультный” феномен» {448} . Негативное упоминание кадетов следует расценивать не как приверженность «правильному» классовому подходу, но как перманентную позицию Белого и его круга. Под «кадетами» здесь понимается не столько конкретная политическая партия, сколько представители либерального лагеря. Именно либерально-прогрессивная часть русского общества становится объектом критики – как со стороны представителей «Серебряного века», так и со стороны отечественных конспирологов. Понятно, что для создателей нового искусства и литературы эстетические аспекты являются основными в их неприятии либеральных ценностей, приобретших к тому времени оттенок догматичности. Но, объявив войну «позитивистской схоластике» в сфере прекрасного, символисты на этом не останавливаются, под прицел их критики попадает либеральная концепция социального прогресса. Из стремления найти альтернативу одномерному позитивизму, прямолинейному техноцентризму, неизбежному прогрессу – рождается интерес к различным «экзотическим» социальным учениям и концептам: от марксизма до «теории заговора».
Оправданной в данном контексте представляется ссылка мемуариста на А. С. Шмакова – известного отечественного конспиролога начала прошлого века. Ему принадлежит целый ряд работ на тему «еврейского заговора»: «Евреи в истории» (1907), «Еврейский вопрос на сцене всемирной истории» (1912), «Международное тайное правительство» (1912). Как показывают последние исследования, роман Белого «Петербург» содержит ряд сюжетных линий и образов, которые можно трактовать как реминисценции конспирологических исследований Шмакова. В частности, И. Светликова выдвигает предположение о семантической близости фамилии одного из центральных героев романа Липпанченко-Липенского – к топониму «Липецкий». Последний же приобретает ярко выраженное конспирологическое звучание в контексте работ Шмакова. Именно на Липецком съезде в 1879 году «Народная воля» закрепила террор как основную форму политической борьбы, что привело в итоге к убийству Александра II. Причём за фигурами народовольцев достаточно зримо просматриваются очертания истинных инициаторов и руководителей формально необъявленной войны. Как ни парадоксально, сами народовольцы и последующие поколения революционеров в какой-то степени являются жертвами этой скрытой войны. «В настоящее время, фанатизированные подпольными силами, которые питаются их же горькой долей, рабочие идут на приступ социального строя. Они проливают свою кровь ради целей иудео-масонской клики, самого существования которой, однако, не подозревают в свою очередь, с достаточной определённостью» {449} . Поэтому для Шмакова Липецкий съезд приобретает символическое значение – как переход иудео-масонской клики к борьбе за власть посредством использования «революционной» тактики и, как мы уже говорили, самих революционеров.
Конспирологический концепт Шмакова находит своё персонифицированное воплощение в Липпанченко-Липенском, который одновременно является и революционером, и полицейским агентом, и, наконец, представителем скрытой силы, незримо управляющей как первыми, так и вторыми. «Настойчивое подчёркивание “неведомого и мистического”, что управляет каждым евреем, так что тот обязательно служит не просто некому международному правительству, представляющему собой “Pouvoir occulte” или “Тёмную силу”, должно было особенно привлекать Белого в писаниях Шмакова. В то, что подобная “Pouvoir occulte” существует, верил и Белый» {450} . Поэтому вполне возможно рассматривать возникновение «Братства Аргонавтов», как и других парамасонских объединений творческой элиты той эпохи, в качестве знака имманентного принятия конспирологической установки, как противовес либерального отрицания «теории заговора». Стремление увидеть в истории дополнительные измерения закономерно приводит к поиску «изнаночной» стороны бытия, важным элементом которой и выступают «тайные общества».
Указанная нами особенность находит своё подтверждение и при рассмотрении позиции такой видной общественно-политической фигуры, как А. С. Суворин. Издатель «Нового времени» не скрывал своих консервативно-охранительных взглядов, активно использовал элементы «теории заговора» для их обоснования и защиты. Известна, в частности, его позиция по «делу Дрейфуса», когда Суворин на страницах своей газеты популяризировал версию о причастности А. Дрейфуса к похищению секретных сведений из французского генерального штаба. В то же время Суворин не разделяет этнонатуралистических воззрений европейских конспирологов того времени. «Я не сочувствую позывам консерватизма, направленным против инородцев. Никогда я против них ничего не писал и ни к одной народности не питал вражды. Можно поддерживать русское чувство, относясь к инородцам сочувственно и мило» {451} , – пишет в дневнике Суворин.
Именно в первое десятилетие XX столетия, параллельно расовому направлению, начинает формироваться социально-экономическое направление русской конспирологии. Для данного направления свойственна абсолютизация экономических аспектов «теории заговора». Особый интерес для нас в этом плане представляют такие работы, как сборник Г. В. Бутми «Золотая валюта» и сочинение А. Д. Нечволодова «От разорения к достатку». В центре внимания авторов находится финансовая система Российской империи, проблемы государственного кредитования, золотовалютных операций. Оба выступают в качестве противников монометаллизма (золотого стандарта), при котором золото становится эквивалентом и непосредственной основой денежного обращения. Из констатации того, что «в настоящее время, во всех цивилизованных государствах, кроме Мексики и Китая, деньгами признают только небольшие золотые кружки, имеющие международное обращение, определенного веса» {452} , следуют положения, перерастающие рамки политэкономической работы. Утверждается, что золотой стандарт не только служит препятствием для развития отечественной экономики, для нормального роста которой необходимы гигантские финансовые вливания, невозможные при наличии монометаллической денежной системы, но и является фактором социально-политической дестабилизации. Наличие «дорогих» денег тормозит рост экономики, что неизбежно приводит к росту социальной напряжённости, провоцируя радикальные революционные выступления.
Вопрос о золотом стандарте в авторской интерпретации становится отражением социально-политического противостояния, масштаб которого перерастает границы Российской империи: «В этой картине мы видим две партии: с одной стороны – небольшую группу международных торговцев деньгами, людей, обладающих только золотом,т. е. предметом, не имеющим никакогопрактического применения, кроме выделки из него мелких украшений и пломбирования зубов, а с другой стороны – огромные государства,обладающие землеюи сотнями миллионов населения, представляющего из себя гигантскую рабочую силу,т. е. обладающие обоимиисточниками, которые только и служат для производства всего земного богатства, могущества и прогресса» {453} . Возникает необходимость в более чёткой идентификации «небольшой группы международных торговцев деньгами», что приводит нас к еврейскому этносу.
Задаётся вопрос: «Каким образом жалкая раса, не давшая человечеству ни одной гениальной идеи, ни одного научного открытия, не приписавшая себе, даже в самоописании, ни одного великодушного подвига, каким образом эта презренная раса стала владычицею мира» {454} . Использование этническо-религиозной дефиниции для характеристики «первой партии» – еврейство, иудаизм, – остаётся лишь на уровне определения, не получая дополнительного развития в контексте работы. Этнические, религиозные аспекты «теории заговора» аннигилируются социально-экономическими факторами, в связи с чем определения «еврей», «иудей» приобретают отчётливо социоцентрический характер. Мессианские настроения внутри иудаизма, ранее трактуемые с религиозных, экзотерических позиций, оборачиваются вполне земными, рациональными действиями. «Пока государства Европы соперничали в военной доблести, избранный народ, исполняя заповедь Моисея, ссужал их деньгами, необходимыми на вооружения, достигая таким образом обещанного экономического господства – с одной стороны, с другой – давая людям средство взаимною резнёю очистить землю для терпеливых наследников человечества» {455} – раскрывает смысл эсхатологического аспекта иудаизма Бутми. Даже политические процессы – субстанция классических конспирологических концепций, оказываются производными экономической стороны жизни общества. «Силою денег Иудеи, чтобы отвлечь внимание общества от главной причины бедствия, выдвигают в подкупленной печати на первый план второстепенные вопросы внутренней политики, создают политические процессы и министерские кризисы» {456} .
В роли субъекта конспирологических теорий выступает русская интеллигенция, которая мыслится как особый продукт отечественного социально-исторического развития. Дискуссии о роли интеллигенции в нашей стране ведутся уже достаточно давно; диапазон её оценок невероятно и оправданно широк: от полного признания до полного же отрицания. Либерально-демократическая мысль всячески подчёркивает уникальность и позитивность самого бытия интеллигенции, как силы, выступающей поверх сословных, классовых барьеров, выполняющей духовную миссию в русском обществе. «Общим местом» стали ссылки на то, что феномен интеллигенции присущ только России, её специфическому историческому облику.
Отечественные конспирологические мыслители на всём протяжении XX века полностью солидарны в подобной трактовке, охотно признавая за интеллигенцией и «специфичность», и «феноменальность», правда, особого толка. Согласно их теоретическим построениям, интеллигенция обладает двойственной социально-онтологической природой. Во-первых, она является силой денационализированной и денационализирующей. Вот как об этом говорит В. Ф. Иванов: «Интеллигенция наши исконные начала отвергает, разрывает свою связь с народом и бежит “вон из Москвы” в Европу за чужими и чуждыми нашей жизни идеями» {457} . Во-вторых, будучи денационализированным субъектом социокультурной жизни России, она автоматически становится транслятором, посредством которого практически реализуется деятельность «тайных обществ». Заметим, что таким образом в интерпретации российских конспирологов в бытовании интеллигенции совмещается несколько аспектов. При этом, как правило, в качестве «тайного общества», эзотерически определяющего внутреннюю природу деятельности интеллигенции, выступает масонство.
В отечественных конспирологических моделях происходит фактическое отождествление масонства и интеллигенции. Достаточно известная работа Б. Башилова «История русского масонства» концептуально предваряется следующей трёхчастной формулой: «Россию и народ привела к гибели воспитанная масонством либерально-радикальная социалистическая интеллигенция. История русской революции – есть история передовой, либерально-радикально-социалистической интеллигенции. История либерально-радикально-социалистической интеллигенции есть по существу история масонства» {458} . Достаточно важным представляется то, что все дальнейшие страницы работы, кроме небольших исторических экскурсов в эпоху XVIII века, посвящены анализу специфики отечественной религиозно-культурной жизни. Центром внимания автора становятся имена Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, противостоящие, согласно авторской логике, «Ордену Русской Интеллигенции».
Для нас представляет особый интерес то, как позиционировала себя интеллигенция в начале прошлого столетия, как она, в явной или неявной форме, относилась к выдвигаемым отечественными конспирологами обвинениям в свой адрес. Для этого мы обратимся к фигуре Иванова-Разумника – влиятельного публициста и критика того времени. В своей работе «История русской общественной мысли» Иванов-Разумник пытается проследить эволюцию интеллигенции с конца XVEI по начало XX века. Прежде всего, автор оговаривает необходимость пересмотра сложившегося взгляда на природу самого феномена интеллигенции. Нравственному определению: «интеллигенция как совесть русского народа» – противопоставляется иной набор отличительных свойств интеллигенции. «Первым и главным из этих признаков является следующий: интеллигенция есть прежде всего общественная группа» {459} . Поэтому если отдельных интеллигентов мы можем найти в различные эпохи, начиная от Нила Сорского, то интеллигенция как социальная группа складывается к началу XVIII столетия. Главным её признаком становится оппозиционность по отношению к сложившимся социально-культурным институтам. Иванов-Разумник предлагает нам следующую дефиницию: «Интеллигенция есть этически – антимещанская, социологически – внесословная, внеклассовая, преемственная группа, характеризуемая творчеством новых форм и идеалов и активным проведением их в жизнь» {460} .
Отметим, что современная наука в своих оценках интеллигенции всё чаще обращается к такому её признаку, как «оппозиционность». «Одним из фундаментальных признаков русской интеллигенции является её принципиальная оппозиционность к доминирующим в социуме институтам. Эта оппозиционность прежде всего проявляется в отношении к политическому режиму, к религиозным и идеологическим установкам, но она может распространяться также на этические нормы и правила поведения и т. п. При изменении этих стандартов меняется характер и направленность, но не качество этой оппозиционности» {461} , – утверждает авторитетный отечественный исследователь. Постоянное противостояние лишает интеллигенцию возможности выработки позитивной программы, нацеленность на перманентную борьбу приводит к серьёзным смещениям в социально-этической картине мира, созданной деятелями русской интеллигенции.
Возвращаясь к анализу позиций Иванова-Разумника, обратим внимание на то, что понятие «мещанство», хотя первоначально и соотносится с этической сферой, в итоге приобретает выраженное политическое звучание. Мещанство, с одной стороны, отражает настроения наиболее «реакционной» части русского общества, отвергающей прогрессивные устремления интеллигенции. С другой стороны, мещанство трактуется расширительно, как российское государство, с присущими ему традициями и социально-культурными институтами. «Передовой отряд» русского общества включает в себя различные фигуры и сообщества, в той или иной форме вступавшие в конфликт с социальной системой: от масонов, декабристов, демократов сороковых годов до народовольцев и эсеров. «Начиная с Новикова и Радищева, беспрерывно шла борьба русской интеллигенции с Левиафаном государственности, а несколько позднее – и с Молохом общественности» {462} , – пишет Иванов-Разумник. Нетрудно заметить, что тем самым интеллигенция именно как социальная группа приобретает черты маргинальности, выносящие её за рамки русского социокультурного пространства.
Без особых натяжек можно говорить об имманентном присутствии в обозначенной критиком позиции некоторых черт конспирологического мышления. «Левиафаном», как мы знаем, в социально-философской мысли, начиная с Т. Гоббса, называют государство, со всеми его сложившимися институтами. Именно сила государства, включая его репрессивный аппарат, противопоставляется ситуации «войны всех против всех», что позволяет преодолеть хаос разнонаправленных частных интересов. Вводя обозначенную параллель, Иванов-Разумник фактически рассматривает интеллигенцию как группу, перманентно противопоставляющую себя обществу-государству, ставящую своей целью его уничтожение. В этом контексте «прогрессивный» русский критик фактически солидаризируется с «реакционной» позицией русских конспирологов. Естественно, что перед нами не частная позиция Иванова-Разумника, но обобщающее отражение мировоззрения интеллигенции, в целом принимающей и разделяющей подобную установку. Отметим и ещё один момент, связывающий социально-онтологическое пространство русской интеллигенции с конспирологическим мышлением. Речь идёт о своеобразном «культе жертвенности» как некотором маркере, выполняющем функцию инициации. Субъект приобретает статус «интеллигента», приобщаясь к реальному индивидуальному страданию или открывая для себя ущербность, несправедливость, «неправильность» социального мира и законов его бытия. Близкую картину мы наблюдаем и в конспирологии. Обнаружение скрытых механизмов социальных процессов является для сторонника «теории заговора» не просто гносеологическим актом, но причиной кардинального изменения его жизненного пути, приводит к своего рода «выпадению» из системы устоявшихся социальных связей, личных отношений.
Характерно в этой связи то, что именно А. С. Пушкин видится многим конспирологам как фигура, определяющая как контекстуальность, так и сущностную сторону русской «теории заговора». Лаконично сформулировал названную точку зрения тот же В. Ф. Иванов: «Масонство долгие годы гнало поэта, оно оклеветало его, заставило перенести нечеловеческие муки, оно же организовало предательское убийство и рукой подосланного из своей среды убийцы отняло у русского народа его вождя» {463} . Последние слова весьма важны для нас: отечественные конспирологи не только видят в Пушкине гениального поэта, но придают его личности социально-историческое измерение. Его трагическая гибель не только катастрофа для русской литературы, под ударом оказывается само русское общество. Подобная трактовка не утрачивает актуальности и поныне, причём находит поддержку не только среди сторонников «теории заговора». Обратимся в качестве примера к мнению известного современного философа Ф. Гиренка, который формально не является конспирологическим автором. Размышляя о путях развития русской литературы, он делает следующее замечание: «В России не всегда были партии. Раньше их заменяли масонские ложи. Их знаки и сегодня можно встретить везде, даже в Кремле и Донском монастыре. Кругом циркули, мастерки и глаза, вписанные в треугольник» {464} . Далее масонская тема соединяется с биографией поэта: «В окружении Пушкина, пожалуй, только Арина Родионовна не была членом тайного сообщества. Отец – масон. Дядя – масон. Друзья-декабристы – масоны. Хромой Тургенев, как и его брат, – тоже масоны» {465} . Философ не просто констатирует большое количество масонов непосредственно вокруг поэта. «Масонское окружение» Пушкина детерминирует конфликт, начавшийся как мировоззренческий, а впоследствии развившийся в политическое столкновение. Поэту противопоставляется друг его юности – П. Я. Чаадаев. Особо отмечается, что автор «Философических писем» состоял в близком родстве с М. М. Щербатовым – известным русским историком и писателем. Принадлежа к масонству екатерининской эпохи, Щербатов в своём романе «Путешествие в землю Офирскую» описывает некое идеальное государство, принципы устройства которого явно соотносятся с масонскими идеалами.