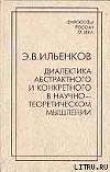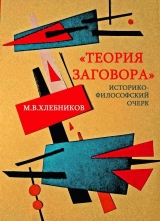
Текст книги "«Теория заговора». Историко-философский очерк"
Автор книги: М. Хлебников
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
Тут молодцы до девиц устрояют хоры,
Взыграют в скрыпицы, ударят в волторы,
Там пляшут и танцуют быстрыми ногами,
И друг друга целуют, объемля руками;
Садятся их общества все за стол едины,
Проводят торжество, пия разны вина… {314}
Этот зачин находит своё продолжение в последующих описаниях. Кроме предосудительных плясок «быстрыми ногами», масоны обвиняются в чревоугодии, сексуальных перверсиях (гомосексуализм, инцест, групповой секс). В подобных красочных описаниях антихристианская сущность масонства практически полностью поглощает возможный конспирологический подтекст произведения. В итоге антимасонская конспирология сводится к хорошо знакомому нам отечественному культурному антизападничеству XVIII века.
Следует напомнить, что социокультурный вектор данной эпохи был определён реформами Петра, движением к культурной и политической вестернизации. Поэтому антимасонские настроения следует рассматривать в большей степени как реакцию на ещё одно «вторжение» европейской культуры, чем как проявление «теории заговора». Антиевропейское, протославянофильское движение самоидентифицировало себя в двух направлениях. С одной стороны, утверждалась концепция самобытного пути развития России (полемические выступления М. В. Ломоносова против диссертации Г.-Ф. Миллера «О происхождении имени и народа российского», трактат В. К. Тре-диаковского «Три рассуждения о трёх главнейших древностях российских», труды И. Н. Болтина). С другой стороны, противодействие экспансии западной культуры во многом формировалось как борьба с галломанией, в контексте которой франкмасонству отводилась немалая роль, но не конспирологического, а по большей части социокультурного характера. Сатирико-иронические выпады царствующей писательницы в адрес масонства имеют несколько иной источник, но тоже не конспирологического характера и связаны, скорее, с общей просвещенческой установкой екатерининской эпохи. Масоны здесь предстают в роли шарлатанов и обманщиков, дурачащих простодушных обывателей, дополняя хорошо нам знакомый ряд фонвизинских типов.
Ситуация изменилась коренным образом после июля 1789 года. Поначалу восприняв революционные события в Париже достаточно спокойно, так как в политическом аспекте ослабление Франции, мягко говоря, не противоречило российским интересам, Екатерина II, спустя короткое время, начинает проявлять беспокойство. Объясняется это тем, что революционные настроения, не ограничиваясь территорией Франции, начали с опасной скоростью распространяться по всей Европе. Тогда и появляется конспирологическая трактовка Французской революции. В работе видного дипломата екатерининской эпохи, посла в Варшаве Я. И. Булгакова «Записки о возмущении Польши» уже утверждается следующее: «В Европе, по-видимому, учинили уже заговор всех обществ и возмущения всенародного спокойствия» {315} .
Ещё более острой была реакция на известие о казни Людовика. Вот как об этом говорит статс-секретарь Екатерины II А. В. Храповицкий: «С получения известия о злодейском умерщвлении Короля Французского, её Величество слегла в постель, и больна и печальна» {316} . Совокупность всех этих факторов привела к ужесточению политики в отношении масонства и масонских организаций в Российской империи. Возникает своего рода масонский психоз, выразившийся, в частности, в том, что к известным обвинениям в адрес А. Н. Радищева («бунтовщик хуже Пугачёва») было своевременно добавлено обвинение в том, что автор «Путешествия из Петербурга в Москву» принадлежит к ложе мартинистов {317} . «Теоретическим» основанием и одновременно подтверждением подобных тревог послужили весьма оперативные переводы живых классиков антимасонской литературы: Баррюэля и Робайсона. Первому из них выпала честь быть переведённым сразу в двух вариантах {318} , что свидетельствует, по крайней мере, о живом интересе к обозначенной теме русского, весьма немногочисленного в то время, культурного сообщества. Репрессии затронули и Н. И. Новикова, ставшего в глазах своих современников (да и потомков) жертвой излишней подозрительности Екатерины.
Теперь необходимо определиться с выводом: являются ли антимасонские настроения и политические репрессии в отношении деятелей русского Просвещения условиями, позволяющими нам говорить о возникновении конспирологического дискурса в отечественном социокультурном пространстве на переломе XVIII-XIX веков?
Подобное утверждение будет не совсем верным. Наше предположение основывается на следующих аргументах. При всех внешних признаках конспирологического дискурса – мы имеем дело с несколько иным явлением. Объяснение этому находится в характере бытования масонства на отечественной почве. Первые масонские организации возникают в России ещё в 1731 году, но состоят целиком из англичан, живущих в России. Вплоть до начала 60-х гг. XVIII в. масонство не имеет широкого распространения, являясь экзотическим продуктом для русского общества. Так, достоверно известно, что в период 1741-1750 гг. подтверждается существование только одной ложи, носящей символическое название «Скромность», основанной в 1750 году в Санкт-Петербурге. В последующее десятилетие, также в столице, возникает ещё одна ложа – «Три звезды».
Если учитывать, что с 1741 по 1792 г. в России было открыто 66 лож, то естественным будет говорить о всплеске масонской активности во второй половине XVIII века. Ситуация коренным образом изменяется как раз с восшествием на престол Екатерины П. При ней процесс создания новых масонских лож значительно активизировался. Приведём опять-таки некоторые цифры. Только в 1771– 1776 гг. было основано 16 лож различных систем. Особенностью русских масонских организаций было присутствие в них большого числа иностранцев. По подсчётам Т. А. Бакуниной, на 1731 русского приходилось 1536 иностранцев, что свидетельствует о высокой степени интегрированности русского масонства в международную масонскую систему. С другой стороны, эти данные могут указывать лишь только на то, что масонство представляло собой некий вариант «клуба» для иностранцев, находившихся в России. Для конспирологии же необходим элемент двойственности, о котором мы уже говорили: субъект заговора не должен обладать внешней конспирологической природой. Напротив, он должен приспособляться к социальному окружению, представляя собой его усреднённый элемент.
Несомненно, что политика терпимого отношения к масонству Екатерины II объяснялась несколькими причинами практического характера. Во-первых, она соответствовала желанию императрицы играть большую роль в жизни Европы, налаживая тем самым неформальные связи, без которых невозможна любая долговременная политика. Во-вторых, масонство в те десятилетия, как мы показали это на примере Франции, становится модным в европейских державах. Екатерина, заботившаяся о своём реноме просвещённой императрицы, не могла не учитывать данный фактор. Возникает вопрос: насколько глубоко масонство укоренилось на русской почве, затронуло различные социальные, политические, культурные основы? По данным той же Бакуниной, социальный состав русского масонства конца XVIII – начала XIX века был следующим. Всего количество русских масонов определяется в 3267 человек. Данные отсутствуют о 435 из них. Самую большую социальную группу – 1078 чел. – составляли военные. Далее по численности шли чиновники различных ведомств – 513 чел. Социальная группа, которую мы сегодня называем интеллигенцией (учёные, литераторы, преподаватели, музыканты, художники), была представлена 501 человеком. Высшими государственными чиновниками были ПО масонов. Наконец, 34 персоны являлись придворными {319} .
О том, что масонство не представляло для наших соотечественников XVIII в. социокультурной ценности, свидетельствуют следующие, несколько курьёзные, но показательные факты. П. И. Меллисино, один из старейших и самых уважаемых масонов, лично от императрицы получает указание о запрете масонской ложи. Не впадая в отчаяние, заслуженный артиллерийский генерал «учредил под своим председательством “Филадельфийское общество”, которое составилось из молодых столичных развратников и имело целью предаваться всевозможным беспутствам» {320} , и которое мало чем отличалось от уже существовавшего в то время скандально известного «Евиного клуба». Последний представлял собой откровенную пародию на тайные общества. Оргиастическое бытование клуба подкреплялось пародийным же «теоретическим» обоснованием: дворянам необходимо поддерживать чистоту крови, поэтому сексуальные излишества в хорошем обществе способствуют лишь сохранению благородного со словия {321} . Другие источники дают не менее отчетливые примеры «трепетного» отношения русских масонов к масонским обрядам и традициям. Сенатский канцелярист Ильин так описывает один из эпизодов кутежа, кстати, что характерно, с участием полицейского офицера: «Были все пьяны от пунша и шалили много, из комнаты Осипова, тут же на дворе в стоящие пустые покои шли церемонией, иной в каф тане, а иной без кафтана. Передний с чашей, наполненной пуншем, а за ним идущий – с лимонами, с ложкой и с сахаром, потом третий с чашками» {322} .
Та легкость, даже легкомысленность, с которой и вполне авторитетные русские масоны отказывались от своих «убеждений», пародийно обыгрывали высокие масонские ритуалы, убедительно доказывает тот факт, что для подавляющего числа членов участие в масонском движении было не более чем кратковременной модой или средством ускорения карьерного роста. На это указывает в отдельном положении своей докторской диссертации Г. В. Вернадский: «Масонские ложи, представляя организацию взаимопомощи братьев, были, до известной степени, организацией чиновничества, обеспечивая братьям быстрое восхождение по служебной лестнице» {323} . Таким образом, находит объяснение факт большого присутствия среди масонов представителей чиновничьего сословия, скорее всего, игнорировавших потенциальную конспирологическую природу деятельности масонства.
Исходя из сказанного, мы можем не согласиться со словами современного западного исследователя: «Наверное, нигде в Европе масонство не сыграло такой большой роли в развитии культурной жизни на протяжении целых трёх, а то и четырёх поколений, как в России» {324} . Ссылки на бедность и невыразительность отечественной культуры или на «отсутствие православных богословских и пиетистских сочинений, написанных доступным мирянину языком и стилем, которые бы обладали достаточной научной строгостью или эмоциональной глубиной» {325} , также вызывают недоумение. В качестве возражения можно задаться вопросом: насколько масонство обогатило «бедную и невыразительную» отечественную культуру? Насколько вообще была актуальна потребность в «научных» и одновременно «эмоциональных» пиетических сочинениях? На наш взгляд, в этом случае мы сталкиваемся с типичной социокультурной аберрацией. Объяснение формально схожих явлений базируется на единственном положении универсального характера, реально обладающего локальной истинностью. Перечисленные английским исследователем социокультурные приметы являются абсолютно правильными при их применении к условиям западноевропейских социумов. Действительно, пиетические богословские искания свойственны Европе того времени, особенно её протестантской части, что и способствовало развитию масонства.
Участие интеллигенции XVIII века в масонстве, а здесь фигура Новикова является достаточно типической и символической, имеет двоякое объяснение. С одной стороны, «разночинное» сословие стремилось выйти за границы своей социальной страты, приобрести полезные знакомства, потенциальных покровителей и меценатов. В то же время не следует забывать о том, что, употребляя понятие «интеллигенция» в контексте социокультурной ситуации екатерининской эпохи, мы совершаем сознательное упрощение, ибо интеллигенции как таковой ещё не возникло. То есть, в отличие от Западной Европы, в России в тот период не существовало мощных интеллектуальных объединений, с присущей им внутренней коммуникационной структурой, сформировавшимся социально-политическим дискурсом. Поэтому и «тайные общества», и, главное, реакция на их существование в отечественном культурно-политическом климате коренным образом отличались от европейских социокультурных процессов.
Обратимся теперь более подробно к причинам ареста и последующего заключения Н. И. Новикова и попытаемся понять, насколько они отражают конспирологические настроения тех дней. Напомним, что Новиков сыграл важнейшую роль в культурном развитии России и как издатель сатирических журналов, и как книгоиздатель, благодаря усилиям которого книги стали доступны более широкому кругу читателей. Но кроме просветительской и книгоиздательской деятельности, Новикова интересовали проблемы духовно-нравственного плана. Духовные искания приводят Новикова к И. Г. Шварцу, видному масону и деятелю русского Просвещения. Уже вместе они составляют нечто вроде плана культурно-религиозной деятельности. План включал в себя следующие моменты: «1) делать общеизвестными правила хорошего воспитания; 2) издавать полезные книги. Поддерживая тем и типографское предприятие Новикова; 3) выписывать из-за границы способных учителей или, что ещё лучше, -воспитывать русских преподавателей» {326} .
Внешне обвинения были построены на том, что новиковская типография выпустила «Историю о страдальцах соловецких», анонимное сочинение, посвященное движению раскольников, которые описывались в сочувственных тонах. Именно данное издание послужило причиной Указа Екатерины князю А. А. Прозоровскому о проведении обыска в домах, принадлежащих Новикову, на предмет выявления там подпольной типографии {327} . Симптоматично, что вопрос об издании «Истории…» даже не поднимался во время следствия, исполнив свою роль, он оказался неактуальным.
Репрессии против масонов, в частности московского кружка Новикова, находят своё объяснение в том, что часть русских масонов, включая Новикова и сподвижников, были втянуты в сложную дворцовую интригу, включающую «закулисную» борьбу Екатерины со своим сыном, будущим Павлом I. В этой борьбе масоны играли принципиально подчинённую роль, выполняя чаще всего второстепенные задания, о сущности которых сами не имели ясного представления. Так, в своих сношениях с двором Фридриха-Вильгельма Павел активно использует в качестве курьеров видных масонов М. И. Багрянского и А. М. Кутузова. Поэтому мы не можем не согласиться со словами Г. В. Вернадского о том, что «сношения с цесаревичем и его берлинскими друзьями, конечно, и погубили Новикова, подвергнув разгрому весь кружок» {328} . Центральное место в допросах Новикова (мы можем судить о них по сохранившимся протоколам) занимают темы, связанные с его контактами с опальным цесаревичем. В контексте связей с Павлом всплывают вопросы, как сейчас говорят, о легитимности источников доходов Новикова и его компаньонов. Естественно затрагиваемые масонские темы не привлекают внимания следователей, для которых куда более важными остаются темы дворцовых и околодворцовых интриг.
Обратим внимание также на особенности мировоззренческой позиции русского масонства. Выше мы уже отмечали, что для значительного количества лиц участие в масонстве объяснялось соображениями карьерного или даже развлекательного характера. Но как выглядела ситуация с теми, кто руководствовался в масонской деятельности идейными принципами и устремлениями? Любопытные факты открываются при рассмотрении тех источников, которые формировали мировоззренческие позиции русских масонов. Так, состав библиотеки известного русского масона И. П. Тургенева открывает совсем неожиданную сторону его интересов. Тематика и содержание работ, представленных в библиотеке, весьма существенно изменяют наши представления о русских розенкрейцерах как о типических представителях отечественного Просвещения, с присущими им антиклерикальными тенденциями. Значительная часть библиотеки содержит сочинения католических иезуитских авторов. При этом тематика работ достаточно разнообразна: от католической апологетики, мистических сочинений до книг дидактического и морально-нравственного характера. Среди авторов явно выделяются такие фигуры, как оппонент Вольтера – аббат Ноннот, а также Ж. Н. Гру, Б. Бодран, Ж. Рейра.
Намеренности подобного подбора литературы противоречит, однако, то, что часть книг – это подарки, сделанные лицами одного с И. П. Тургеневым идейного круга. Например, сочинение Жана Николя Гру «Черты истинного благочестия» было подарено Тургеневу известным масоном И. П. Лопухиным. В совокупности подобные факты свидетельствуют о мировоззренческой открытости русских розенкрейцеров различного рода духовно-религиозным объединениям, об отказе от узкой партийной закрытости. Нельзя не согласиться в данном контексте со словами современного отечественного исследователя по поводу идейных особенностей русских мистиков Новиковского кружка: «Основа духовного облика подобного типа – настойчивый и неуклонный поиск “крупиц истины”, разбросанных в многообразных явлениях действительности, открывающихся сознанию. Многогранность религиозных интересов московских масонов, обращенных практически ко всем направлениям современной им религиозной мысли, средневековью, тайным учениям, – весьма интересное явление, заслуживающее интерпретации и изучения» {329} .
Совокупность изложенных доводов даёт нам возможность говорить об отсутствии конспирологического дискурса в конце XVIII столетия. Антимасонские репрессии находят своё объяснение в конкретных политических событиях того времени. Конечно, хронологическое сопряжение личной борьбы Екатерины с Павлом с европейской реакцией на Французскую революцию было оперативно использовано первой. Но в данный период общественное сознание не связывает масонские организации с тайными обществами как таковыми. Само отечественное масонство весьма негативно восприняло не только эксцессы в ходе революции, но и идеологическую составляющую французских событий. Один из лидеров русского масонства, уже упомянутый И. В. Лопухин в 1794 г. издаёт работу, название которой точно отражает её содержание – «Излияния сердца, чтущаго благодать единоначалия и ужасающегося, взирая на пагубные плоды мечтания равенства и буйной свободы». Равнодушие к прелестям «буйной свободы» в среде русского масонства заставляет даже авторов, подчёркивающих её социально-политическую активность, признать следующее: «Исследователи единодушны в том, что идеи эмансипации крепостных и введения демократических учреждений были чужды русскому масонству Екатерининского времени» {330} . Все приведённые примеры служат убедительным доказательством отсутствия в отечественном социокультурном пространстве
XVIII столетия конспирологического сознания. Даже такой потенциально продуктивный объект «теории заговора», как масонство, не стал детонатором для развития отечественной конспирологии. По этому следует обратиться к анализу следующего за этим веком пери ода и попытаться обнаружить истоки отечественной конспирологии в XIX веке.
Больший интерес вызывают события в начале 1831 года, имевшие место на самом верху российского общества. Именно тогда князь А. Б. Голицын подаёт на имя Николая I доклад о тайных обществах, действующих в Российской империи. Нельзя сказать, что данный факт не вызывал интереса со стороны исследователей как прошлого, так и настоящего времени. Н. Шильдером ещё в конце XIX века были опубликованы важные материалы, касающиеся при чин и последствий доклада Голицына. Среди современных работ на эту тему отметим публикации того же А. Зорина и фундаментальный труд Я. А. Гордина «Мистики и охранители». Предваряя непосредственный анализ концептуальных построений одного из первых отечественных «конспирологов», следует обратиться к особенностям эпохи начала XIX века, без учёта которых наше исследование не может считаться полным.
Князь Александр Борисович Голицын принадлежал к одному из знатнейших родов страны, давшему истории многих выдающихся деятелей (фельдмаршал М. М. Голицын, глава Верховного Тайного Совета Д. М. Голицын). Сам А. Б. Голицын также входил в элиту того времени. Участник Отечественной войны, генерал-майор и, наконец, флигель-адъютант, он был весьма заметной фигурой александровской, а затем и николаевской эпохи. Как отмечают современники, князь отличался религиозностью и склонностью к мистицизму {331} . Мистицизм, сыгравший не последнюю роль в событиях 1831 года, в первой трети XIX века не был явлением исключительным для социокультурного климата российского общества. Сама фигура Александра I, особенности его личности, способствовали подъёму интереса к различного рода мистическим и оккультным учениям и концепциям. Будучи человеком космополитического образования, не стремившимся поддерживать национальную форму религии, Александр объективно способствовал неофициальной или полуофициальной реабилитации масонства в России, находившегося под запретом после Французской революции. С другой стороны, сам государь испытывал живейший интерес к мистико-оккультным учениям той поры.
Среди писателей-мистиков, произведения которых находят распространение и адептов в России, мы можем встретить как известные и в наше время имена Я. Бёме, Сен-Мартена, Эккартсгаузена, так и авторов, не переживших своей эпохи: Гийон, Мамбрини, Юнг-Штиллинг. Подобные настроения получили естественное своё усиление после Отечественной войны. Как пишет исследователь данной проблематики XIX века И. А. Чистович: «В девизе, принятом им (Александром I. – М.Х.)после этих событий и изображённом на победной медали в память 12 года (не нам, не нам, а имени Твоему), он прямо выражал, что считает себя только орудием, посредством которого действовала высшая божественная сила» {332} . Обратимся к персональному ряду русского мистицизма начала XIX века, чтобы наиболее ясно представить его основные тенденции, которые отличались вполне объяснимой разнонаправленностью.
Наиболее известными мистиками александровской эпохи являются А. Ф. Лабзин и А. Н. Голицын. Первый занимался распространением книг (Эккартсгаузен, Шиллинг, Бёме) и журналов мистического характера, в частности недолгое время выпускал журнал «Сионский Вестник», имевший, несмотря на то, что вышло всего девять номеров, шумный успех в «мистических кругах». Лабзин представлял собой тип чистого мистика, основной задачей которого было «нравственное совершенствование человечества», посредством достаточно вольной трактовки христианства. С совсем иным примером мы сталкиваемся при обращении к фигуре А. Н. Голицына. В отличие от Лабзина, игнорировавшего государственную службу (должность вице-президента Академии художеств являлась, безусловно, синекурой), обер-прокурор Синода и главноуправляющий духовными делами иностранных исповеданий князь Голицын обладал ярко выраженными административными способностями. Сочетание религиозной экзальтированности с практической деятельностью достаточно быстро принесло свои плоды. В 1812, знаковом для русской истории, году в Россию по поручению Английского библейского общества прибывает пастор Паттерсон. Результатом его работы стало учреждение в том же году Библейского общества в России. Членами комитета для управления делами общества избираются, помимо его президента – Голицына, влиятельнейшие лица Российской империи. Это В. П. Кочубей, министр народного просвещения А. К. Разумовский, министр внутренних дел О. П. Козодавлев, С. С. Уваров и др. Членом общества становится и Александр I, оказавший ему серьёзную материальную поддержку. О размерах поддержки Библейского общества со стороны монарха красноречиво свидетельствует одна только сумма помощи, оказанной в 1816 году: 30 тысяч рублей.
Основной идеей общества, помимо распространения экуменических взглядов, декларировалась необходимость «при издании книг священного писания на разных языках держаться текстов, употребляемых по правилам того или иного вероисповедания, без всяких пояснений или комментариев, которые неизбежно носили бы вероисповедный отпечаток» {333} . Неизбежно, что столь активная просветительская деятельность порождала не только желание ознакомиться с текстами Библии, лишёнными конфессиональных комментариев, но и более чем осторожное отношение со стороны весомой части русского общества.
Одними из первых проявлений конспирологических настроений в эпоху царствования Александра I, его либерального периода, становятся два рапорта полковника В. И. Дибича. Оба написаны в 1816 году в Мейсене, первый отправлен фельдмаршалу Барклаю де Толли, второй – начальнику генерального штаба русской императорской армии И. И. Дибичу, родному брату автора. Оба рапорта свидетельствуют об острой социокультурной реакции со стороны умеренно консервативно настроенных кругов российского общества на либеральные веяния той эпохи, сопряжённой с усилением контактов, после войны 1812 года, между Россией и Европой. Подобные контакты имели место, прежде всего, в армейской среде, которую Дибич считает наиболее восприимчивой к различного рода подрывным влияниям. Ситуация же, сложившаяся в европейских армиях, внушает самые серьёзные опасения. Дибич приводит следующий пример: «Офицеры королевской прусской гвардии будто бы также открыто утверждали, что государи не нужны и что состояние мировой культуры настоятельно требует учреждения республики» {334} .
Неизбежным последствием данной ситуации является возникновение тайных обществ в армейской среде по образцу европейского масонства. Именно масонство Дибич помещает в центр своей конспирологической теории. Масонство обвиняется в том, что его цели и задачи намеренно скрыты от непосвящённых, за нарочито изощрённой символикой масонства открываются не филантропия и безобидное увлечение мистицизмом, но социально-политическая доктрина революционного толка. Предлагается собственная, Дибича, трактовка масонской риторики. «Он освобождает элементарное тело человечества (государство) от нечистых побуждений (система верховной власти). Душу человечества (дух времени) он просвещает (отдаёт под влияние союзников)». {335}
Рисуется апокалипсическая картина мирового заговора, берущего своё начало в добиблейские времена, что косвенно указывает на инфернальный источник мирового неблагополучия. Участниками мирового заговора становятся: «майосы, жрецы, софосы, брамины, левиты, платоники, иоанниты, франкомасоны, иезуиты, цинцендорфы, обсерванты, сведенборгиане, розенкрейцеры, иллюминаты, азиатские братья, африканские братья, кармелиты, шотландские каменщики и тугенбунд» {336} . Нетрудно заметить, что автор соединяет несоединимое, объявляя заговорщиками непримиримых соперников, например, иезуитов и масонов, или причисляя к последним браминов с платониками. Впрочем, оговаривается некоторое «диалектическое противоречие», выявленное им в генезисе тайных обществ. Оказывается, что в начале существования некоторые тайные общества ставили перед собой достаточно позитивные, даже «нравственные цели». Дибич пишет: «Мир обязан тайным обществам, главным образом, сохранением чистой нравственной философии, основанной на всепрощающей любви к человечеству в такие времена, когда фанатизм, нетерпимость, суеверие <…> увлекали человечество со стези всеобщего благополучия» {337} . В этом моменте своих рассуждений Дибич «предугадывает» логику объяснения генезиса тайных обществ в более поздний период исследования конспирологии.
К сожалению, увлечение конспирологической составляющей приводит к постепенному вымыванию нравственного начала, цели и задачи трактуются всё более туманно и неопределённо, что даёт возможность свободно манипулировать умонастроением и действиями членов тайных обществ. К тому же после пришествия Христа тайные общества, пусть с благими намерениями, пытаются не только дублировать путь спасения, но зачастую противопоставлять себя истинному спасению. Стремясь изменить данную негативную тенденцию, но одновременно учитывая богатый опыт деятельности тайных обществ, Дибич предлагает использовать их для пропаганды вне Европы, там, где христианство ещё слабо или где оно встречает сопротивление.
Ситуация некоторым образом претерпела изменения в начале 20-х годов XIX века, что связано с изменившимися политическими реалиями тех дней. Влияние Меттерниха способствовало определённому «поправению» взглядов Александра, что выразилось в более пристальном внимании к различным полулегальным обществам (масонские, литературные). Большой интерес в этом контексте вызывают документы, относящиеся к деятельности маркиза Ф. О. Пауллучи – генерал-губернатора Лифляндского и Курляндского. Отвечая на письменный запрос князя П. М. Волконского по поводу учреждения в Риге масонской ложи, Паулуччи фактически предлагает собственную интерпретацию «теории заговора». В своих докладных записках он выделяет две разновидности существовавших на тот день тайных обществ. К первым он относит легальное масонство, характеризующееся как объединение, ставящее перед собой цели исключительно морально-нравственного порядка. Отношения с государственной властью у подобных масонских лож строятся на принципах открытости и подчинения. Примером тому служит реакция руководителей остзейской ложи на её запрет. Маркиз пишет: «Я счёл своим долгом пригласить директоров помянутых лож, для дачи обязательств в прекращении работ оных, впредь до нового приказания. С их стороны получено мною формальное заявление, что они поспешили исполнить это приказание, и постараются, чтобы оное сделалось известным только тем, кого касается» {338} . Такое положение дел объясняется, прежде всего, социальным составом прибалтийских масонских лож, включающих остзейское дворянство и местную буржуазию.
Куда больше беспокойства Пауллучи выражает по поводу другой социальной группы – научного сообщества. Здесь он особо выделяет такой крупный научный центр, как Дерпт, аттестуя его как «учёную республику», пропитанную духом либерализма. Особо подчёркивается, что воздействие «учёной республики» сконцентрировано на учащейся молодёжи. «Эта учёная республика, находясь, по организации своей, в полной независимости от губернских властей, образует особое государство, которое, однако, не в состоянии прямо нарушать существующий порядок, но по примеру многих германских университетов, ограничивается подготовкою обучающегося там юношества к восприятию утопических идей» {339} .
Затем автор отходит от непосредственного первоначального предмета своего доклада и пытается создать некоторую схему понимания действий и целей тайных обществ. Прежде всего, обращается внимание на широчайшее распространение тайных обществ в Европе, из которой они и проникают в Россию. Это напрямую является следствием деформации религиозных институтов современной Пауллучи Европы, детерминировавшей возникновение различного рода религиозных и псевдорелигиозных объединений. Первые, реагируя непосредственно на религиозный кризис и руководствуясь живым религиозным чувством, пытаются найти выход из сложившегося положения, инициируя создание новых или обновление старых культов. К этому направлению относится традиционное масонство.