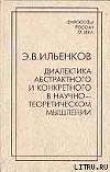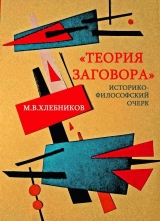
Текст книги "«Теория заговора». Историко-философский очерк"
Автор книги: М. Хлебников
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Сам Чаадаев, будучи, таким образом, «потомственным масоном», обрушивается с критикой на православие, считая его причиной отторжения Россией европейского пути развития, связанного с католицизмом. Для Пушкина подобный взгляд на русскую культуру и историю оказывается неприемлемым. Его мировоззрение и политические установки всё более смещаются к пониманию империи как единственно возможной форме бытования русского общества. Из внутренней, личностной убеждённости складывается выраженная политическая позиция: «Пушкин написал “Клеветникам России” на взятие Варшавы русскими войсками. Масоны всполошились, заёрзали как пауки в банке, проведя заседания своих лож, подготовив реакцию общественного мнения» {466} . Тем самым конфликт поэта со своим окружением перерастает рамки субъективности и, по сути, становится определяющим в столкновении России с западным миром.
Итак, в качестве предварительного итога, мы можем говорить о значимом отличии отечественных конспирологических построений от западных образцов. Сущность подобного отличия заключается в культуроцентричности русской «теории заговора». Здесь куда больше внимания уделяется не социально-политической стороне деятельности тайных обществ, а их влиянию на этическую и культурную сферы русского общества. Обратим внимание, что, например, во французской конспирологической традиции отсутствует интерес к тому же А. Шенье. Отсутствует, хотя его судьба более чем соответствует парадигме «теории заговора» с её культом «невинной жертвы», гибель которой может быть адекватно воспринята и интерпретирована лишь в контексте «скрытой истории».
Пушкин, как известно, «ответственный за всё в России», интересен нам в несколько ином контексте. Гениально выразивший и прочувствовавший русский национальный тип мышления, поэт не раз обращался в своём творчестве к осознанию возможности взаимопостижения России и Запада. Для нас особенно интересно здесь его стихотворение «Не дорого ценю я громкие права», в котором дано поэтически очень точное выражение этой проблемы. Процитируем первую половину стихотворения:
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура,
Всё это, видите ль, слова, слова, слова,
Иные, лучшие, мне дороги права…
Пушкинскому осознанию проблемы, как мы видим, чужда одномерность толкования. Он далёк от плоского антилиберализма. Его привлекают более глубокие пласты, в каком-то смысле – архетипы, различающие Россию и Европу. Различие это, как подчёркивает поэт, имеет отношение к вербально-бессознательному уровню, тому уровню, что формирует аксиологическую сферу. Мы видим не неприятие либеральных норм и ценностей (свобода слова, печати и т. д.), а отказ воспринимать их в качестве ценностей как таковых.Последующая история России подтвердила правоту пушкинских слов. Общественные силы, позиционирующие себя либеральными, провозглашая примат соответствующих либеральных ценностей, реально демонстрируют не только пренебрежение к самим либеральным институтам, но откровенный тоталитаризм мышления.
С этой точки зрения нам представляются крайне любопытными мемуарно-исторические очерки «Охрана и антисемитизм в дореволюционной России» А. И. Спиридовича {467} – жандармского генерала, непосредственно связанного с окружением Николая II в период между двумя русскими революциями. Говоря о непростой политической ситуации, сложившейся в то время, автор особо подчёркивает достаточно спокойное отношение последнего русского царя к конспирологическим схемам как таковым. Признавая возможность и реальность практического объяснения при помощи элементов политического заговора конкретных социально-исторических событий, Николай II, как и его двор, всё же не принимали «теорию заговора» в качестве парадигмы социально-исторического мышления и не пытались её использовать для манипуляции общественным сознанием.
Здесь следует обратить внимание и на то, что «Протоколы сионских мудрецов», хотя и были изданы в канун первой русской революции, остались практически невостребованными даже в идеологических построениях крайне правых. Подлинная известность к ним пришла уже после революционных событий 1917 года. Парадоксальна, но в то же время закономерна и объяснима с позиций нашего подхода география распространения «Протоколов сионских мудрецов»: Германия, Франция, Великобритания, США. Все эти страны, кроме Германии, являясь победителями в Первой мировой войне, не должны были испытывать чувство социального дискомфорта, выраженное в поиске внешних и внутренних врагов, о чём нам говорят представители неофрейдистского подхода. Здесь уже вступает в силу закон компенсаторности,центральным содержанием которого выступает уже не объяснение отдельных, хотя и ярких, эпизодов исторического потока, но формирование целостного представления о социокультурной динамике, заданной «теорией заговора».
За несколько лет до начала Первой мировой войны вопросами, связанными с «теорией заговора», помимо любителей конспирологов, начинают заниматься профессионалы. Генерал-лейтенантом П. Г. Курловым – командиром Отдельного корпуса жандармов было организовано комплексное изучение масонства. Непосредственно сбором материала занимался подполковник Г. Г. Мец. Изучение масонского вопроса вдохновило Меца на написание «Краткого исторического очерка происхождения масонства». Объёмное сочинение «жандармского знатока масонства» (определение П. Е. Щеголева), несмотря на его название, большей частью посвящено подробному пересказу масонских ритуалов, символики, степеней посвящения, различий между ложами. Даётся подробное описание 33 степеней «старошотландского» посвящения.
Что касается собственно генезиса масонства, то здесь Мец, повторяя сформировавшиеся к тому времени основные тезисы «теории заговора», возводит его к дохристианской и христианской эпохам. «Масонству в настоящем его виде предшествовали первоначально противохристианские секты и тайные общества, принципы которых и были главным образом заимствованы современными масонами» {468} . Основными этапами формирования масонства являются: гностические секты, средневековые еретические движения (альбигойцы, богомилы), орден тамплиеров, социанисты. Деятельность масонов имеет, безусловно, негативные последствия для любых типов государств: как либеральных, так и традиционных.
Другой формой практической деятельности Департамента полиции становятся попытки установить контакты с зарубежными конспирологическими центрами. Именно с этой целью в 1910 году за границу был отправлен в «научную командировку» Б. К. Алексеев. Среди главных задач поездки значилось налаживание связи с Антимасонской ассоциацией аббата Турмантена, издававшего конспирологический журнал с грозным названием «Франкомасоны без масок». Доклады Алексеева Курлову дают нам адекватное представление как о характере деятельности европейских конспирологов начала XX века, так и, что намного важнее, о восприятии этой деятельности в России.
Желая произвести на посланца Департамента полиции сильное впечатление, Г. Сулакруа, один из соратников аббата, следующим образом описывает уровень осведомлённости Турмантена: «Ему служит громадная сеть надёжных агентов, надёжность которых он успел проверить за 20-летнюю свою деятельность. <…> В настоящее время состояние агентуры Турмантэна блестяще: нет ни одного масонского установления, где бы у него не было заручки; у него существуют ходы даже к ультрасекретным постановлениям верховного масонства» {469} . Обладая подобной сетью информаторов, Антимасонская ассоциация, хотя специально и не занимающаяся проблемой масонства в России, в состоянии, по мнению её главы, собрать необходимые сведения. В обмен аббат просил немногое: 500-550 тысяч франков и «был бы крайне счастлив получить от правительства какой-либо русский орден» {470} . Подобная крупная сумма необходима для подкупа помощника секретаря Великой ложи Франции, что, видимо, даст доступ антимасонам к ещё более «секретным» материалам. Турмантен составляет обращение к Николаю II, характер которого легко определить по его мелодраматическому началу: «Государь, франкомасонство сделало французскую революцию и погубило династию. Франция – жертва этой тёмной секты, которая испортила духовное состояние нашей несчастной страны. Кажется, что сейчас франкомасонство направило свои усилия против России» {471} . Аббат подчёркивает, что масонство переходит в решающее наступление на последний оплот монархии в Европе, санкционировав открытие множества лож внутри России. Несмотря на весь пафос, обращение не производит на адресата должного впечатления, контакты с Турмантеном замораживаются, естественно, что вопросы о денежном вознаграждении и «каком-либо русском ордене» также решаются не в пользу французского борца с масонством.
Близкое по умонастроению отношение к «тайным обществам» мы можем найти, наконец, у лиц, состоявших в подобных обществах. Значительный интерес в этой связи для нас представляет фигура А. В. Амфитеатрова – видного представителя литературной и околополитической жизни России начала прошлого столетия. Будучи человеком весьма темпераментным, отзывчивым на все веяния современности, отражённой в его многочисленных романах и повестях, Амфитеатров с достаточной лёгкостью менял общественные и политические привязанности, всегда находясь на «переднем краю жизни». Поэтому его свидетельства следует рассматривать как отражение определенного среза общественного сознания, приобретающее объективный характер, несмотря на очевидный и неизбежный субъективизм авторских оценок.
В 1905 г. Амфитеатров становится членом французской ложи Великого Востока – одной из наиболее влиятельных во Франции того времени. Вступление в ложу совпадает с «ультракрасным» периодом его политической биографии, когда Амфитеатров, согласно его же свидетельству, «славил террор и террористов, издавал непримиримо бунтарский журнал “Красное знамя”, воспевал в прозе Марусю Спиридонову, а в стихах “народолюбца” Стеньку Разина, презирал “куцую конституцию” и компромиссы Государственной думы» {472} . Естественно, что для издателя «непримиримо бунтарского журнала» участие в любой потенциально антиправительственной организации представлялось весьма желанным. Кроме этого фактора, сам автор называет ряд причин своего пребывания в масонской ложе. Это и личностное влияние М. М. Ковалевского и близкого ему круга лиц, группировавшихся вокруг Русской высшей школы социальных наук, отражающей умеренно левые взгляды части русского общества. Это и, что достаточно показательно, русская классическая литература: «Третьим магнитом для меня был мой давний глубокий и живой интерес к масонству – интерес, так сказать, романтический, волновавший меня с юных дней: интерес Пьера Безухова» {473} .
Таким образом, можно сделать вывод, что движущей силой в решении Амфитеатрова примкнуть к масонскому ордену служит совокупность мотивов, главные из которых носят субъективно-индивидуальный характер и имеют опосредованное отношение к его политическим взглядам. Приподнято-романтические ожидания «борьбы» и «эзотерики» обернулись реальностью, от сложившихся стереотипов достаточно далёкой. Политическая борьба не выходила за достаточно ограниченные рамки: «Политическое значение ложа, несомненно, имела, но узкое, местное, чисто французское, даже, пожалуй, теснее -парижское. Это был хорошо организованный и дружно сплочённый кружок умеренных республиканцев, отлично выдрессированный для выборных кампаний, преимущественно муниципальных» {474} .
Надежды на широкую революционную борьбу не оправдались, французское масонство оказалось слишком умеренным, буржуазным, ориентированным на обогащение, увы, не только нравственное. Печальным подтверждением тому является попытка «затормозить» по масонским каналам получение Россией крупного займа у Франции. И в этом случае пылкие речи о необходимости борьбы с царизмом не смогли перевесить здравый экономический расчёт. Разочарование в масонстве у Амфитеатрова усугубилось и по «эзотерической» причине. Сложные обрядовые процедуры, «мистические» ритуалы оказались бессодержательными, «искусством ради искусства», что позволило «певцу Стеньки Разина» достаточно ядовито заметить: «Мне лично, по моей неспособности к балету, эти журавлиные танцы и азбука глухонемых не дались. Явечно их путал… и до сих пор сомневаюсь, правильно ли я топырю руку пятернёю у горла, свидетельствуя тем самым свою готовность пожертвовать жизнью за тайны масонского союза» {475} . Характерным представляется и завершение «масонского» периода Амфитеатрова: «Никакого “разрыва” не было. Япросто заскучал в ложе, не найдя в ней ничего из того, чего искал, и перестал в ней бывать» {476} . Но, как показало будущее, разочарование в масонстве не погасило интерес Амфитеатрова к «тайным обществам», вновь пробудившийся уже в послереволюционные годы.
Определённый всплеск конспирологических настроений происходит во время Первой мировой войны. Война, начавшаяся для русского общества неожиданно, можно сказать, «случайно», становится стимулом для конспирологического творчества, трактующего в основном причины и истоки мировой войны. Большой интерес в данном контексте вызывает Докладная записка С. П. Белецкого, написанная в 1916 году. Тайный советник, сенатор С. П. Белецкий прошёл путь от мелкого канцеляриста Виленского генерал-губернаторства до поста директора Департамента полиции, куда был приглашён П. А. Столыпиным. В результате сложных придворных интриг, центром которых являлся заговор против Распутина, Белецкому предлагается «добровольный переход» на должность иркутского генерал-губернатора.
После скандального отказа Белецкого отправляют в отставку, в период которой он и написал свою Докладную записку. Уже на основании этого можно судить, что работа бывшего директора Департамента не носит чисто конспирологического характера, но выполняет, скорее, инструменталистскую функцию. Поэтому не лишено логики предположение публикатора записки: «Вероятно, Степан Петрович, учитывая интерес императорской четы к закулисной деятельности “Вольных каменщиков”, предполагал посредством разоблачения масонского заговора восстановить своё реноме» {477} . С другой стороны, следует помнить, что, будучи директором Департамента, Белецкий уделял повышенное внимание проблеме масонства, собирал и систематизировал материал по этой теме. Последний факт свидетельствует, что целью записки является не только спасение карьеры, но и демонстрация действительно личного мнения её автора, сформировавшегося на протяжении достаточно длительного времени.
В начале работы автор предлагает пересмотреть один из главных стереотипов правого лагеря о тожестве масонских обществ и этнических (еврейских) тайных обществ. Подвергнув анализу этнический состав французских лож за последнюю четверть XVIII века, Белецкий приходит к выводу: «Не только иудеи основателями масонства считаться не могут, но даже с уверенностью можно утверждать, что в течение всего XVIII века и даже первой четверти XIX иудеи ни в одной стране в масоны не допускались» {478} . В дальнейшем присутствие иудеев в ложах больше всего зависело от национальной специфики той страны, где ложи находились. Так, французские ложи Великого Востока хоть и не отказывали в приёме иудеям, но последние практически не допускались к определению политики лож. Иная ситуация сложилась в Италии и Турции, которые стали полем сражения для «арийских» и «семитических» лож. Исследование положения в российском масонстве позволяет предполагать его моноэтнический характер. Белецкий обращает внимание на тот факт, что ведущие роли здесь играют преимущественно русские (П. Д. Долгоруков, М. М. Ковалевский, В. А. Маклаков и др.). Вследствие этого общеупотребительный термин «жидомасонство» неверен фактически и, как будет показано ниже, концептуально.
Делается заключение о существовании двух типов масонских лож: конфессиональных и гуманистических. Первые строят свою деятельность исходя из христианских идеалов, в политике или не участвуют, или придерживаются консервативных позиций. Второй тип лож – гуманистический, отрицая этнические разделения, не обращает внимания на национальность и религиозную принадлежность своих членов и стремится к активному участию в политической жизни, отстаивая демократические, либеральные принципы. Естественно, что иудеи в первую очередь вступают в гуманистические ложи, которые им ближе с этической и политической точек зрения. Но, будучи по своей природе склонными к скрытым действиям, иудеи уже достаточно давно освоили приёмы конспирологического воздействия на социально-политические процессы. Поэтому участие иудеев в масонском движении отнюдь не является общим положением, но лишь в какой-то степени отражает частную тенденцию.
Белецкий проводит своеобразную демифологизацию масонства, рассматриваемого «теориями заговора» в качестве двигателя или инициатора большинства значимых исторических событий. Указывается на то, что масонские организации в тех или иных странах не представляют собой элементов системы как таковой. На абстрактно-отвлеченные цели и задачи братства вольных каменщиков неизбежно накладывают отпечаток особенности национальной специфики, ситуативные политико-социальные процессы. Ярким образцом масонского «взаимодействия» служат, по мнению Белецкого, перипетии отношений между французскими и германскими ложами. Попытки выработать единую позицию по внешнеполитическим вопросам наталкивались не только на противоречия, существующие между гуманистическими (французскими) и конфессиональными (германскими) ложами. Так, франко-русский союз с точки зрения лож Великого Востока был крайне нежелателен: «Союз республиканской и свободомыслящей Франции с самодержавной и православной Россией представлялся масонам чем-то чудовищным и неприемлемым» {479} .
Многочисленные попытки наладить контакты по этой конкретной проблеме не приносят успеха. Дело в том, что примирению препятствовала ситуация во Франции, сложившаяся после франко-прусской войны. Именно жажда реванша толкнула либеральную Францию в сторону самодержавной России, разрушая все масонские кодексы и уставы, которые оказались всего лишь пустыми декларациями. Белецкий довольно пренебрежительно отзывается и о самих масонах, из-под его пера выходят такие яркие характеристики: «маниловские грёзы», «члены Совета ордена струсили», «старые плаксивые бабы». Таким образом, можно сделать вывод, что в своей, внешне выдержанной в конспирологическом тоне, записке Белецкий, по существу, или нивелирует, или опровергает основные положения «теории заговора». Амбициозные «сокрушительные» планы масонства оборачиваются пустой демагогией. «Здесь каждый вынашивает в себе речь и при случае её помещает, и когда он её произнёс, ему кажется, будто он что-то сделал» {480} .
Другим знаковым свидетельством отношения к «теории заговора» служит позиция Л. А. Тихомирова, мировоззрение которого прошло сложную эволюцию. Будучи активным и видным участником революционного движения в России, членом «Земли и воли», затем Исполнительного комитета «Народной воли», он в зрелом возрасте, находясь в эмиграции, испытывает религиозно-идеологический кризис. Последствием кризиса становится переход из революционного лагеря на сторону российской монархии и публичное покаяние в своих прошлых поступках. Вернувшись на родину, Тихомиров выступает с рядом публицистических работ, в которых критически рассматривает демократические ценности и республиканскую форму правления. Наибольшую известность ему приносит книга «Монархическая государственность», изданная в кризисном для русского общества 1905 году. В дальнейшем он сотрудничает с П. А. Столыпиным в качестве эксперта по рабочему движению.
Интерес Тихомирова к конспирологической проблематике, можно сказать, «запрограммирован» как особенностями его биографии, так и бурным течением истории России, активным деятелем которой он являлся. И действительно, некоторые работы философа поднимают тему, связанную с деятельностью «тайных обществ». Наиболее полно она представлена в «Религиозно-философских основах истории», произведении во многом итоговом, призванном синтезировать взгляды мыслителя на глобальные исторические процессы.
Базисом концепции Тихомирова становится тезис о невозможности бесконфликтного развития истории. «Если бы в человечестве не было бы ничего противодействующего сближению с Богом, то весь исторический процесс мог бы представлять картину мирной эволюции, простого созревания духовного зерна» {481} . Движение к Богу уже на стадии формирования христианства диалектически требует борьбы, которая актуализирует «тайные общества», делая их фактором религиозной истории. «Труднейшей борьбой, которую приходилось выдерживать христианству, была борьба против него со стороны тайных эзотерических учений, поддерживаемых тайными обществами» {482} . Как мы видим, Тихомиров разделяет эзотерические религиозные сообщества, противопоставляющие себя христианству, и собственно «тайные общества». Последние, выполняя вспомогательную функцию, не имеют ещё самостоятельного значения, то есть не становятся субъектами социальной действительности. Провиденциально заданная победа христианства превращает «тайные общества» в статистов истории, лишённых реальных возможностей деструктивного влияния. Разрушительный потенциал «тайных обществ» выявляется лишь при их переходе из области религиозной в сферу социальную. Подобный переход осуществляется иудаизмом, проигравшим сакральную битву христианству. Он в итоге трансформируется в еврейство, социально-политическую силу, уже способную оказывать воздействие на мировую историю. «Если тайные общества, борющиеся против христианства на почве старых языческих воззрений, создают для христианства жестоких врагов, то эти учения и общества по крайней мере не работают против тех национальностей, которые числятся или остаются христианскими» {483} . Все последующие «тайные общества», даже имеющие внешнюю религиозную окраску и относящиеся к разным культам и конфессиям, неизбежно замыкаются на инспирирующем их еврействе. Тихомиров причисляет к ним исмаилитов, тамплиеров, розенкрейцеров, иллюминатов, масонов.
Дальнейшие рассуждения философа строятся на подробном, практически дословном воспроизведении европейской конспирологической мысли того времени, с её устоявшимися схемами и стереотипами. Так, подчёркивается решающее значение событий французской революции, трактуемой исключительно как продукт усилий «тайных обществ», результатом которой становится первое крушение европейской монархии с помощью конспирологических приёмов. Внешняя подготовка к революции велась силами просветителей, главной задачей которых являлось целенаправленное расшатывание нравственных, религиозных основ французского общества. Кроме того, энциклопедисты, организуя шумные компании (издание энциклопедии, кощунственные нападки на церковь), реализуют операцию прикрытия, призванную отвлечь внимание от подрывных действий «тайных обществ». Сама революция, её главнейшие события, внутренние и внешние конфликты обретают адекватное понимание лишь при учёте конспирологического фактора. «Активная революционная деятельность в эту эпоху принадлежала мартинистам, иллюминатам и тамплиерским степеням. К ним принадлежала большая часть революционных деятелей. И эти лица также не всегда сходились между собой, и борьба, например, между жирондистами и монтаньярами была борьбой различных слоев в масонстве» {484} .
Для нас наиболее интересны выводы, к которым приходит Тихомиров, говоря о современном для него состоянии «тайных обществ», их влиянии на социально-политическую жизнь. С одной стороны, утверждается тезис о высоком уровне воздействия масонства на государственную политику западноевропейских стран, большая часть которых (Франция, Германия, Англия, Италия) фактически подчиняются диктату «вольных каменщиков». С другой стороны, философ высказывает мнение о невозможности полной победы «тайных обществ», чья деструктивная активность зачастую направлена не только на разрушение социальных институтов, но и на самих себя. Обосновывая данную мысль, Тихомиров приводит высказывание известного иезуитского антимасонского писателя П. Дешампа. «Вполне допуская существование единого центра управления, <…> мы, однако, склонны думать, что власть этого единого управления не всегда всеми признаётся, что в армии разных обществ возникают новые силы, иногда входят в конфликт с прежними, ищут самим овладеть высшей властью» {485} .
Соглашаясь с зарубежным конспирологом, русский философ указывает на религиозный фактор, не позволяющий одержать полную победу «тайным обществам», тотальное доминирование которых означало бы окончание человеческой истории. Но подобное завершение возможно лишь в рамках христианской историософии, то есть перехода человечества в иной эон бытия. Важно, что Тихомиров, выстраивая свою конспирологическую вселенную, практически не обращается к российскому опыту. Действительно, перечисляя «тайные общества», начиная с ассасинов и заканчивая масонством, приводя примеры грубого вмешательства «тайных обществ» в политические процессы европейских стран, автор обходит вниманием аналогичные явления в отечественной истории. Возникает знакомая нам уже проблема – насколько актуальна «теория заговора» для российской социокультурной практики? Указанный дефицит восполняется в другом, иной жанровой природы, сочинении Тихомирова.
На страницах опубликованного дневника Тихомирова за 1915—1917 гг. мы находим ряд показательных суждений автора, касающихся острых политических проблем. Он замечает объективный рост конспирологических настроений в обществе, связанных с несколькими причинами. Полоса неудач русской армии на театре военных действий становятся основанием для возникновения представлений о предательстве в высших эшелонах власти. Возрастание социально-политической напряжённости, приведшее в итоге к февральским событиям 1917 года, также способствует увеличению числа сторонников «теории заговора». «В публике ходят слухи, будто бы убийство Распутина не единственное, замышленное каким-то сообществом. Называют, что должны быть убиты также Питирим и Варнава. Рассказывают о заговоре в армии в целях того, что если вздумают заключать сепаратный мир или распускать Государственную] думу, то армия, продолжая войну, вышлет отдельные части в Петроград для произведения переворота» {486} .
Информационный вакуум, неопределённость властной иерархии, громкое политическое убийство; все перечисленные факторы идеально подходят для конспирологического конструирования. Определенно безжизненные, эмпирически ненасыщенные, удалённые от российских реалий схемы «теории заговора», воспроизведённые в «Религиозно-философских основах истории», должны обрести здесь свой эмпирический базис. Но мы сталкиваемся с несколько другим подходом. Размышляя о судьбе П. А. Столыпина, с которым, как мы уже говорили, автор тесно сотрудничал, Тихомиров делает неожиданный вывод, касающийся убийства председателя Совета министров. «Завёлся “раз в жизни” человек, способный объединить и сплотить нацию, и создать некоторое подобие творческой политики – и того убили. А кто убил его, Столыпина? Но кто бы ни подстроил этого мерзкого Богрова, а удача выстрела есть всё же дело случая покушения. Всё против нас, и нет случайностей в нашу пользу. “Мене, Текел, Упсарин” так и сверкает над Россией» {487} .
«Неожиданность» подобного пассажа заключается в отказе от онтологического основания «теории заговора» – признания логического, рационального основания исторического процесса. Любые попытки направленного воздействия разрушаются самим объектом воздействия, действительность содержит в себе настолько широкий спектр возможностей, что управление ими становится заведомо невозможным. Фаталистический взгляд на историю делает бессмысленными и нелепыми любые заговоры и тайные общества. Обратим внимание на схожесть, а где-то и совпадение позиций Амфитеатрова, Генца, Селянинова, Белецкого и Тихомирова. Приведя множество примеров могущества и силы «тайных обществ», они в конечном счете приходят к заключению о мнимости или относительности подобной опасности. Имея несовпадающие мировоззренческие ориентации, принадлежа к различным социальным группам и партиям, они, дополняя друг друга, позволяют создать нам целостное представление о развитии отечественной «теории заговора» начала XX века.
Учитывая, что реальная политическая ситуация в России, начиная с первых лет XX столетия, внешне способствовала формированию конспирологического менталитета, следует резюмировать: генезис «теории заговора» рассматриваемого периода не выходит за рамки реактивной фазы, не происходит качественного «скачка» в развитии конспирологии. Элементы и схемы «теории заговора» зачастую использовались в решении, как это показано на примере вопроса об интеллигенции, неконспирологической проблематики. В этом отношении Россия продолжала находиться, как и в XIX веке, на периферии мощного подъёма «теории заговора». Возникает вопрос, в чём же основная причина подобного отставания? На наш взгляд, её следует искать в особенностях формирования русских интеллектуалов. Фактически, подобная социокультурная группа отсутствует в отечественном пространстве эпохи. Нужно указать на важное отличие интеллигенции от интеллектуалов, ибо здесь может возникнуть определённая путаница вследствие семантической близости данных понятий. Главное, на наш взгляд, различие между русской интеллигенцией и западными интеллектуалами заключается в следующих моментах. Западные интеллектуалы являются продуктом закономерного развития европейского общества, они изначально выступали как активные участники создания общества нового типа. Последующее оттеснение интеллектуалов от рычагов машины власти не снимает изначальной укоренённости интеллектуалов в западном социуме.
Российская интеллигенция выступает как элемент культурной вестернизации, относящийся к модернизационному проекту. Сам же проект модернизации в своём основании не был культурологическим. В этом и заключается важная особенность так называемого «европейского периода» русской истории XVII-XEK столетий. Техническая сторона модернизации преобладала над социокультурной. «Университетский вопрос» русского общества сводился зачастую к банальному вопросу: чем может заниматься интеллектуал в России при отсутствии свободной социальной ниши? Очень ёмко и точно суть ситуации обрисовал В. В. Розанов: «Академия наук – есть. Восемь университетов – есть. Четыре духовных академии – есть. Да. Но это пока тринадцать кирпичных зданий, которые так же нельзя назвать “наукою”, как “казармы” нельзя назвать “армиею”. Есть “штаты Академии Наук”… “штаты университета”, “штаты духовной академии”… Но пока это – бюрократия» {488} . Говоря о бюрократии, философ имеет в виду невозможность существования интеллектуалов в особом измерении, свойственном именно интеллектуальному сословию. Знакомый нам Ф. Рингер, рассуждая о специфике западного интеллектуального социального сознания, отмечает склонность мандаринов-интеллектуалов к созданию замкнутого пространства, самодостаточного и иерархически выстроенного по внутренним корпоративным законам. В отечественном варианте это оказалось невозможным – предложенная иерархия являлась только лишь слепком государственной системы управления.