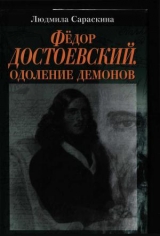
Текст книги "Фёдор Достоевский. Одоление Демонов"
Автор книги: Людмила Сараскина
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
С «ужасным пороком» самолюбия и честолюбия Достоевский был знаком слишком хорошо; так же хорошо он знал, как выглядят обидчивость и мнительность. Но каков может быть этот порок в чистом виде, не смягченный ни человечностью, ни талантом? Что вообще будет с человеком, если его наградить «ужасным пороком», лишив малейших способностей?
«Предупреждаю заранее: Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно – давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Нечего и говорить, что всё это приправлено самою безобразною обидчивостью, самою сумасшедшею мнительностью», – рассуждал автор.
Литературные современники Достоевского, писавшие едкие эпиграммы и обвинявшие его в зависти к Гоголю, «которому он должен был в ножки кланяться», не заметили виртуозной изобретательности и изощренной психологической игры «Села Степанчикова» – в Фоме Фомиче они видели лишь мстительную пародию на Гоголя «в грустную эпоху его жизни». Но Достоевский пародировал не только Гоголя, он поднимал на смех свои собственные страхи и пороки. Он показал, что будет, если безграничное самолюбие овладеет совершенно ничтожной личностью. Но в зеркале Фомы он показал и самого себя: сочинителя выдающихся способностей, одержимого тем же «ужасным пороком».
IV
Завершив «Село Степанчиково», Достоевский мог быть доволен. В романе содержались сцены высокого комизма, «под которыми сейчас же подписался бы Гоголь», но главное заключалось в другом: после дебюта «Бедных людей» с тщетной попыткой главного героя прорваться в литературу новый роман парадоксально продолжал центральную тему. Творчество как единственный шанс выжить, как спасительное средство от гибели, безумия, провинциального отупения, как прибежище в трагическом хаосе жизни – таков был тайный мотив его «комического романа». Все, что сидело занозой в сердце: уязвленное самолюбие, неудовлетворенное честолюбие, мнительность и подозрительность, зависть к удачливым и устроенным литераторам, возмущение бесчестными и циничными торгашами – издателями («жульем», как он их называл), – все это было преображено романным вымыслом, пущенным в самостоятельную жизнь.
Предстояло, однако, пережить еще одно потрясение на мотив самолюбия.
Уже дважды за последний год бывшие его обидчики – «современники» и лично Некрасов – предлагали Достоевскому сотрудничество («Я был у Некрасова, – сообщал Плещеев, – современники с большим участием расспрашивали меня о Вас и говорили, что, если Вы желаете, они тотчас же пошлют Вам денег; и не станут Вас тревожить, пока Вы не будете иметь возможность написать для них что‑либо» [100]100
Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. Т. 6. М.: Изд – во АН СССР, 1961. С. 256–257.
[Закрыть]). Достоевский дважды из‑за «дурной гордости» не решился принять эту благотворительность. Однако теперь, после отказа «Русского вестника», он упрашивал брата снестись с Некрасовым и как можно скорее устроить «Село Степанчиково» в «Современнике».
Очень скоро последовал оскорбительный ответ: «Современник» предлагал мизерные гонорарные условия (намного хуже катковских) и обещал опубликовать роман только через год. Это было равносильно отказу. «Некрасов – чуткое животное, – негодовал Достоевский. – Узнав историю с «Вестником» и зная, что я, приехав из Сибири, истратился, нуждаюсь, – как не предложить такому пролетарию сбавку цены?»
Прошлое возвращалось. Казалось бы: кому, как не «Современнику», журналу гоголевского направления, революционно – демократического радикализма и преимущественно политического толка (таким, во всяком случае, стал он к исходу 1859 года), следовало поддержать морально и материально бывшего каторжника и государственного преступника, едва не поплатившегося жизнью за участие в тайном обществе? Кому, как не «Современнику», полагалось распахнуть двери перед пострадавшим за убеждения бедствующим писателем Достоевским? Ведь именно такого жеста ожидала от Некрасова литературная общественность; так, поэт и беллетрист П. М. Ковалевский писал о редакторе «Современника»: «Ошибся он один раз, зато сильно, нехорошо и нерасчетливо ошибся, с повестью Достоевского «Село Степанчиково», которая была точно слаба, но которую тот привез с собой из ссылки и которую редактор «Современника» уже по одному по этому обязан был взять» [101]101
П.М. Ковалевский. Стихи и воспоминания. СПб., 1912. С. 276. Мемуарист утверждал: «В судьбе Достоевского, разбитого каторгой, больного падучей болезнью, озлобленного, щекотливого и обидчивого, отсюда произошел поворот, надевший па весь остаток его жизни кандалы нужды и срочного труда…» (там же. С. 277).
[Закрыть].
У Достоевского, однако, было иное представление об интриге «Современника» вокруг «Села Степанчикова». «Им не в первый раз становиться в тупик и браковать хорошие вещи… Современники нарочно не поддержат меня, именно чтоб я и вперед брал не много». Нужно было во что бы то ни стало спасать себя от скандальных и унизительных отказов – притихнуть и никому не показывать свою досаду и горечь.
Феерического, победного возвращения в литературу не получалось. Не получалось даже сколько – нибудь громко заявить о себе. Напротив, неудачу с Катковым и Некрасовым надлежало по возможности скрывать, чтобы не привлечь злорадного внимания других журналов. Достоевский, подозревая только торгашескую интригу, еще не знал приговора, вынесенного ему «современниками» и ставшего достоянием всего литературного Петербурга.
Достоевский из Твери просил брата быть исключительно внимательным: «В сношениях с Некрасовым замечай все подробности и все его слова, и, ради Бога, прошу, опиши всё это подробнее. Для меня ведь это очень интересно ». Однако «все слова» Некрасова были беспощадны: «Достоевский вышел весь. Ему не написать ничего больше» [102]102
П. М. Ковалевский. Стихи и воспоминания. С. 276
[Закрыть].
Пока же «весь» Достоевский сидел в Твери, по уши в долгах, имея по приезде всего 20 рублей. Тарантас, купленный в Семипалатинске, продать здесь не удавалось – ездили по железной дороге. Снятая меблированная квартирка была крошечной и настолько скромной, что Марья Дмитриевна принимать в ней кого‑либо наотрез отказалась, а поэтому не могла бывать в тех домах, куда они были званы вместе с мужем. Он как мог пытался развлечь ее – едва устроившись на новом месте, просил брата купить или заказать, привезти или прислать шляпку для жены, осеннего фасона, недорогую, и «ленты к ней с продольными мелкими полосками серенькими и беленькими». «Хоть жена, видя наше безденежье, и не хочет никакой шляпки, но посуди сам: неужели ей целый месяц сидеть взаперти, в комнате? Не пользоваться воздухом, желтеть и худеть?»
Тверь не нравилась им обоим. Марья Дмитриевна была так раздражена, что не сумела скрыть неприязни к деверю, Михаилу Михайловичу, когда тот приехал после десятилетней разлуки с братом. За четыре тверских месяца Достоевский написал и отправил по разным адресам около пятидесяти писем – с жалобами на тоску, безденежье, неопределенность положения, запущенность литературных дел, невозможность личных сношений с издателями, от которых зависит его писательская судьба. Он послал душераздирающее письмо – прошение на имя государя императора, в котором содержались строки о мучившем его тяжелом недуге, открывшемся на каторге и требующем помощи столичных врачей. «Болезнь моя усиливается более и более. От каждого припадка я видимо теряю память, воображение, душевные и телесные силы. Исход моей болезни – расслабление, смерть или сумасшествие».
В самом конце октября, ко дню своего тридцативосьмилетия, он получил часть гонорара за «Село Степанчиково» – оно уже набиралось и вот – вот должно было появиться в «Отечественных записках». Все‑таки внутреннее ощущение, что, несмотря на отказ двух журналов, роман «вовсе не забракованный», а он сам ‘«вышел» далеко не весь, значительно облегчило ему мучительное ожидание царских милостей. За четыре месяца сидения на чемоданах и лихорадочного писания писем Достоевский до деталей продумал вещь, которая вскоре заставила умолкнуть его недоброжелателей. Задуманный проект уже в начале октября имел реальные очертания и ничуть не походил на те летучие замыслы, которые вспыхивали в его сознании, сталкивались друг с другом, но оставались невоплощенными; впрочем, и таких замыслов за четыре месяца набралось несколько: роман со «страстным элементом», «роман– исповедь» в трех частях, задуманный на нарах, «в тяжелую минуту грусти и саморазложения», а также роман о человеке, «которого высекли».
В ноябре он тайком, без официального дозволения, съездил в Москву и повидался с сестрами. Очень скоро ему предстояло узнать о положительном ответе государя и начать сборы. Сумрачная Тверь, с ее невероятной скукой, бытовыми неудобствами, ужасной дороговизной, ничтожным театром и нескончаемым свистом поездов на железной дороге, оставалась позади. Казалось, что навсегда.
Но пройдет ровно десять лет, и в самом конце 1869 года, в Дрездене, он начнет работать над романом, действие которого происходит в губернском городе. При попустительстве властей – губернатора и его взбалмошной супруги – в этом городе произойдут безобразные, фантасмагорические события. Фамилию губернаторской четы Достоевский переведет с русского на немецкий и получится «фон Лембке».
Настоящий же тверской губернатор граф Баранов и его супруга, урожденная Васильчикова, двоюродная сестра графа Соллогуба (того самого, который приглашал молодого и прославившегося Достоевского на свои приемы «в большой свет»), наперебой зазывали к себе и «убедительнейше» просили бывать запросто только что прощенного государственного преступника, состоявшего под секретным надзором полиции. Поднадзорный охотно бывал в их салоне, и супруги принимали самое деятельное участие в хлопотах своего экзотического гостя: поддержав «всеподданнейшую просьбу» Достоевского о разрешении иметь местом постоянного проживания Петербург, граф Баранов уведомлял начальника III Отделения князя Долгорукова, что «в течение всего времени пребывания своего в г. Твери г – н Достоевский вел себя отлично хорошо» [103]103
Л. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. М. – Л.: Academia, 1935. С. 98.
[Закрыть].
Жизнь причудливо переплеталась с вымыслом. Губернский город, прототипом которого стала Тверь, был окружен городскими окраинами и загородными пейзажами, подразумевавшими: усадьбу Московской сельскохозяйственной академии, с большим парком, тремя прудами и темным гротом, невскую бумагопрядильную фабрику в Петербурге и небольшой лесок за рощей в Даровом, подмосковном имении родителей Достоевского.
Барышня, которой автор «Бедных людей» был представлен много лет назад ее кузеном, вышла замуж и стала тверской губернаторшей, а также прототипом Юлии Михайловны Лембке, честолюбивой покровительницы погрязших в вольнодумстве молодых людей. «Надо дорожить нашей молодежью; я действую лаской и удерживаю их на краю», – говаривала Юлия Михайловна. Благородная миссия графини Барановой, убедившей мужа позаботиться о Достоевском, удалась ей куда лучше, чем несчастной Юлии Михайловне ее амбициозные планы и проекты.
Новый, 1860 год Достоевский и его семейство встречали уже в Петербурге.
Глава седьмая. Тоска по текущему
I
Если бы литературное поведение Достоевского действительно определялось «ужасным пороком» – неограниченным самолюбием и честолюбием, – то по степени его удовлетворения первые несколько лет петербургской жизни вполне могли бы быть названы годами реванша.
Его самолюбие, как только он после десятилетнего отсутствия появился в столице, очень скоро было вознаграждено: возвращение к литературной жизни автора «Бедных людей», окруженного теперь мученическим ореолом каторжанина и славой мятежника – петрашевца, не прошло незамеченным, и он сразу был принят в тот самый круг, к которому хотел принадлежать смолоду.
Литературная профессия, при всем ее изнурительном режиме, при всех ее болезненных неудачах и тяжелых нагрузках, простоях и провалах, всегда имела – кроме собственно сидения за столом – приятную и даже праздничную внешнюю сторону, которая во все времена называлась литературной жизнью. И не только потому, что литературная жизнь начала 60–х годов была особенно бурной в России, но и потому, что Достоевский без малейшего стеснения и ложной скромности ее жаждал, – он окунулся в литературный водоворот со страстью и энтузиазмом истосковавшегося в глуши и безлюдье человека.
Было в России тех лет магическое слово «кружок». Знакомые между собой и непротивные друг другу лица, как частные, так и публично известные, объединялись в более или менее регулярном общении у кого‑нибудь на дому для обсуждения текущих и вечных вопросов. Возможность высказаться перед людьми, близкими по духу, выразить свое мнение и убедить в нем собеседников казалась литераторам начала 60–х не только приятным препровождением времени, но и необходимым профессиональным занятием. «Одно слово, сказанное с убеждением, с полною искренностию и без колебаний, глаз на глаз, лицом к лицу, гораздо более значит, нежели десятки листов исписанной бумаги», – писал Достоевский из Семипалатинска, когда был лишен полноценного литературного общения.
Как и многие из его современников, он был усердным и ревностным посетителем литературных объединений, смолоду разглядевшим в Петербурге «собрание огромного числа маленьких кружков, у которых у каждого свой устав, свое приличие, свой закон, своя логика и свой оракул». Но, как никто из литераторов его поколения, он имел поистине драматический опыт жизни «в кружке» – из одного его с треском прогнали, из второго он угодил на каторгу. «В кружке можно самым безмятежным и сладостным образом дотянуть свою полезную жизнь, между зевком и сплетнею, до той самой эпохи, когда грипп или гнилая горячка посетит ваш домашний очаг и вы проститесь с ним стоически, равнодушно и в счастливом неведении того, как это всё было с вами доселе», – посмеивался он между двумя своими тяжкими опытами: тогда ему было все еще невдомек, что безмятежный покой, сладостное прозябание или счастливое неведение обойдут его стороной.
И тем не менее лучшего способа войти в литературную жизнь, чем отдаться стихии кружкового общения, не было – благо по приезде из Твери в Петербург приличное во всех отношениях объединение литераторов гостеприимно открыло перед ним свои двери.
Хозяином нынешнего кружка был А. П. Милюков, давний знакомый братьев Достоевских, издававший журнал «Светоч». Здесь, конечно, не бывали литературные генералы, но все же каждый вторник являлись настоящие, печатающиеся литераторы, а главное – добрые друзья. Для умонастроения Достоевского это была идеальная компания – не просто хороших приятелей, из гуманных соображений сочувствующих настрадавшемуся собрату, а литературных профессионалов; к тому же они – Майков, Яновский, Страхов, Крестовский, Минаев, Аполлон Григорьев – безоговорочно признавали его писательский авторитет.
«Первое место в кружке занимал, конечно, Федор Михайлович: он был у всех на счету крупного писателя и первенствовал не только по своей известности, но и по обилию мыслей и горячности, с которою их высказывал» [104]104
Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 171.
[Закрыть], – вспоминал Страхов; ему, новичку, тогда только что принятому в обществе «настоящих литераторов», больше других были понятны чувства изгнанника, нашедшего наконец свой приют. Для Достоевского в тот момент обретение «своих» было лучшим лекарством – оно смягчало нападки извне, давало силы сосредоточиться и собраться с мыслями на пороге новой эпохи.
Литература, как и все общество, пребывала в радостном возбуждении от ожидания и предчувствия либеральных реформ; само время поощряло к сложным социальным переживаниям; «смысл деятельности неравнодушного человека» (о котором он писал еще в 40–х годах) заключался сейчас в том, чтобы как можно скорее, «на почтовых» сблизиться с новой Россией, вписаться в бурную литературную жизнь Петербурга.
С величайшей готовностью принимал он приглашения на литературные вечера, публичные чтения, куда – наравне с рядовыми петербургскими литераторами, а очень скоро и с литературными генералами – стали звать и его. Всего только в январе 1860–го в столичном «Пассаже» состоялся первый вечер, организованный Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым, или Литературным фондом, а уже в октябре того же года вместе с Майковым, Писемским, Полонским и самим Некрасовым с чтением своих вещей там уже выступал и Достоевский. (Едва пройдет два года, как его изберут секретарем Комитета литературного фонда, и он будет с превеликим тщанием приводить в порядок бумаги Общества для пособия, составлять отчеты ревизионной комиссии, направлять за своей подписью распоряжения казначею Общества для выдачи искомых пособий. После стольких лет вынужденной изоляции даже канцелярская работа и секретарские обязанности были ему милы и желанны.)
Но еще раньше, в апреле 1860–го, он получил приглашение – которое, вероятно, счел тогда радостной удачей – принять участие в любительском спектакле в пользу Литературного фонда. Для него это был не дежурный эпизод пустой и надоевшей светской жизни, а первая и счастливая возможность встретиться и близко соприкоснуться сразу со всеми, как тогда говорили, «главарями литературы», которым предстояло репетировать и играть в гоголевском «Ревизоре». Устроитель спектакля, литератор П. И. Вейнберг, вспоминал: «Все литераторы из «больших» – а их‑то участие в спектакле и было наиболее желательно – самым сочувственным образом отнеслись к моему предприятию, но принять участие активное, выступить в мало – мальски ответственной роли нашлось мало охотников. Ни одному из них не приходилось до того времени выступать на сцене, и сделать первый опыт теперьникто не решался… Единственным писателем из этого кружка, выказавшим полнейшую, даже горячую готовность играть – не выйти только на сцену, а именно играть, – оказался, как это ни может показаться странным для знавших этого писателя, особенно впоследствии, Федор Михайлович Достоевский… «Дело хорошее, очень хорошее, дело даже – прямо скажу – очень важное!» – говорил он с какою‑то суетливою радостью и раза – два три, пока шли приготовления, забегал ко мне узнавать, ладится ли все как следует» [105]105
П. И. Вейнберг. Литературные спектакли. (Из моих воспоминаний) // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1964. С. 331.
[Закрыть].
Достоевскому предоставили на выбор несколько неразобранных ролей (Добчинского, Почтмейстера, Смотрителя училищ), но он без колебаний остановился на почтмейстере Шпекине, пообещав играть «с большим старанием и большою любовью». «Это – одна из самых высококомических ролей не только в гоголевском, но и во всем русском репертуаре, и притом исполненная глубокого общественного значения». Он невероятно волновался, вновь ощущая себя дебютантом, но это был его маленький звездный час – находиться вместе со всеми, в самом лучшем литературном обществе. Он участвовал в репетициях наравне с «главарями литературы», безукоризненно, по отзыву Вейнберга, играл своего Шпекина, обнаружив несомненное сценическое дарование. Они же – Тургенев, Григорович, Майков, Дружинин, Краевский, Курочкин – безмолвными купцами появляясь перед Хлестаковым и Городничим, могли видеть превосходную игру Почтмейстера и слышать аплодисменты в «его» мизансценах.
«Я думаю, что никто из знавших Федора Михайловича в последние годы его жизни не может себе представить его – комиком, притом комиком тонким, умеющим вызывать чисто гоголевский смех; а между тем это было действительно так…» [106]106
П И. Вейнберг. Литературные спектакли. С. 332.
[Закрыть] – писал Вейнберг, весьма расположенный к Достоевскому. И он бы не ошибся, если бы добавил, что благодаря спектаклю, состоявшемуся 14 апреля 1860 года, всего через три с половиной месяца после возвращения Достоевского в Петербург, его место в литературной жизни столицы точно обозначилось и публично подтвердилось. Самолюбие недавнего изгнанника отныне могло не страдать.
Вряд ли кто‑нибудь из замечательной компании, занятой вместе с Достоевским в «Ревизоре», стал бы слишком строго судить автора «Бедных людей», если бы его увлеченность внешней стороной литературной жизни затянулась надолго: каждый бы понял, как мог изголодаться писатель по желанной и неизбежной для всякого работающего литератора литературной карусели. Но именно теперь он сам жаждал с головой окунуться в гущу литературно – общественных событий и быть лично причастным к злобе дня. Его возвращение в литературу, как оказалось, предполагало не только писание и печатание новых вещей, не только праздничную, «концертную» суету и, уж конечно, не только исполнение престижных обязанностей секретаря Литературного фонда. Его честолюбивые замыслы и авторские амбиции были много шире, объемнее – литературная деятельность влекла к себе возможностью создавать литературные новости, осуществлять литературные события, влиять на сам ход развития литературы.
«Хочется нам (то есть ему и брату Михаилу. – Л. С.)что‑нибудь сделать порядочное в литературе, какое‑нибудь предприятие, – признавался он в письме к А. И. Шуберт, жене своего друга, С. Д. Яновского. – Сильно мы заняты этим. Может быть, и удастся. По крайней мере все эти задачи – деятельность, хотя только 1–й шаг. А я понимаю, что значит первый шаг, и люблю его». В мае 1860 года, когда писалось это письмо, «какое‑нибудь предприятие» уже утратило черты неопределенности – именно весной 1860 года окончательно оформилось решение братьев Достоевских издавать свой журнал и иметь при нем свой редакционный кружок.
Ничто другое не могло дать Достоевскому такого независимого положения и такого активного участия в литературных событиях, как делание своего журнала. Журнал давал редактору особые права и полномочия: в силу самих обязанностей, по должности, он мог входить в деловые отношения с первыми лицами литературы, ища их внимания не для себя лично, а для обоюдной пользы. Как пишущий автор он переставал быть зависимым от тех, кто прежде им откровенно пренебрегал; без всякого ущерба для самолюбия он мог теперь приглашать к сотрудничеству бывших литературных недругов, если только их имена способны были содействовать процветанию журнала. И вообще – после того как он намытарствовался, пристраивая «Село Степанчиково», натерпелся обид и настрадался, болезненно осознавая свою зависимость от чужого вкуса и чужого мнения, статус хозяина положения давал драгоценное ощущение полноты литературного бытия.
Он был опьянен свободой, возбужден открывшимися перспективами, воодушевлен петербургскими литературными баталиями: он свято верил в «великость» журнального дела. Он прямо‑таки рвался в журналистику, добиваясь трибуны, которая обеспечивала прямое и непосредственное общение с читателем. Превыше всего ценивший «новое слово» и все десять сибирских лет мечтавший о нем, он страстно желал наконец произнести его. В тот момент он почти не чувствовал различий между журналистикой и сочинительством и не мог, конечно, смотреть на статью для журнала или газеты, на критическую рецензию или публицистическое выступление как на второсортную, черную работу.
Он, без сомнения, испытывал настоящую «тоску по текущему» – по текущей литературе, текущей периодике и текущим полемическим страстям. Ближе всех сотрудничавший с Достоевским, редактором «Времени» и «Эпохи», Страхов утверждал: «Федор Михайлович любил журналистику и охотно служил ей… Он с молодости был воспитан на журналистике и остался ей верен до конца. Он вполне и без разделения примыкал к той литературе, которая кипела вокруг него, не становился никогда в стороне от нее. Обыкновенное его чтение были русские журналы и газеты. Его внимание было постоянно устремлено на его собратий по части изящной словесности, на всякие критические отзывы и об нем самом и об других. Он очень дорожил всяким успехом, всякою похвалою и очень огорчался нападками и бранью. Тут были его главные умственные интересы, да тут же были и его вещественные интересы. Он жил исключительно литературным трудом, никогда и не предполагая для себя какого‑нибудь другого занятия, не задаваясь и мыслью о каком‑нибудь месте, казенном или частном… Литература была вполне родною сферою Федора Михайловича; он избрал ее своею профессиею и иногда даже высказывал гордость этим своим положением. Он усердно трудился и работал, и достиг своего: он сделал одну из блистательных литературных карьер…» [107]107
Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 218–219.
[Закрыть]
Многосторонняя и полнообъемная литературнообщественная деятельность, к которой стремился Достоевский, вторично вступая на литературное поприще, удачно совпала с выходом в Москве первого в его жизни двухтомника: в начале февраля 1860 года Тургенев привез от издателя H. A. Основского причитавшуюся за двухтомник часть гонорара – 600 рублей серебром. «Вместо предполагаемых мною пятидесяти листов Ваших сочинений вышло с лишком 60» [108]108
Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 1. С. 294.
[Закрыть], – писал ему чуть позже издатель. Уже к началу лета успех был стремительно закреплен: составленные и посланные в Цензурный комитет программа журнала и специальное прошение были восприняты положительно; и, как только искомое разрешение было получено, все столичные газеты напечатали объявления об издании «Времени».
Со страстью и азартом включились братья Достоевские в организационную, хозяйственную и финансовую деятельность, связанную с журналом. Их литературные мечтания начали счастливо воплощаться в милую издательскому сердцу поэзию журнальной подписки и гонорарных ведомостей, литературной полемики и читательской почты. И даже если мнение сторонних наблюдателей о «своем» журнале, который якобы был нужен Достоевскому только для того, чтобы печатать свои сочинения, почему‑либо отвергнутые другими изданиями, было неверным изначально (возможность остаться без печатной трибуны не грозила Достоевскому тотально), то по факту существования «Времени» и «Эпохи» как бы и оправдывалось: за четыре года здесь было опубликовано ровно столько, сколько написано, включая «Униженных и оскорбленных» и «Записки из Мертвого дома», не только вернувших автору звание первого писателя России, но и ставших литературным манифестом славной эпохи 60–х годов.
II
Собственный журнал, отнимавший, конечно, много времени и требовавший самых разных забот, не только не потеснил собственно писательскую деятельность, но и всемерно стимулировал ее – каждый номер нуждался в беллетристике, читатель, какому бы направлению он ни сочувствовал, хотел повестей и романов. В этой связи Достоевский никак не мог согласиться с мнением Аполлона Григорьева, хорошо знавшего литературную кухню «Времени»: «Следовало не загонять как почтовую лошадь высокое дарование Ф. Достоевского, а холить, беречь его и удерживать от фельетонной деятельности, которая его окончательно погубит и литературно и физически» [109]109
Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 208.
[Закрыть].
Отклоняя упрек, адресованный брату («этот благороднейший человек не мог употреблять меня в своем журнале как почтовую лошадь»), Достоевский признавал, что некоторая «фельетонность» его сочинений проистекает из несчастной необходимости печатать их но частям прямо «с колес». «Так я писал и всю мою жизнь, так написал всё, что издано мною, кроме повести «Бедные люди» и некоторых глав из «Мертвого дома». Очень часто случалось в моей литературной жизни, что начало главы романа или повести было уже в типографии и в наборе, а окончание сидело еще в моей голове, но непременно должно было написаться к завтраму. Привыкнув так работать, я поступил точно так же и с «Униженными и оскорбленными», но никем на этот раз не принуждаемый, а по собственной воле моей. Начинавшемуся журналу, успех которого мне был дороже всего, нужен был роман, и я предложил роман в четырех частях. Я сам уверил брата, что весь план у меня давно сделан (чего не было), что писать мне будет легко, что первая часть уже написана и т. д. Здесь я действовал не из‑за денег… Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь… Конечно, я сам виноват в том, что всю жизнь так работал, и соглашаюсь, что это очень нехорошо, но… Но повторяю, в фельетонстве моем я сам был виноват и никогда, никогда благородный и великодушный брат мой не мучил меня работой».
Тем не менее «фельетонство» Достоевского, под которым следовало понимать и так откровенно описанный им «конвейерный» способ писания романов, и те авантюрные отношения с издателем, распространявшиеся даже на родного брата, когда никто из «сторон» толком не знал, насколько обеспечены авторские обещания, сказывалось на качестве литературного труда и даже на его содержании самым непредвиденным образом. В «фельетонных» сочинениях Достоевского «эпохи журналов» стали появляться герои, чья жизнь, как и жизнь автора, была неразрывно связана с судьбой созданного ими текста. В этом своем качестве персонажи – писатели первыми принимали на себя удары судьбы.
Журнальный вариант романа «Униженные и оскорбленные» посвящался брату Михаилу и имел подзаголовок: «Из записок неудавшегося литератора». Осенью 1860 года, когда Достоевский приступил к работе над первой частью «Униженных и оскорбленных», предназначая ее для дебюта «Времени», он никак не мог считать себя неудавшимся литератором: «Русский мир» печатал главы «Мертвого дома»; его автор чуть ли не ежемесячно выступал в лучших петербургских залах на литературных чтениях (к талантливым авторам публика относилась с восторгом и встречала их «серебряными и цветочными венками, букетами и аплодисментами» [110]110
Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 1. С. 305.
[Закрыть]); воскресные редакционные вечера братьев Достоевских, также установившиеся этой осенью, собирали тесный кружок литераторов – единомышленников и будущих журнальных сотрудников.
Однако Иван Петрович, двадцатичетырехлетний литератор, герой и рассказчик «Униженных и оскорбленных», получал в надел только часть литературной биографии Достоевского – литературный дебют. «Его внимание было постоянно устремлено на его собратий по части изящной словесности, на всякие критические отзывы и об нем самом, и об других», – писал Страхов. Действительно, как бы восполняя потерю «своей» критики и «своего» читателя за десять лет отсутствия в литературе, Достоевский создавал феноменальный сюжет: герои «Униженных и оскорбленных» читали, обсуждали и критиковали «Бедных людей», написанных якобы Иваном Петровичем; ему, бедному сочинителю, чья муза «испокон веку сидела на чердаке голодная», измученному поденной литературной работой ради куска хлеба и погибающему от чахотки, отдавал Достоевский незабываемые переживания первого шумного успеха, звездные мгновения славы, честолюбивые мечтания о блестящем литературном поприще.
Казалось, тот феерический успех, который выпал на долю литературного дебютанта Достоевского, и все его роковые последствия ушли в прошлое и стали легендой: нынешний Достоевский, быстро наверстывая упущенное, располагал большим выбором свежих впечатлений. Но почему‑то именно «Бедные люди», а вместе с ними весь литературный и окололитературный быт, новые издательские нравы, а главное, рискованная и опасная писательская профессия создали атмосферу «Униженных и оскорбленных», очертили время и пространство романа.






