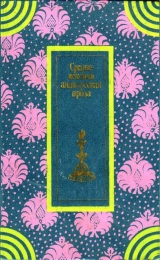
Текст книги "Средневековая андалусская проза"
Автор книги: Лисан ад-Дин Ибн аль-Хатыб
Соавторы: Абу Абдаллах Мухаммад ибн Абу Бакр Ибн аль-Аббар,Абу Мухаммед Абдаллах ибн Муслим Ибн Кутайба,Абу Марван Ибн Хайян,Абу-ль-Хасан Али Ибн Бассам,Абу Бекр Мухаммед ибн Абд ал-Малик Ибн Туфейль,Абу Бакр Мухаммад ибн Абд аль-Азиз Ибн аль-Кутыйя,аль-Андалуси Ибн Хузайль,Абу Мухаммед Али Ибн Хазм
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
Послание Ибн Хазма перешагнуло рамки философского трактата, и центр тяжести сместился здесь в сторону «иллюстративного материала». Это произведение отличается живостью и занимательностью, как и «Повесть о Хаййе ибн Якзане» андалусского философа и врача Ибн Туфейля (ум. в 1185 г.), близкого друга и даже наставника крупнейшего философа Европы того времени Ибн Рушда.
О жизни Ибн Туфейля известно сравнительно мало. Он родился в начале XII века в Кадисе, жил в Андалусии и Магрибе. Получив превосходное образование у себя на родине, Ибн Туфейль стал придворным врачом нескольких правителей из династии Альмохадов. Известно, что Ибн Туфейль был автором нескольких медицинских и философских сочинений, но до нас дошел лишь один его трактат, носящий название «Повесть о Хаййе ибн Якзане», что буквально означает «Повесть, или Послание о Живом, сыне Бодрствующего». Хотя мы назвали это произведение философским трактатом, каковым оно и является по существу, его жанровая характеристика гораздо шире. Философские и мистические истины представлены в «Повести» в живой, занимательной форме, аллегория отличается жизнеподобием, обилием реальных деталей.
Первым арабоязычным автором, написавшим послание под том же заглавием, был Ибн Сина, чей гений оказал глубочайшее влияние на дальнейшее развитие арабо-мусульманской науки и культуры. «Послание о Хаййе ибн Якзане» Ибн Сины – блестящая в художественном отношении и чрезвычайно концентрированная по содержанию аллегория, на двадцати с лишним страницах которой изложены основные положения «восточной мудрости» (отнюдь не в значении противопоставления географических понятий востока и запада). Аллегорично уже само название послания. Слово «хайй» («живой») – один из коранических эпитетов бога-творца; «якзан» («бодрствующий») – представляет собой как бы реминисценцию коранического выражения: «Аллах – тот, кто не спит и кого не берет ни сон, ни дремота».
Можно подумать, что Хайй у Ибн Сины – аллегория Аллаха, но это не так. Хайй – это деятельный разум, порождение «первопричины» или «перводвигателя», основы и оси мироздания. Хайй предстает у Ибн Сины в облике величественного старца, рассказывающего о своих «путешествиях». «Бодрствующий» же – «первый разум», вечно эманирующий, изливающий свет, находящийся в «краях Востока», то есть в обиталище света. Путешествия Хаййя означают, что разум проникает во все сущее, оживляя его и придавая ему форму – причину его существования. Хайй советует автору избавиться от своих «дурных спутников» (страстей и желаний) или подчинить их своей воле. Описывая свои постоянные путешествия, Хайй говорит о вечно исчезающем и вновь возрождающемся материальном мире (Запад) и мире вечных форм или душ (Восток). И солнце, восходящее на востоке, символизирует свет, исходящий из «первого разума». Он отдален от земного мира границей, перейти которую может лишь посвященный, тот, кто размышляет о сущности мироздания, душа которого «очищена» этими размышлениями.
Кроме Ибн Сины и Ибн Туфейля философское послание под тем же названием создал философ Шихаб ад-Дин ас-Сухраварди (казнен в 1190 г.), современник Ибн Туфейля, основатель «ишракийя» – одного из направлений мусульманской мистики. Но Ибн Туфейль не упоминает о нем, возможно, до него и не дошло это сочинение.
Основная мысль «Послания» Ибн Сины – прославление разума-путеводителя, с помощью которого человек оказывается способным на целенаправленное размышление и созерцание «света истины», хотя бы даже отраженного в зеркале материального мира. Трактовка разума у Ибн Туфейля несколько отличается от той, какой она предстает у Ибн Сины. Здесь бесспорно нужно учитывать влияние философской концепции Ибн Рушда. В «Повести» Ибн Туфейля перед нами, очевидно, не стоящая над человеком космическая сила, а само человечество; если очень коротко резюмировать сложную полемику Ибн Рушда с Ибн Синой, то Ибн Рушд трактовал «мировой разум» как разум всего человечества, постигающий устройство вселенной и самого себя, свою неограниченность в совокупности ограниченных человеческих разумов.
Хайй ибн Якзан, «самозародившийся» на необитаемом острове и пришедший к постижению высших истин устройства вселенной, символизирует разум многих поколений людей, человечества, которое перешло от дикости к цивилизации, поднялось от эмпирического понимания простейших конкретных истин (строение тела животных и человека, устройство злаков и плодов и так далее), что обобщено в естественных науках, к постижению сложнейших абстрактных категорий метафизики, «того, что за природой». С точки зрения литературы, произведение Ибн Туфейля не только более «занимательно» по сравнению с посланием Ибн Сины, оно и значительно более «человечно», ибо его героем становится узка не абстрактная и трудно представимая даже в аллегории философская категория, а человечество.
Обоих философов роднит мысль о том, что понимание причин существования вселенной и ее устройства требует не только дарования, определенной «избранности», но прежде всего неустанного размышления, совершенствования, и свет истины может быть недоступен людям неподготовленным, не желающим посвятить этой задаче все свои помыслы.
Андалусская проза далеко не ограничивалась жанром философских посланий и притч. Очень распространены были сочинения биографического характера, обычно многотомные. Авторы этих книг старались как можно подробнее описать жизнь и деяния людей, о которых пишут, их внешность и характер. Хотя биографы пользовались главным образом письменными источниками, по в их сочинениях всегда имеется личная, «авторская» оценка того или иного правителя, поэта или катиба, критический взгляд на их поступки, попытка психологического истолкования их поведения.
Эта тенденция прослеживается уже в «Ожерелье голубки», но с полной силой она проявляется в сочинениях известнейших андалусских прозаиков Ибн Бассама (ум. в 1147 г.) и Ибн аль-Аббара (1198—1259).
Ибн Бассам происходил из арабского племени Таглиб, представители которого издавна осели в Андалусии. Родился он в Сантарене, где провел годы юности. Когда кастильские войска захватили Сантарен, Ибн Бассам, как и многие другие горожане, бежал оттуда, жил в Лиссабоне, Бадахосе, Кордове, Севилье. Во время своих скитаний он встречался со многими людьми, о которых пишет в своей книге. Ибн Бассам прожил долгую жизнь и умер в возрасте чуть ли не ста лет.
В историю андалусской литературы Ибн Бассам вошел как автор многотомного сочинения «Сокровищница достоинств жителей Андалусии». Рассказывая о выдающихся мастерах слова Андалусии, Ибн Бассам постоянно подчеркивает, что они отнюдь не ниже своих «восточных» собратьев, а кое в чем даже превосходят их. Ибн Бассам отдает предпочтение усложненному стилю. Он широко пользуется рифмованной прозой, сложными сравнениями, перифразами, различными «фигурами красноречия», согласно вкусам своего времени.
Очерки Ибн Бассама еще нельзя назвать подлинными психологическими портретами. Каждое из жизнеописаний – как бы несколько схематичный контур личности, очерченный обычными для средневекового жанра «табакат» (биографий) выражениями: «он был словно звезда среди ученых своего времени, никто не превзошел его талантом и образованностью» и т. п. Но сквозь эту каноническую схему пробиваются живые наблюдения автора, меткие замечания, подобные тем, что имеются в жизнеописаниях Ибн Хазма, Ибн Шухайда, умершего молодым Хабиба, или аль-Кали, переводы которых помещены в этой книге.
Каждое жизнеописание Ибн Бассам сопровождает наиболее интересными, по его мнению, примерами стихов или прозаических произведений его современников, которых он желает прославить в «Сокровищнице». Он рисует мимоходом картинки быта и нравов правителей, катибов и поэтов Андалусии XI—XII веков.
Еще более живая бытописательная струя чувствуется в произведениях Абу Абдаллаха Мухаммада ибн Абу Бакра ибн аль-Аббара (1198—1259), чья трагическая судьба была характерной для андалусских литераторов эпохи владычества Альмохадов. Ибн аль-Аббар происходил из небольшого города Онды, расположенного в провинции Валенсия. Совершив, как это было принято, путешествие «в поисках знания», Ибн аль-Аббар вернулся в Валенсию, где стал катибом у правителя Валенсии Абу Абдаллаха Мухаммада из рода Бану Хафс, потом – у его сына Абу Зайда. После того, как соперник Хафсидов Ибн Марданиш захватил Валенсию, Абу Зайд, взяв с собой своего катиба, бежал к христианам и, чтобы заручиться их помощью, принял христианство. Отказавшись последовать примеру своего эмира, Ибн аль-Аббар опять вернулся в Валенсию, против которой двинулись войска короля Арагона Хайме. В 1238 году началась знаменитая осада Валенсии. Ибн Марданиш посылает Ибн аль-Аббара за помощью к правителю Туниса Абу Закарии Яхье из рода Хафсидов. Прибыв к Абу Закарии, Ибн аль-Аббар читает ему сложенную им касыду – поэму, рассказывающую о бедственном положении осажденной Валенсии. Абу Закария посылает на выручку Валенсии свои корабли, но гавань уже захвачена христианским флотом. Ибн Марданиш вынужден был сдать город, а сам вместе со своей семьей и приближенными отправиться в Северную Африку.
Ибн аль-Аббар стал катибом Абу Закарии, но тому не понравился его почерк, и он отстранил Ибн аль-Аббара от должности. При сыне Абу Закарии аль-Мустансире Ибн аль-Аббар сначала пользовался его благоволением, но затем завистники донесли правителю, что катиб написал на него сатиру, Расправа была скорой и жестокой: все сочинения Ибн аль-Аббара сожгли на костре, а самого автора публично казнили, «забросав копьями», а затем тело сожгли в том же костре, где горели его творения. Даже придворные, открыто выражая свое возмущение, дали Ибн аль-Аббару прозвище «Мученик».
По свидетельству биографов, Ибн аль-Аббар написал около пятидесяти сочинений, из которых сохранилось лишь шесть. Среди его трудов есть книга, посвященная вазирам и катибам, проштрафившимся перед своими правителями, но получившим от них прощение благодаря «красноречивой мольбе». Она была создана после того, как Абу Закария разгневался на него. Ибн аль-Аббар рассказывает как бы в назидание повелителю об аналогичных случаях. «Немало было катибов и вазиров, даже самых умелых, – рассказывает он, – которые допустили по службе промах, но были прощены и вновь заслужили благоволение повелителя».
Для современного читателя книга «Моления о прощении» интересна живыми наблюдениями автора, который повествует главным образом о своих соотечественниках и современниках. Стиль отдельных «рассказов» Ибн аль-Аббара, в отличив от стиля Ибн Бассама, прост и ясен, хотя в последних частях своей книги, где автор обращается непосредственно к Абу Закарии и его сыну, стиль усложняется.
Книга Ибн Хузайля аль-Андалуси, носящая название «Украшение всадников и девиз храбрецов», относится к несколько иному жанру – так называемым «зерцалам». О жизни ее автора известно лишь, что он был современником и другом Лисана ад-Дина ибн аль-Хатыба (XIV в.). Автор начинает повествование с «исторических» сведений о том, как появилась порода арабской лошади, как рекомендуется ухаживать за конем, каких коней предпочитали древние арабы и какие стихи складывали о них. Такие же сведения дает он и об оружии – мече, копье, луке, стрелах, арбалетах. Как было принято в подобных сочинениях, автор перемежает «техническую» часть своего рассказа (о том, как следует обучаться верховой езде, стрельбе из лука и т. п.) занимательными рассказами и стихами о прославленных арабских храбрецах, о конях и оружии.
Большое место занимали в средневековой арабской прозе, в том числе в андалусской прозаической литературе, книги историко-биографического характера, повествующие об «именитых мужах» – халифах, эмирах и полководцах, о их походах и завоеваниях, о посольствах и различных памятных событиях. Среди таких сочинений есть и исторические хроники, в которых по годам перечисляются все, даже самые незначительные события. Есть и труды, которые трудно назвать настоящими хрониками, потому что в них автор, отказываясь от беспристрастного тона «летописца», обращает внимание преимущественно на те события, которые ему особенно близки и интересны.
Первым в Андалусии автором «аль-ахбар» (букв.: «хроника») был Абу Бакр Мухаммад ибн Абд аль-Азиз, по прозвищу Ибн аль-Кутыйя, потомок готской принцессы, внучки готского короля Витицы (в арабской графике Гитицы). Ибн аль-Кутыйя родился в Кордове, учился у наиболее известных историков, филологов и законоведов Кордовы и Севильи. Особенной известностью пользуется его сочинение «История завоевания Андалусии». В этой книге явственно чувствуется гордость автора славным прошлым своего рода, он превозносит доблесть Сары – готянки, и государственный ум Артабаса – потомка последнего короля готов. Ибн аль-Кутыйя – представитель сложившейся в средневековой арабской Испании своеобразной народности, он и не араб, и не бербер, но и не гот, он – истинный андалусец, с одинаковым уважением относящийся и к своим мусульманским, и к христианским предкам.
К жанру «аль-ахбар» можно отнести и сочинения андалусца Абу Марвана ибн Хайяна (987—1070), уроженца Кордовы, происходившего из рода маула (вольноотпущенников) Омайядов. Получив прекрасное образование, он занимал видные государственные должности и был даже катибом хаджиба аль-Мансура, благодаря чему получил доступ к важным документам, которые часто приводит в своем основном сочинении «Жаждущий знания». Ибн Хайян скрупулезно записывал каждый день, что произошло в столице Андалусии и разных ее областях, стремясь к точности, так что его «История» напоминает дневник. Он не увлекается рифмованной прозой, язык его прост, повествование, в котором полностью отсутствуют какие-либо «легендарные» элементы, отличается безыскусственностью и правдивостью. Описания торжественных приемов послов иноземных государств и вассальных эмиров, часто встречающиеся у Ибн Хайяна (подобные тем, что помещены в этой книге), дают представление о политической роли, которую играл Кордовский халифат.
Последним выдающимся прозаиком и поэтом Андалусии был Лисан ад-Дин ибн аль-Хатыб (1313—1374) – ученый, литератор и политический деятель Гранадского эмирата, вазир и придворный поэт династии Насридов. Судьба Ибн аль-Хатыба была не менее трагичной, чем судьба Ибн аль-Аббара. Спасаясь от гнева Мухаммада V, носившего титул султана Гранады, Ибн аль-Хатыб бежит в Магриб к правителю Магриба Абу Фарису Абд аль-Азизу из династии Маринидов, который отказался выдать своего гостя султану Гранады.
После смерти Абу Фариса в 1372 году и свержения малолетнего наследника престола новый правитель Абу-ль-Аббас аль-Мустансир заключил Ибн аль-Хатыба в темницу города Фес, где он и был задушен.
Наиболее известное произведение Ибн аль-Хатыба – «Всеобщая история Гранады». Это нечто среднее между исторической хроникой, путевыми картинами и описанием путешествий – жанром, в котором прославились магрибинские литераторы. Книге написана чрезвычайно трудным перифрастическим стилем, изысканной рифмованной прозой. «История Гранады» содержит немала интересных моментов, в том числе самое древнее описание боя быков, который происходил в Гранаде в 1319 году. Сейчас для того, чтобы привести быка в ярость, употребляют бандерильи – короткие дротики, которые бандерильерос всаживают быку в шею. Во времена Ибн аль-Хатыба на арену выпускали специально тренированных собак, которые вцеплялись быку в уши, а пикадор, ныне пеший, сражался тогда с быком верхом на коне и убивал его не шпагой, а копьем.
Также усложнен стиль «Путевых картин» Ибн аль-Хатыба, где он описывает свои путешествия по Андалусии и Магрибу. Блестящая рифмованная проза с многочисленными риторическими фигурами, в которую вкраплены стихотворные отрывки, производит впечатление орнаментальности, где сочетается точный словесный расчет и яркость красок, как в узорах на стенах мавританских дворцов и мечетей. Изысканны и стихи Ибн аль-Хатыба, особенно в жанре «васфа» – описания красот андалусской природы и произведений искусных гранадских мастеров.
Однако усложненность и красивая вычурность стиля – не индивидуальная особенность Ибн аль-Хатыба, они продиктованы прежде всего требованиями жанра и литературной моды. Потому что Ибн аль-Хатыб, как и многие другие андалусские прозаики, больше тяготел к ясной простоте стиля, которая была близка стилю арабских прозаиков VIII—X вв. Это стремление ярче всего проявилось в его книге «Деяния великих мужей», где гранадский вазир рассказывает о нескольких выдающихся государственных деятелях мусульманского мира, уделяя больше всего внимания хаджибу аль-Мансуру, ставшему излюбленным героем и андалусцев, и испанцев-христиан.
Трудно сказать, был ли знаком Ибн аль-Хатыб с Плутархом, но книга «Деяния великих мужей» больше всего напоминает знаменитые Плутарховы биографии. Андалусский автор пытается не только рассказать историю возвышения аль-Мансура и его победоносных походов, но и дать психологическую характеристику хаджиба и других персонажей своей книги.
Андалусская прозаическая литература, как и вообще средневековая арабская проза, отличается обилием и разнообразием жанров – от философского трактата до мемуаров и различных сатирических посланий. Объединение произведений, принадлежащих к разнообразным жанрам, и отрывков из подобных произведений в один сборник даст читателю возможность представить себе многообразие мавританской культуры, культуры арабской Испании правдиво и без ложной экзотики.
Б. Шидфар
Ибн Хазм
Ожерелье голубки
Перевод и комментарии
М. А. Салье
Стихи в переводе
В. Б. Микушевича
В пору гонений Ибн Хазма его рукописи в значительной части подверглись уничтожению. «Ожерелье голубки» дошло до нас в единственной рукописи, принадлежащей библиотеке университета в Лейдене. Со слов переписчика можно заключить, что рукопись при переписке подверглась некоторому сокращению. Настоящий перевод был сделан по тексту лейденской рукописи, изданному профессором Ленинградского университета, известным испанистом Д. К. Петровым, и был впервые опубликован в 1933 г. в издательстве «Academia».
ВСТУПЛЕНИЕ АВТОРА
Говорит Абу Мухаммад [1]1
Абу Мухаммад… – Арабские имена в те времена обычно состояли из следующих частей: имя собственное – скажем, Ахмад; так называемое отчество – ибн Мухаммад (сын Мухаммада); у людей знатных перечислялись еще имена деда, прадеда и других предков; затем шла кунья – Абу-ль-Аля (букв.: «отец Аля – «Высоты»); потом «фамилия» (родовое имя) – Ибн Хазм; иногда добавлялась нисба – аль-Багдади (из Багдада или Багдадский) и лякаб (прозвище или титул) – аль-Авар («Одноглазый»), или Сайф ад-Даула («Меч державы»), или ан-Насер («Победитель»). Вежливая форма обращения – называть по кунье: Абу Мухаммад. Правителей, эмиров и халифов, называть по именам не полагалось.
[Закрыть] – да простит ему Аллах:
Лучшее, с чего начинают, – хвала Аллаху, великому, славному, достойная его, а затем – молитва о Мухаммаде, его рабе и посланнике, особо и обо всех его пророках вообще. А после того: да сохранит Аллах нас и тебя от сомнения, и да не возложит он на нас того, что нам не под силу! Да подаст он нам, от благой своей помощи, указание, ведущее к повиновению ему, и да одарит нас, от поддержки своей, влечением, отклоняющим от ослушания, его! Да не поручит он нас нашей слабой решимости, немощным силам, ветхим построениям, изменчивым воззрениям, злой воле, малой проницательности и порочным страстям!
Твое письмо прибыло ко мне из города Альмерии [2]2
Альмерия – город на юго-восточной границе арабских владений в Испании; во времена Ибн Хазма – центр независимой провинции.
[Закрыть] в мое жилище в славной Шатибе [3]3
Шатиба (Хатива) – одна из значительных крепостей Андалусии, в 56 км к юго-западу от Валенсии; город славился изготавливаемой в нем бумагой, которую вывозили даже в Египет.
[Закрыть] ; то, что ты говоришь в нем о своем благополучии, меня радует, и я восхвалил за это Аллаха, великого, славного, прося его продлить и умножить твое благосостояние.
Затем я не замедлил увидеть тебя лично, и ты направился ко мне сам, несмотря на далекое расстояние, отдаленность наших жилищ, не близкую цель путешествия, долгий путь и ужасы дороги. А меньшее, нежели это, отвлекало томящегося и заставляло забыть помнящего, но не того, кто подобно тебе крепко схватился за веревку верности и соблюдал обязательства прошлого, крепкую дружбу, долг сверстника и юношескую любовь и чья дружба была угодна Аллаху великому. А Аллах укрепил между нами из этого столько, что мы восхваляем его и благодарим.
Твои замыслы в этом письме были шире того, что я узнал из других твоих писем; своим приходом ты обнаружил мне свою цель и осведомил меня о своем образе мыслей, повинуясь никогда не покидавшему нас свойству делиться со мною и сладостным, и горьким, и скрытым, и явным. Тебя побуждает искренняя любовь, которую я испытываю к тебе в несколько раз сильнее, не желая за это иной награды, кроме ответа на нее подобным же. Я говорю об этом в моей длинной поэме, обращаясь к Убайдаллаху ибн Абд ар-Рахману, внуку аль-Мугиры, сыну повелителя правоверных ан-Насира – да помилует его Аллах! – а он был мне другом:
Твой друг я во веки веков, и верен я буду тебе,
Хоть марево дружбой слывет порой в заблуждении странном;
Начертан любовью моей, твой образ таится во мне,
Отчетлив, незыблем и чист в своем совершенстве чеканном;
Из сердца бы вырвал я страсть и кожу содрал бы с нее,
Хоть страсти не знают границ в господстве своем самозваном.
Сокровищ не надобно мне, не надо наград никаких;
О дружбе смиренно молю, как молят о благе желанном.
В сравнении с дружбой твоей вселенная – прах для меня,
А люди ничтожнее мух в мельканье своем беспрестанном.
Ты поручил мне – да возвеличит тебя Аллах! – составить для тебя послание с описанием любви, ее свойств, причин и случайностей [4]4
…причин и случайностей… – Словом «случайность» здесь переведен арабский философский термин, обычно называемый «акциденция», разумея под ним все приметы любви, не составляющие ее сущности, зависящие от случайных причин.
[Закрыть] и того, что бывает при любви и из-за нее происходит, идя путем истины, не прибавляя и не изменяя, но передавая о том, что вспомнится, в точности, и так, как это произошло, насколько достанет у меня памяти и осведомленности в том, о чем я буду говорить. Я поспешил навстречу твоему желанию, но если бы не обязательство перед тобою, я бы, наверное, не взялся за такое дело. Ибо дело это неблагодарное, а нам, при краткости нашей жизни, следует тратить ее прежде всего на то, что даст нам надежду на прекрасный приют и возрождение в день завтрашний, хотя кади Хаммам ибн Ахмад и передавал мне со слов Яхьи и Малика, ссылавшегося на Аиза, возводя иснад [5]5
Иснад – букв.: «опора», цепь передатчиков, со слов которых сообщается то или иное известие, обычно хадиса – предания о словах и делах пророка Мухаммада; арабский средневековый «научный аппарат», аналогичный современным ссылкам на источник.
[Закрыть] к Абу-д-Дарда, что тот говорил: «Успокаивайте душу свою любым пустяком, лишь бы было это ей помощником в истине». А одно изречение праведников из числа предков, угодных Аллаху, гласит: «Кто не умеет быть мужественным, не сумеет стать благочестивым». И в каком-то предании сказано: «Давайте душам отдых, ибо они ржавеют, как ржавеет железо».
В труде, который ты на меня возложил, конечно придется упомянуть о том, что я видел лично и постиг прилежанием и что было мне рассказано верными людьми из моих современников. Прости же мне сокрытие имен: либо мы хотим избежать позора, который мы не считаем дозволенным обнаруживать, либо мы охраняем этим любимого друга или знатного человека. Довольно будет, если я назову тех, кого можно назвать без вреда и упомянуть, не навлекая порицания ни на себя, ни на названного – либо вследствие его известности, при которой не поможет сокрытие и замалчивание, либо если низкий человек согласен на то, чтобы его история обнаружилась, и не станет порицать за ее сообщение.
Я приведу в этом своем послании стихи, которые я сказал о том, чему был свидетелем. Не порицай же меня и ты, и тот, кто их увидит, за то, что я иду при этом по пути передающего, изображая все в своих собственных словах, – это, и больше этого, в обычае у тех, кто привержен к сочинению стихотворений. Мои друзья побуждают меня говорить о том, что случается с ними, на их лад и способ, но довольно будет, если я упомяну о том, что случилось со мною сходного с тем, к чему я стремлюсь, и отнесу это к самому себе. Я вменил себе в обязанность остановиться в этой своей книге у пределов, поставленных тобою, и ограничиться тем, что я видел или счел правильным по сообщению верных людей. Избавь меня от рассказов о кочевых арабах и людях прежних поколений: их путь – не наш путь, и рассказы о них многочисленны, а у меня не в обычае изнурять чужое животное, и я не стану украшать себя украшением, взятым взаймы. У Аллаха же следует просить прощения и помощи – нет господа, кроме него!
Я разделил свое послание на тридцать глав, из которых о корнях любви говорят десять. Первая из них – настоящая глава о признаках любви, затем глава, где говорится о тех, кто полюбил во сне, затем глава, где говорится о полюбивших по описанию, затем глава, где говорится о полюбивших с первого взгляда, затем глава, где говорится о тех, чья любовь становится настоящей только после долгого срока, затем глава о намеке словом, затем глава об указании глазом, затем глава об обмене посланиями, затем глава о посреднике.
Двенадцать глав касаются случайностей любви и ее свойств, похвальных и порицаемых, хотя любовь сама есть случайность и свойство, а случайность не носит в себе случайностей, и свойству нельзя приписать свойств. Однако так говорят в переносном смысле, ставя определение на место определяемого и основываясь на значении наших слов, ибо мы обнаруживаем, что одна случайность в действительности воспринимается нами как меньшая или большая, лучшая или худшая, чем другая случайность. Нам известно также, что случайности отличаются одна от другой увеличением или уменьшением своей видимой и познаваемой сущности, ибо к ним не приложимо понятие о количестве и дроблении на части, так как они не занимают места.
Эти главы – глава о друге-помощнике, глава о единении, глава о сокрытии тайны, глава об ее раскрытии и разглашении, глава о повиновении, глава об ослушании, глава о том, кто полюбил какое-нибудь свойство и не любит после этого других свойств, не сходных с ним, глава об удовлетворенности, глава о верности, глава об измене, глава об изнурении и глава о смерти.
О бедствиях, которые постигают любовь, говорится в шести главах. Это главы о хулителе, о соглядатае, о сплетнике, о разрыве, о разлуке и о забвении. Из этих шести глав две главы имеют себе противоположные в главах, упомянутых раньше, – это глава о хулителе, которой противоположна глава о друге-помощнике, и глава о разрыве, которой противоположна глава о единении. Для четырех из этих глав нет противоположностей в свойствах любви – это глава о соглядатае и глава о сплетнике, для которых нет противоположности, кроме их исчезновения (а истинная противоположность есть то, с возникновением чего первоначальное явление исчезает, хотя диалектики и не согласны насчет этого, и если бы не боязнь затянуть речь о том, что не относится к предмету книги, мы бы это исчерпывающе обсудили), затем глава о разлуке, которой противоположна близость жилищ (а пребывание вблизи не принадлежит к свойствам любви, о которых мы рассуждаем), и глава о забвении, которому противоположна самая любовь, так как забвение означает прекращение и отсутствие любви.
Двумя главами мы закончили послание – главой с рассуждением о мерзости греха и главой о достоинстве целомудрия, дабы наш рассказ и последнее слово заключить призывом к повиновению Аллаху, великому и славному, побудить благому и не допустить совершения порицаемого, – именно так предписано истина правоверному.
Однако мы нарушили при расстановке некоторых глав порядок, определенный в тексте настоящей главы, первой главы послания, и поставили их, в противность его основам, в конец или туда, где им подобало быть по порядку предшествования, по месту на ступенях любви и по времени возникновения ее свойств. Мы расположили их от начала до конца и поставили противоположные главы рядом, так что нарушился порядок следования в отношении немногих глав, а у Аллаха следует просить помощи!
Я расположил главы в рассказе так, что первая из них – настоящая глава, которой мы заняты, и в ней начало послания, и распределение глав, и слово о природе любви. Затем идет глава о признаках любви, и затем главы о полюбивших по описанию, о полюбивших с одного взгляда, о тех, кто влюбляется лишь после долгого срока, о тех, кто полюбил какое-нибудь качество и не любит после него других качеств, с ним не сходных, о намеке словом, об указании глазом, об обмене посланиями, о посреднике, о сокрытии тайны, о ее разглашении, о повиновении, об ослушании, о хулителе, о помощнике из друзей, о соглядатае, о сплетнике, о единении, о разрыве, о верности, об измене, о разлуке, об удовлетворенности, об изнурении, о забвении, о смерти, о мерзости греха и о достоинстве целомудрия.












