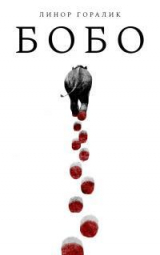
Текст книги "Бобо"
Автор книги: Линор Горалик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
– Отставить, – устало сказал Зорин. – Кто за старшего? Отвечайте неформально, без церемоний.
– Я, – сказал рыжий испуганно. – Старший лейтенант Бекиров Сергей Павлович.
– Немедленно очистить место задержания, – сказал Зорин. – Идиот вы, старший лейтенант. Скажите спасибо, что пять часов утра. При свидетелях… Я разделяю ваше негодование целиком и полностью, но голова у вас не только для того, чтобы шлем носить!
– Так указ же… И никого же нет, и темно еще, – обиженно сказал старший лейтенант.
– А вызвал вас кто? – рявкнул Зорин. – Кто-то еще, может, тут прячется, смотрит…
Старший лейтенант в ужасе огляделся, никого не увидел и хотел было возразить. Но тут же спохватился:
– Так точно, есть очистить место задержания!
Он махнул своим подчиненным, и преступников – покорную рыдающую юницу и упирающегося, растрепанного молодого человека с длинными волосами – повели в большой автомобиль с решетками на окнах. Рыжий медлил.
– Понимаю ваше беспокойство, – сказал Зорин, – но гарантировать ничего не могу. Посмотрим на последствия. Докладывать ради доклада не намерен – я слишком занят, старший лейтенант, чтобы заниматься вашим воспитанием, – но, если потребуется свидетельствовать, скрывать ничего не буду.
Рыжий тяжело вздохнул, еще раз взял под козырек и двинулся прочь. Кузьма смотрел ему вслед.
– У тебя хоть звание есть, ты, боевой певец? – усмехнувшись, спросил он Зорина.
– Да отъебись ты, – сказал тот беззлобно. – Я человеку, может, жизнь спас.
– Герой, – сказал Кузьма и вдруг окликнул рыжего: – Старший лейтенант!
Рыжий обернулся и пошел обратно, волоча за собой еле передвигающегося преступника, держащего на весу сломанную руку. Кузьма сделал несколько шагов к памятнику и подобрал валяющееся у его подножия почти пустое ведро с синей краской.
– Не удивляйтесь и не кричите на меня, – сказал он, – но сейчас я плесну синей краской вам в лицо. Такая, ну, милая рифма. Это будет очень неприятно, но к вечеру вы мне спасибо скажете. Закройте глаза.
От удивления старший лейтенант действительно на секунду закрыл глаза, и в следующий миг его лицо, одежда, рукав, которым он яростно утирался, – все стало синим. От запаха краски меня замутило. Я уже ничего не понимал.
– Да вы… Да вы с ума сошли? – по-детски закричал рыжий. – Да вы чего?!
– Это не я, – терпеливо сказал Кузьма, – это преступник. Вот он. При попытке законного задержания он плеснул вам в лицо краской, ослепил, кричал «Вот вам за Навального!», бил ведром по голове, пытался ткнуть кистью в глаз, сопротивлялся.
Старший лейтенант оказался сообразительным.
– Я тогда полотенцем вытру, а отмывать не буду, – задумчиво сказал он.
– Как минимум до завтра, – сказал Кузьма.
– Это спасибо вам, – сказал рыжий.
– Я же прямо тут стою, суки, – сказал задержанный, и кровь выступила у него на губах. – Я прямо вот тут стою.
И они уехали, а я успел заметить, как Толгат тихонько поднял с земли желтый выбитый зуб, быстро обтер его снегом и положил в свою котомочку.
Сна у меня теперь не было ни в одном глазу; мы стояли на совершенно пустой площади перед памятником, в городе, куда вошли всего час назад, – в Краснодаре нам полагалось не только отдохнуть, но и основательно запастись фуражом, – и должны были ждать наших сопровождающих здесь, у памятника, а они запаздывали, видимо, проспав. Вдруг представилось мне, как они приходят сюда, и видят и краску на памятнике, и кровь на снегу, и кошмарную надпись, на которую я не мог смотреть, и решают хоть на малую долю секунды, что мы причастны, что это наших рук дело. У меня тут же свело живот. Я побежал к подводе – мне надо было срочно поговорить об этом с кем-то, – но Яблочко, раздражающе равнодушный ко всему, что не касалось его лично (как, впрочем, и все несчастные калеки такого сорта), совершенно спокойно дремал, а Ласка жевала клок сена, выданного ей Сашенькой, отвернув от памятника умную узкую морду. Я выразил ей свои опасения. Она усомнилась в том, что наши сопровождающие – такие уж дураки, а потом проницательно заметила, что, если им и придет в голову подобная мысль, они решат, что все это нами сделано царской волей и по царскому же велению, а зачем – это им знать по рангу не положено. Видно было, что наш разговор не доставляет ей удовольствия, и я вдруг почувствовал себя ужасным, бестактнейшим невежей: если мне, едва обрусевшему чужаку, эти немыслимые слова в адрес нашего государя причиняют такую боль, то каково ей, русской коренной, видеть их прямо перед глазами уже добрых полчаса! Я пристыженно замолк и отошел; Ласка вслед мне пробормотала что-то, но я не расслышал: утренний ветер становился все сильнее, и мне задувало в уши даже через связанную Сашенькой замечательную шапку.
Задремавшего было Сашеньку между тем Ласкино ржание согнало с подводы и побудило размяться; потягиваясь, он подошел к курившему, топтавшемуся на месте Зорину и спросил:
– Что, нейдут?
– Придут, – сказал Зорин коротко.
Понятливый Сашенька цыкнул зубом и сказал, кивая на памятник:
– Вот суки. Как же их к ногтю прибрать-то, а?
– Это ваша, Сашенька, работа, не моя, – отрезал Зорин.
– Мы работаем, – вздохнул Сашенька. – Но и они, пидарасы, работают.
– Все у вас «они», – сказал Зорин зло. – Да кто, блядь, «они»?
– Ну это мы их расспросим, ребяточек, – сказал Сашенька.
– Вот тут-то вы и ошибаетесь, – ответил Зорин устало. – Ошибаетесь или притворяетесь, я не знаю. И говорить с вами про это не буду.
– Ну поговорите со мной, – жалобно сказал Сашенька. – Я же сейчас не на работе.
– Конечно, на работе, – усмехнулся Зорин.
– Ну на работе, – согласился Сашенька. – Но не каждую же секунду. И вообще, вы у нас человек свой. Вы ж надежный, как слон. Ну поговорите!
Зорин молчал и колебался, и видно было, что слова собираются у него во рту комом, как орехи за щеками у жадных бонобо, и вот-вот он уже будет не способен их проглотить, и, когда этот момент настал, Зорин выплюнул:
– Да нет же никакого «они»! Бабкам вы рассказывайте из телевизора про западные гранты и американских заказчиков, только мне, я вас умоляю, не пиздите! Сашенька, ну вы же сами в это не верите, а?
Сашенька молчал и внимательно смотрел на Зорина с маленькой улыбкой, в которой не мог я прочитать ни «да», ни «нет», а Зорин ковырял большим пальцем ноготь указательного, и опять собирались у него во рту слова, которые он не хотел говорить, но что-то такое было в Сашеньке, отчего не сказать, что у тебя наболело, оказывалось ужасно непросто, и Зорин продолжил – сперва тихо, будто не хотел, чтобы его слышал отошедший подальше и снова занявшийся своей перчаткой Кузьма, а потом вдруг громко, как будто именно к Кузьме и обращаясь:
– А лучше бы были! Лучше бы были и гранты эти ваши вымышленные, и американский заговор, и хер знает какие спонсоры, честное слово. Но нет же, блядь, это они сами. Са-ми! И еще совестью нации себя считают, интеллигенция ебаная. Как же надо ненавидеть свою страну, чтобы желать ей поражения в… ее делах. Ее солдатам чтобы смерти желать – это какими надо быть зверями? Интеллигенция! Интеллигент, между прочим, это гуманист в первую очередь. В семнадцатом году – да, смерти большевикам желали, с оружием на них шли, но за что шли? Почему желали? За Ро-ди-ну шли! За Рос-си-ю шли! А эти… Это говно нации просто сбегает на хуй из страны, а у кого бабла нет сбежать – те вон что делают, ненавидят ее и поражения ей желают, и смерти желают, и вон что делают. Говно, говно, говно – и это лучшие люди страны!..
– Так говно или лучшие люди страны? – вдруг быстро спросил Сашенька.
Зорин осекся и остался стоять с открытым ртом, затем сделал нелепый жест руками, как собака, чешущая уши, и сказал расстроенно:
– Да вы же поняли меня.
– И очень хорошо, – кивнул Сашенька. – Они вас считают говном нации, а вы их не считаете говном нации.
Зорин побелел.
– Да при чем тут я! – сказал он очень спокойно. – Мне на них поебать. А на что мне не поебать, так это на то, что вы – вы, вы – с ними в игры играете, церемонитесь, а они как сепсис, они страну отравляют своим пиздежом гнилым. Они здоровых людей заражают. Вы возьмите простого человека и спросите его, что он думает о стране, – вы увидите, что у него все правильно в голове, но, если глубже копнуть – там есть, есть эта гнильца, есть, есть, есть. Она от кого пошла? Она от меня пошла? От вас пошла? Она от ТАСС пошла? От Первого канала? От «Известий»? Нет, она пошла от этих подонков. Вы возьмите простого человека – он их «Медузу» ебаную не читает, «Дождь» их сраный в жизни не смотрел, а они как-то добрались до него, я вам клянусь, и гниль их в нем где-то есть. Да вот пойдемте, ну!
Тут Зорин быстро направился к нашей подводе, где под тремя спальниками дремал Аслан, которому наше путешествие давалось тяжелее всех, и я предвидел по этому поводу значительные неприятности. Толгат, пытаясь согреться, сидел на краю подводы и очень осторожно наливал себе кофе из огромного термоса, уступленного нам на хуторе Водокачка суровой женщиной Марией за то, что я катал ее сына Сеню вдоль реки Афыпсна на зависть женщине Алене и ее сыну Пете. Все время, пока мы шли к дому женщины Алены, юный Сеня лежал у меня на загривке, держался за мою шею мертвой хваткой и орал не переставая, так что, будь моя воля, я бы это катание живо прекратил, но у женщины Марии был единственный термос на весь хутор, и таково было ее условие, а Кузьма сказал, что без термоса дальше не пойдет, и пришлось Толгату с Мозельским подсаживать вынутого из постели Сеню мне на спину, явно вопреки его желанию. Зорин подбежал к Толгату и сказал запальчиво:
– Толгат Батырович, вот вы, извините, простой человек, вы скажите, вас новости интересуют? Вы интересуетесь, что в стране происходит?
Толгат осторожно поставил термос и кружку на край подводы, так, чтобы их случайно не пнул во сне ворочающийся Аслан, и смущенно заулыбался.
– Интересуют же, наверное, – сказал Зорин. – Я же вижу, вы неравнодушный человек. Вы телевизор смотрите?
– Сейчас нет, – сказал Толгат, – у нас тут нет телевизора.
Зорин растерялся. Сашенька издал удивительный звук, как будто пытался удержать во рту лягушку. Но Зорин, кажется, решил не отступать.
– Я имею в виду, вы же, пока мы не выдвинулись, как-то за новостями следили, наверное?
– Как-то, – кивнул Толгат.
– А как? – жадно спросил Зорин.
– Я беседовал о них с охранником, – улыбаясь, сказал Толгат. – Он телевизор смотрел и всем со мной делился.
– Видите, – сказала Зорин, оборачиваясь к Сашеньке, – видите? Простые люди, они между собой обсуждают, это главное, это главный канал, вот для чего надо работать, вот это важнее даже самого телевизора. Толгат Батырович, а можно я спрошу? Вот эти разговоры – это важно для вас было?
– Очень важно, – ответил Толгат мягко.
– А почему? Почему важно? – требовательно спросил Зорин.
– Мне интересно было, что этот человек думает, – сказал Толгат, по своей привычке ласково кивая. – Про телевизор, про все. Он был очень интересный человек.
– Тоже простой человек, – сказал Зорин, оборачиваясь к Сашеньке. – И что он думал, Толгат Батырович?
– Он думал, по телевизору менты пиздят, – сказал Толгат, улыбаясь и продолжая ласково кивать. – Так и говорил: «Как они что пиздят – так ты, Толгат, все наоборот понимай!» очень интересно. Но он был совсем непростой человек. Он по заказу убивал людей в девяностых в городе Самаре и при этом входил в секту хлыстовцев. Очень интересно.
Повисла тишина.
– Толгат Батырович, а кто вы по профессии? – улыбаясь, спросил Сашенька.
Подошел Кузьма и, хлопая в ладоши, бодро сообщил, что пришли наши сопровождающие. Аслан тут же проснулся и полез из-под спальников наружу, озираясь и покряхтывая.
– Минуточку, – сказал Сашенька. – Тут, как выражается Толгат Батырович, очень интересно. Ну так, Толгат Батырович?
– Я математик, – сказал Толгат, смущенно глядя на свои ботинки. – Профессор Оренбургского университета, у нас в Орске филиал.
– Вы идете или как? – спросил Кузьма. – Я задубел, сейчас без вас уйду, – и отошел прочь.
Зорин с ненавистью смотрел на Сашеньку, а Сашенька, не улыбаясь, смотрел на Толгата, спешно принявшегося зачем-то получше укладывать вещи на подводе.
– Вы же знали, – сказал Зорин.
– Как не знать – положено, – сказал Сашенька печально. – Айпенов Толгат Батырович, профессор математики, жена, трое детей, в две тысячи восьмом году уехал из своего несчастного Орска в Турцию на заработки, знакомые устроили его в зоопарк мусорщиком, а он очень хорош оказался со зверьми и вот выслужился, уже восемь лет как при нашем Бобо. Все деньги отправляет семье, жену любит, детей обожает…
– Скотина вы, Сашенька, – сказал Зорин устало.
– А по мне, так у нас получился очень важный разговор, Виктор Аркадьевич, – серьезно сказал Сашенька. – И вообще, вы же поэт, вас должна интересовать жизнь в ее неожиданных поворотах.
– Неожиданных поворотах… – с отвращением сказал Зорин, и вдруг голос его окреп: – А я вам скажу, что это совершенно ожиданный поворот! Преступник отравляет мозг хорошего, доброго, чистого человека – чему тут удивляться?!
– Интеллигентного, – тихо добавил Сашенька.
– Да, интеллигентного! – рявкнул Зорин. – Изначально – интеллигентного, но отравленного, понимаете?!
«Ах, Зорин, Зорин!» – подумал я, и вдруг стало мне за нашего Зорина очень грустно.
– Ах, Зорин, Зорин! – сказал Сашенька очень грустно.
– Что «Зорин»?
Зорин насторожился, и я развесил уши, понадеявшись, что сейчас Сашенька объяснит мне, почему сердце мое внезапно так сжалось от сострадания к этому сильному и знаменитому человеку в военном бушлате с красным, белым и синим значком на груди, к этому человеку, который, как и я, верен был царю и отечеству и, как и я, страдал от наносимых им оскорблений, но нет, надо же было именно в этот момент опять явиться Кузьме, а с Кузьмой – и троим людям, пришедшим размещать, и веселить, и кормить, и чествовать нас в городе Краснодаре. Люди эти, не замечая Сашеньки (и делая вид, что не замечают меня), тут же кинулись жать руки Зорину и говорить о том, как они рады его визиту, да какая это для них честь, да как они ждут его сегодняшнего выступления, да какой банкет они подготовили в его – то есть в нашу, тут они смущенно поправились – честь. Плечи у Зорина распрямились; мне вдруг стало смешно – и неприятно, что мною пренебрегают; я еще не знал, какие у Кузьмы планы на меня в этом городе, но не сомневался, что самые серьезные, и я подошел поближе – голова поднята, хобот вверх, осанка самая что ни на есть достойная царского слона, – так что людям этим пришлось попятиться. Я встал рядом с Кузьмой и красиво, как на параде, встречающим нашим поклонился, привстав на одно колено; они были в восторге, да и как им не быть; жаль, не было на мне моей попоны красно-бело-синей с золотым кантом, а вместо этого был я укутан в шерстяные тряпки, зато на голове у меня была связанная Сашенькой в дороге прекрасная сиреневая шапка, мягкая, с карманами для ушей, и я был уверен, что такой замечательной шапки эти люди никогда еще не видели. Они и правда были впечатлены, кажется, до крайности – пооткрывали рты и не находили слов, так и стояли, пока одна из них, барышня на каблучках, не спросила у Кузьмы очень робко, можно ли слоника погладить на счастье – говорят, очень помогает.
– И постучать? – поинтересовался Кузьма.
Барышня смутилась.
– Мне на права сдавать по вторник… – сказала она, зардевшись.
– Стучите, конечно, – галантно позволил Кузьма, и барышня очень деликатно погладила и постучала меня ручкой в кожаной перчатке по боку.
Я был готов к тому, что и остальные наши сопровождающие поступят похоже, но они, кажется, постеснялись. Зато крепкий мужчина в синем пальто, колом стоящем на его объемистом животе, сказал, разводя руками и поворачиваясь к памятнику:
– Вы уж простите нас за этот позор…
– Да ничего, – сказал Кузьма.
– Интеллигенция – страшные люди, никакой управы на нее, да, Зорин? – сказал Сашенька. Зорин снова побелел.
– Завтракать, завтракать, – заторопился мужчина в сером пальто. – Уж мы вас покормим, и слонику все приготовлено, по вашему брифу собирали, очень надеемся, что доволен будет.
Теплая, сладкая каша с фруктами в теплом, чистом, светлом сарае – его еще и украсили к моему приходу какими-то пышными фикусами, очень радовавшими мой глаз, – как это было бы прекрасно, если бы не ворочались в голове моей тяжеленные мысли, плоские, как плиты, из которых были сложены ступени под памятником, и прогнать эти мысли мне никак не удавалось, и казалось мне, что они медленно оседают у меня в голове, одна поверх другой, одна поверх другой, постепенно заполняя весь мой мозг и растягивая его своими острыми краями, отчего у меня отвратительно заболела голова. Я посмотрел на Яблочко и Ласку – оба уже поели и дремали, хорошо почищенные Мозельским, который в углу нашего сарая доедал свой завтрак и смотрел специально для него поставленный телевизор; да и не думаю я, что готов был бы эти мысли обсуждать с нашими лошадками, – я уже понял, что они совсем неглупы, но легки характером, и мне не хотелось грузить их тем, что тяготило мне душу. Ах, я понимал, я понимал то, что Зорин говорил про отраву, я понимал, что нельзя оставлять безнаказанными такие дела, как это дело с памятником, но хруст сломанной руки… Меня передернуло, и вдруг я не мог больше есть кашу. Но, с другой стороны, если не вселять в этих людей понимание, что последствия за оскорбление царя будут крайне серьезными… И ведь не каждый день же, конечно… Я закинул в рот еще немножко каши, и ее сладкий вкус приободрил меня. Да, конечно, царь наш, как всегда, во всем прав: дело тут не в серьезности или несерьезности последствий, дело в том, что чрезмерная мягкость с преступниками такого рода будет означать слабость власти, готовность власти терпеть оскорбления, а это, конечно, недопустимо: если проявить слабость к врагу внутреннему, то какой знак это подаст врагу внешнему, каковыми мы окружены? Если бы я от своей кормушки не отгонял опоссумов со всей строгостью, на какую был способен, уже на следующее утро на мне бы бонобо попытались всей ватагой кататься и по всему султанскому парку пошел бы слух, что я ослаб, а может быть, и из ума выжил, и к вечеру у моего тазика уже бы внаглую вечно голодные горалы паслись. Вот в чем вся логика! – сказал я себе, и порадовался собственному уму, и зачерпнул каши еще раза три-четыре. Но тут хруст снова вспомнился мне, и кашу я уже опять есть не мог… Черт знает что, а не завтрак! Хорошо еще, что пришел Толгат и стал мерить мне на переднюю левую ногу войлочную чуню, а к правой задней прикладывать раскроенные уже детали. Готовая левая передняя чуня села на меня как нельзя лучше, а правая задняя получалась, как понял я из бормотания Толгата, великоватой, и надо было ее еще немножко обкроить, но по всему выходило, что дальше я, слава тебе господи, пойду уже обутым и сегодня вечером последний раз будет Толгат вытаскивать палочкой всякую дрянь из моих несчастных расслоившихся ранок. Кузьма, пришедший нас проведать, смотрел на примерку чуней с большим интересом и очень Толгата хвалил, обещая, что сегодня же найдут ему здесь, в Краснодаре, сапожную мастерскую, где к чуням пристегают надежные подошвы. По мнению Толгата, до Ростова-на-Дону, где должны были ждать меня сапоги, чуни дотянут, а там…
– А там есть у меня вот какая идея, – сказал Кузьма, но тут в телевизоре заиграла тревожно-бодрая музыка, и Кузьма со словами «Так-так-так!» метнулся к телевизору.
То были местные новости, и начинались они рассказом про наш памятник и про то, как преступники не просто залили его краской и оскорбили царя ужасной надписью (какой именно, правда, не уточнялось), но и при задержании чуть не убили полицейского. Рыжий полицейский появился в кадре с синим лицом и свежим шрамом над глазом: его облили краской, колотили по голове ведром, попытались кистью выбить глаз, он едва не лишился зрения. К счастью, преступники задержаны, а памятник сейчас спасают добровольцы (их оказалось очень много – человек пятнадцать, и все с тряпками и ведрами). Так что понятно было, что все будет хорошо.
– Молодец вы, Кузьма Владимирович, – сказал Мозельский. – И как вы это все сразу поняли.
– Я что, – сказал Кузьма скромно. – Я на них посмотрел и думаю: опоздай мы – такие бы и ведром колотили, и краской облили бы, и кистью бы тыкали…
– Небось, – сказал Мозельский с уважением.
Глава 6. Крыловская
Чертова шапка, ах, чертова шапка! О, как бываешь страшен ты, русский март!..
Светлым утром вышли мы из Краснодара, нежным утром; спокоен был Кузьма, весел был услышавший какие-то славные фронтовые новости Зорин, Толгат мой ехал на мне верхом в такой же, как моя, сиреневой шапке, связанной заботливым Сашенькой, и поверх нее еще приладив огромной дулей красивый серый пуховый платок, купленный на выходе из города у бойких бабушек вместе с кастрюлей теплой картошки, теперь приятно гревшей мне шею; досматривал в подводе, на тщательно уложенном фураже, утренние сны сам Сашенька, уткнувшись в затылок храпящему Аслану, который наконец согласился отказаться от комичного своего щегольства и приобрести в Краснодаре страшные, но теплые зимние сапоги, комбинезон на пуху и огромную толстую куртку; Мозельский правил лошадками, которые вели между собой неспешный семейный разговор. Я был в странном настроении: я думал о Нем. Я представлял себе нашу встречу: впервые в жизни смущала меня моя величина, и мне хотелось стать меньше, стать таким, чтобы показать Ему: я здесь, чтобы служить; спасать; смиряться; но смиряться как воин перед военачальником – другого, конечно, ему и не надо. Важный вопрос занимал меня: вставать ли мне при встрече на одно колено или на два? В том, чтобы встать на одно, больше достоинства, на два – больше смирения; я решил наконец, что Толгат ближе к этой встрече, при мысли о которой подводило живот, даст мне правильную подготовку, но все равно разволновался и пошел слишком быстро, и Яблочко крикнул мне, чтобы я не несся вперед как оголтелый: хорошо мне вольно чесать, а на них подводы и чертов формалин. Я извинился и сбавил шаг и заметил, что небо потемнело и погасло и какой-то черный ветер поднялся и принялся дуть мне в лицо, и Кузьма сказал: «Не нравится это мне», – и вдруг от этого черного ветра и слова «формалин» ход мыслей моих изменился: вдруг, неясно почему, стало мне страшно, что я до Него не дойду. Внезапно что-то произошло во мне: по ногам побежали мурашки, мне стало холодно, холодно даже в шапке и чунях, сердце мое забилось часто при мысли, что я могу умереть в пути; отчего бы я, спрашивается, умер? – ах, да не знаю, не знаю, страх мой совершенно не искал ответа на этот вопрос, он окутывал меня морозом лютее любого мороза, щеки мои горели от стыда: я вдруг почувствовал, каким бы это было лютым позором – не дойти, разочаровав Его, оказаться настолько слабым (защитник! Боевой слон!), чтобы даже пути до него не вынести! Ноги мои вдруг стали подгибаться, сердце – колотиться; я встал на месте и принялся хватать ртом воздух; ужас мой был таким реальным, что я вдруг понял: прямо сейчас, прямо от этого ужаса я и могу умереть! Я дрожал, не разбирая, что говорит мне напуганный Толгат, видимо пытавшийся меня успокоить; а черный мартовский ветер дул все сильнее, а небо делалось непроглядным, и уже Аслан, разбуженный и встревоженный, бегал вокруг меня, а я, в ужасе от этих мыслей, которые словно бы раздувал во мне черный мартовский ветер, несший такие же черные, мокрые листья, липнувшие к моему лицу, стал крутиться на месте; Толгат вцепился мне в уши, наземь упала кастрюля, я топтал картошку, и тут что-то впилось в мою ногу, я заорал, а Аслан отбежал в сторону, и я увидел в руках его шприц. Мышцы мои вдруг расслабились, и все мне стало все равно. Я опустил голову. Пальцы Толгата на моих ушах разжались, и я понял, что он делал мне больно.
– Ничего себе, – сказал Кузьма.– Это что было?
– Немножко погода, – сказал Аслан. – Немножко разволновается.
– Ничего себе немножко, – сказал Зорин. – Он идти может?
– Немножко медленно, – сказал Аслан, приглядываясь ко мне.– Лучше постоять.
– Лучше-то оно лучше, – сказал Кузьма, глядя в бетонное небо, – но сейчас такое начнется…
И оно началось. Началось в ту же самую секунду, и серый снег, и ледяной дождь, и все это черный ровный ветер нес нам в лицо, в лицо, в лицо, и Яблочко начал страшно и яростно материться и пытался встать так, чтобы прикрыть собой Ласку, а Ласка только терпеливо отворачивала от мокрого снега морду, а Мозельский с Зориным и Сашенькой принялись, оскальзываясь и крича, устанавливать над нашей подводой сводчатый брезентовый навес, который никак не хотел входить в мокрые скользкие пазы, но только поздно было, поздно – за считаные секунды вещи наши промокли, промок фураж, бессмысленный Аслан бегал вокруг подводы, делая вид, что пытается помочь, но только путаясь у всех под ногами, и Зорин наорал на Аслана, а Кузьма на Зорина, и, когда люди мои наконец распрягли лошадок и отвели под деревья, не дававшие, в сущности, никакой защиты, а сами набились в подводу под навес, я почувствовал, что моя чертова шапка превратилась в шлем из мокрого снега с ледяной коркой. С воем я стал тереться ею о ствол и ветки ближайшей ели в надежде ее сбросить; ничего у меня не получалось, я орал и звал Толгата, в ответ мне орали ужасными словами про понаехавших сойки, прячущиеся в ветвях, и одна из них, с бойким и наглым голоском, изволила заметить, что кто хочет жить с людьми и шапки носить, тот пусть убирается в город, пока его не обосрали, после чего обосрала меня довольно основательно, попав прямо на переносицу. Вдруг стало мне жарко и очень спокойно, и я понял, что сейчас просто переверну подводу и высыплю их всех оттуда и буду медленно пинать ногами, пока не снимут с меня гребаную шапку, а также размокшие чуни, в которых булькает вода. К счастью, уже бежал ко мне Мозельский; я наклонил голову так низко, как только мог, и он содрал с меня чертову шапку; и помчался назад к подводе, делая огромные шаги и матерясь; я решил, что запомню, кто мне на помощь в этот момент пришел, и отплачу добром. Странный жар отпускал меня; мышцы мои все еще дрожали; меня стало клонить в сон – видно, проклятый укол давал себя знать. Я медленно пошел к лошадкам; те стояли мокрые и дрожащие под капающими ветками, и я, клюя хоботом, сказал им все, что думаю, про русский март: страшен ты, русский март, сказал я, и нельзя тебе верить. Посмотрите, сказал я, на это сияющее синее небо в разбегающихся у нас на глазах тучах; посмотрите на этот свет небесный, божественно разливающийся по умытому слезами природы лесу; посмотрите на соек в праздничном их оперении, переливающемся в солнечных лучах, на листья, трепещущие под каплями, и каждая капля чиста, как бриллиант в царской короне, посмотрите, как сам воздух, словно роскошная вуаль, полнится мелкими алмазами! О, на какую наивную слепоту настраивает тебя все это! Как хочется поверить в эту неземную, чистую роскошь русского марта! Не верь же, наивный, – страшен бывает русский март, суров и страшен, и, если не готов ты к нему, сердце твое будет сначала разбито видением подлинного его лика, а затем ранено, а уж затем – в этом я уверен – произойдет самое худшее: ты обнаружишь, что привык к его злу, к его страшным истинам, и научишься не возмущаться ими больше, и будешь жить так, словно это свинцовое небо и черная мерзость, льющаяся тебя в уши, вовсе не существуют, а есть только божественное солнце, сияющее в промытой вышине; если же указать тебе на то, что приходится терпеть тебе ради этих божественных алмазов на дрожащих листьях, скажешь ты, что не так все просто и что светлая наша весна стоит маленького страдания…
– Хороший укол, – сказала Ласка, улыбаясь. – Я тоже такой хочу.
Я понял, что сейчас заплачу: они не понимали меня; я хотел сказать… Я пытался сказать им… О, все оказывалось здесь так непросто, так ужасающе непросто! Я учился любить, я, ей-богу, учился любить – нет, я уже любил новый мой дом, Родину бескрайнюю мою, но любовь эта оказалась больнее, чем ожидал я; я понял сейчас, покачиваясь в полусне, что, стоя за спиной Павла и Халиля или Павла и Салиха, я готовился любить ее детской любовью, но не эта, не эта любовь была здесь нужна… Слезы все-таки покатились по лицу моему, и под теплыми солнечными лучами плакать было легко.
– Совсем ебанутый, – сочувственно сказал Яблочко, а Толгат уже похлопывал меня по ноге, чтобы дал я ему взобраться мне на загривок, а Кузьма сказал:
– Два с половиной часа потеряли, пиздец.
И мы пошли вперед, и я шел, как по облаку, по чавкающему мокрому снегу, и мне было легко, но только слаб я был и словно бы прозрачен, и Кузьма сказал: «На два часа от плана отстаем». Я мечтал об одном: чтобы мы дошли уже до станицы какой-то там, и меня покормили бы, и я поспал бы, и мокрые мои товарищи, я верю, не мечтали ни о чем другом, и станица наконец встала перед нами, и тут грянул хор:
…Из далеких стран полуденных,
Из заморской стороны
Бьют челом тебе, родимая,
Твои верные слоны!..
Велик был хор, человек пятьдесят, и наряден, и встречал он нас хлебом и солью, и казацкой пляской, и камерами, и мы, шатаясь, смотрели на него, а он все пел и пел про Родину:
…О тебе здесь вспоминаючи,
Песню дружно мы поем,
Про твои станицы вольные,
Про слона и отчий дом!..
– Это ты, небось, устроил, – зло прошептал Зорин, обращаясь к Кузьме, стоявшему со мной рядом и от усталости привалившемуся ко мне боком.
– Отъебись, – тихо сказал Кузьма, но видно было, что дорого бы он дал сейчас, чтобы не было хотя бы камер.
…Мы, как дань свою покорную,
От прославленных слонов
Шлем тебе, Кубань родимая,
Десять тысяч теплых слов!..
Немыслимая чернокосая красавица уточкой поплыла на меня с увенчанным солонкою караваем в руках. Я осторожно смахнул солонку и, целиком ухватив каравай, принялся от него кусать. В животе у меня забурчало. Хор начал издавать разнообразные звуки. Кузьма захрюкал. Камеры сверкали.
– И то ничего, – пробормотал Зорин с удовольствием и продолжил громко: – Господа казаки, слов наших нет – так мы тронуты вашим прекрасным приемом! Простите, если мы не слишком бодры, – дорога нам выдалась трудная. Нам бы перекусить и поспать…
– Не поспать, – перебил его Кузьма.
Зорин уставился на него, не понимая, и я испытал маленький укол удовольствия, сам не знаю почему.
– Увы, дорогие друзья, мы не сможем остаться у вас передохнуть, – ласково сказал Кузьма, тыча Зорина локтем в бок. – Мы из-за некоторых обстоятельств сильно отстали от графика. Но если вы позволите нам сходить в горячий душ и покормите…








