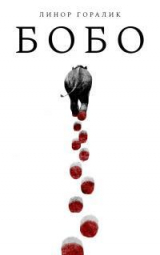
Текст книги "Бобо"
Автор книги: Линор Горалик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
– Мусора! – выдохнул рыжий юноша и непроизвольно вскинул в воздух руки вместе с двустволкой. – Серега слил!
– Подожди! Заткнись! – зашипела рыжая красавица, присев на корточки. – Не мог Серега! Не верю я!
Молодой человек в черном балахоне скомандовал шепотом:
– Все заткнитесь!
Раздвинув еловые ветки, он посмотрел в сторону дороги.
– Это не за нами, – прошептал он. – Ты, придурок, – сказал он рыжему, – дай сюда. – И, выхватив у рыжего, так и замершего с поднятыми руками, двустволку, направил ее прямо мне между глаз.
Я отлично понимал, что стрелять в таких обстоятельствах никто в меня не будет; затруби я сейчас – и эти юные браконьеры мигом оказались бы в полицейской машине, да только отчего-то стало мне ужасно интересно и очень весело.
– Эй, ты, – тихо сказал балахонистый с двустволкой, – а ну иди вперед по просеке и не оглядывайся. Давай-давай, иначе получишь пулю в лоб.
– Что ты ему тыкаешь! – возмущенно сказал рыжий, успевший прийти в себя, а затем обратился ко мне, просительно сложив руки у груди: – Уважаемый господин слон, мы вовсе не хотим вам навредить! Пожалуйста, будьте любезны… Ну то есть пойдемте, пожалуйста, с нами, нам очень надо.
– «Уважаемый господин слон!» – передразнил его балахонистый. – Ты еще ножку ему поцелуй и «Его Величеством» назови. Тоже мне, сука, либертарианец!
– Я почище тебя, сука, либертарианец! – шепотом взвился рыжий. – Я, между прочим, минархист, а ты сраный либертарный социалист! Ты Конкина читал, а? Ты Лассаля читал вообще? Да у Лассаля сказано…
– Заткнитесь, придурки, – очень тихо сказала рыжая красавица, и эти два юных философа действительно немедленно заткнулись. – Вы посмотрите на него: ничего он не понимает. Можно уходить, если вы и правда не собираетесь перейти к плану «бэ».
– Я готов на план «бэ», – мрачно сказал балахонистый и снова вскинул двустволку, о которой вроде как успел забыть.
– Стой! – испуганно заныл рыжий. – Стой! Все он понимает! Я ж говорю, дружбан мой в Богучаре в конном клубе работает! Он все слышал, этот и разговаривать может, только гнусавит, как будто у него нос заложило!
Это было обидно – мне казалось, что голос у меня очень милый, даже если и немножко в нос; но «гнусавит»…
– Я не гнусавлю, – раздосадованно сказал я, – у меня легкий французский прононс. Они замерли в тех позах, в каких стояли, и уставились на меня. У рыжей красавицы так широко открылся рот и запрокинулась голова, что я испугался, не упадет ли ей на язык случайная шишка.
Первым, как ни странно, опомнился юный рыжий.
– Д-д-д-дорогой господин слон… То есть ты, ц-цц-царское отродье! – сказал он, слегка стуча зубами. – А ну пошли с нами! Тебя похищает Антивоенная Либ-б-б-бертарианская Лига города Гусь-Хрустальнн-н-н-ного!
– Отродье никуда идти с вами не желает, – сказал я терпеливо, понимая, что в большой мере подражаю Кузьме, которого сей же момент жестоко предавал; но мысль о том, как замечательно насолю я Кузьме Кулинину, заглушала, каюсь, голос моего здравого смысла. – Господин слон же, напротив, готов был бы и пойти; обращения с собой я жду вежливого, а целиться в себя из какой бы то ни было пукалки не позволю и хамства не потерплю.
И я гордо пошел по просеке, стараясь ступать потише и веселясь от мысли, как хватятся меня мои люди через минуту-другую. Впервые за все время нашего путешествия было у меня чувство, что не они мной распоряжаются, а я ими, что бы там ни думали мои похитители; понимал я и то, что долго поиски не продлятся: слона в маленьком городе не утаишь; а только пусть побегают, поволнуются, вместо того чтобы мною помыкать и надо мною же издеваться! В этом приподнятом настроении дошел я до трассы, благо та оказалась совсем недалеко, и обнаружил, что там припаркована небольшая фура, расписанная какими-то диванами и креслами.
– Стой, стой! – зашептал рыжий.
Я остановился. Балахонистый быстро выглянул из-за кустов, дождался момента, когда трасса была пуста, и скомандовал:
– Сейчас давайте!
Я двинулся вслед за балахонистым к фуре; тот в одну секунду вскочил на водительское сиденье, забросив вперед двустволку; рыжие быстро открыли фуру, выпустили сходни, и я взошел внутрь. Было душно и прохладно, пахло деревом и пылью, секунда – и нас качнуло, и фура помчалась по трассе, а рыжие засуетились вокруг меня, расплескивая из больших банок синюю и белую краску. Вдруг жалость к ним, таким молодым, навалилась на меня, и все мое веселое настроение исчезло.
– Ведь посадят вас, – сказал я печально; я многое уже понимал.
Тут у рыжего задрожала губа; скорчилось лицо его; он закусил губу, медленно сел на пол фуры, обхватил себя обеими руками и по-детски разревелся в голос.
– Что с тобой, идиот? – злобно спросила красавица, возясь с большой клетчатой сумкой, на которой заело замок; дернув стенки сумки в разные стороны, она с треском порвала ткань и вытащила на свет две большущие кисти. – Вставай давай! Времени нет!
– Маму жалко! – провыл рыжий. – Что с ней будет, если нас обоих посадят?!
Красавица, балансируя на шатающемся полу фуры, подошла к нему, встала над ним и наставила на него кисть.
– А ну вставай давай! – прошептала она. – Мне насрать на эту ватницу, понял?! Взял себя в руки и встал, или я сейчас дверь открою и выкину тебя на хуй! На хуя ты Лиге нужен такой, тряпка? Сдохнешь – мы ничего не потеряем! Или давай работай, или на хуй катись!
Рыжий, хлюпая носом и тихо постанывая, кое-как поднялся на ноги и взял из рук сестры кисть. Поразмыслив, та кисть у него отобрала и вытащила из сумки два плотных, скатанных в трубочку листа.
– На, клей, – сказала она. – Красить я буду, ты все испортишь. Клей вот сюда. – И она ткнула меня в бок. – Давай, не тяни, десять минут осталось!
Рыжий развернул листы – на желтом фоне там была нарисована скрученная в три кольца змея. Все еще хлюпая носом, он наклеил один лист мне на бок, осторожно похлопывая там и сям; тут же сестра его принялась пририсовывать справа от змеи три широкие полосы краской – белую, синюю и белую.
– На ту сторону переходи! – скомандовала сестра, и все повторилось с другой стороны.
Я ежился от щекотки, капли краски стекали по моим бокам, и все это было совсем не похоже на то, как осторожно и нежно расписывал меня Толгат, да только чувствовал я, что тут уже не до осторожности и нежности. Рыжая отошла от меня подальше, осмотрела меня справа, потом слева и осталась, видимо, удовлетворена. Брат ее сидел в углу с отрешенным видом; она глянула на него презрительно. В кармане ее джинсов зазвонил телефон; она схватила его с такой скоростью, будто он мог вырваться и убежать.
– Пятиминутная готовность! – проорал кто-то в трубку; я догадался, что это звонил с водительского сиденья балахонистый.
– Все готово, давай, – сказала рыжая спокойно, но я заметил, что пальцы ее дрожат. Сунув телефон назад в карман, она наклонилась к сумке, достала оттуда сложенные вчетверо большие листы бумаги с какими-то надписями черной краской, подошла к брату своему и пнула его ногой.
– Готовься давай, – сказала она и положила ему на колени один лист. – Через четыре минуты выходим.
– Я готов, – сказал он, глядя перед собой невидящими глазами.
Она пнула его еще раз, присела рядом с ним на корточки и сказала:
– Васька, разве ты за войну?
– Нет, конечно, – сказал он возмущенно и посмотрел наконец сестре в глаза.
– Разве нормально, что эти пидарасы людей убивают? Разве Буча – это нормально? Разве Гостомель – это нормально?
– Нет, – сказал Васька, – это пиздец.
– Мы можем это терпеть?
– Нет, – сказал Васька, – не можем.
– Мы можем их остановить? – спросила красавица, гладя Ваську по рыжим встрепанным волосам.
– Нет, – сказал Васька со вздохом, – не можем, Соня.
– Значит, если мы молчим, мы их поддерживаем, так?
– Так, – упавшим голосом сказал Васька.
– Значит, что мы должны делать? – спросила Соня.
– Не молчать, – ответил Вася довольно твердо.
– Правильно. Мы должны говорить, и чем громче, тем лучше. А теперь скажи мне, Вася, говорить «Нет войне» – этого достаточно?
– Недостаточно, – сказал Вася со вздохом.
– Почему? – спросила Соня и ласково дернула брата за ухо.
– Я знаю, знаю, – сказал Вася и легонько ее оттолкнул. – Потому что это беззубая риторика людей, лишенных четкой философской позиции. Потому что ворам и убийцам надо говорить в лицо, что они воры и убийцы. Потому что потому.
– Ну вот же, Васька, – ласково сказала Соня, – все ты знаешь. Ты же понимаешь, что надо.
– Надо, – сказал Васька и кивнул.
– Ну что с тобой творится? – спросила сестра.
– Страшно, Соня, – прошептал Васька и невольно глянул в сторону водительской кабины.
– И мне страшно, Васенька, – сказала Соня шепотом и села на пол рядом с братом. – Страшно – а надо.
– Страшно – а надо, – эхом повторил Вася.
Сердце мое разрывалось. Я твердо решил было не выходить из фуры и сорвать им что бы то ни было, что там они задумали, но вдруг понял, что выйдут они тогда со своими плакатами без меня – и бог весть что сделают с ними; вспомнил я страшный хруст сломанных костей возле памятника запорожцам, и меня передернуло… Ах, каким дураком, каким ужасным дураком я чувствовал себя, как проклинал я себя за то, что согласился пойти с ними, – может, не реши я развлечься, не реши я Кузьму подразнить, и не произошло бы ничего, да только теперь поздно было об этом думать. Одно я знал твердо: сейчас куда эти дети – туда и я; не оставлю я их одних.
Резко качнуло меня вперед, так, что я чуть с ног не свалился: фура остановилась. Снаружи было шумно – видимо, в людное место мы приехали. Внезапно рыжая Соня схватила брата за руку повыше локтя и зашептала:
– Вася, постой, не пойдем!
Вася, открыв рот, смотрел на сестру в растерянном ужасе.
– Он откроет – толкнем его и убежим! – жарко прошептала Соня.
– Ты что, Соня, – вдруг сказал Вася и надвинулся на нее, медленно поднимая к груди кулаки, – ты что! Ты предать нас решила?!
Соня быстро заморгала и словно очнулась: бросившись к брату и обняв его вместе с его кулаками, она зашептала:
– Нет, нет, Васечка, что ты! Померещилось, померещилась хуйня какая-то, ты забудь… Ты выкинь из головы, это я…
Не знаю, что она собиралась сказать, хотя полмира, кажется, отдал бы за возможность это услышать, но распахнулась задняя дверь фуры, и балахонистый в надвинутом по самые губы капюшоне прошептал:
– Вперед!..
Грохнула об асфальт широкая доска, по которой положено было мне сойти вниз, и я, ослепленный солнечным светом после долгой полутьмы, вдруг потерял себя на несколько невыносимых секунд: мне привиделись деревянные сходни и керченский причал, и встречающая меня веселая толпа на причале, и счастье, которым полнилась в тот миг бедная моя душа, постаревшая с тех пор на много сотен лет, вдруг иглою ввернулось мне прямо в сердце – счастье нового начала, счастье предчувствия того, как мир сейчас распахнется перед тобою. И я нынешний, я, стоящий перед сходнями потрепанной мебельной фуры, внезапно испытал малую толику этого счастья – и устыдился.
Первой сбежала по сходням Соня, за ней Вася, последним поспешно сошел я. Оказались мы возле длинного-длинного здания с высоченными белыми колоннами. Первым развернул плакат балахонистый и поднял его над головой; руки его тряслись, и плакат он, как я увидел, держал вверх ногами. Подняли плакаты и Соня с Васей. Люди стали оборачиваться на нас в изумлении.
– Все, что ваше, будет наше! Россия будет нашей! – громко выкрикнул балахонистый и закашлялся, но быстро справился с собой и пошел вперед. – Все, что ваше, будет наше! Россия будет нашей! Все, что ваше, будет наше! Россия будет нашей!..
Справа от меня шла Соня, слева – Вася.
– Все, что ваше, будет наше! Россия будет нашей! Все, что ваше, будет наше! Россия будет нашей!.. – выкрикивали они, и я бы, если б мог, кричал с ними. Где-то недалеко уже выли сирены, и я думал, что люди будут фотографировать нас и бежать за нами, чтобы посмотреть, как мы идем, но люди забегали в здание с колоннами, и через несколько секунд мы оказались перед зданием одни, совершенно одни, и тогда Вася почему-то закричал срывающимся голоском:
– Лучше нет команды в мире, чем «Днипро» на Украине!.. – а сирены выли уже близко, совсем близко, и, кажется, всего через несколько секунд воздух стал красным, синим, красным, синим, и Соня в белой рубашке уже лежала на асфальте, пытаясь отбиваться ногами, выкрикивая проклятия и ругательства, и лежал детским лицом вниз Вася с окровавленным носом, а балахонистого там, впереди, мне даже не было видно за спинами четверых стеклоголовых в черном, набросившихся на него, и вдруг я почувствовал резкую боль в левой передней ноге и понял, что вокруг нее обвился жгут и что этот жгут уже перекинули на правую ногу, и, прежде чем я успел попробовать лягаться, я был стреножен, стреножен, как последний мерин, стреножен и обездвижен, и любая попытка дернуться причиняла такую боль, что я вынужден был застыть на месте, кипя от гнева, и кольцом стояли люди со стеклянными головами вокруг меня. И открылась дверь полицейской машины, и вышел из нее Кузьма Кулинин, и встал передо мной, уперев руки в бока, а я смотрел не на Кузьму – я смотрел, как волокут в другую машину Соню, и глаза мои были сухи. И тогда Кузьма сел обратно, не сказав мне ни слова, и мне развязали ноги, а из машины вышел Толгат и стал гладить меня и растирать следы от веревок у меня на ногах, а я не плакал.
Ресторан был с террасою, и Кузьма сделал так, что, кроме нас, никого не было на той террасе и в том ресторане, не считая Сашеньки с Мозельским за отдельным дальним столиком, – так Аслану хотелось показать слона Бобо своему гостю. Чучельник гусевской оказался человеком, удивительно похожим на Аслана, – один и тот же формалин они, что ли, пьют? – сухим, сутулым, с дряблым личиком и в синем пиджачке, разве что цветом и длиной отличавшемся от Асланова нарядного красного пальто. Звали его Михаил Алатырский. На меня он несколько раз посмотрел ласково и внимательно, и от этого взгляда меня немедленно затошнило, так что даже порыться в поставленных для меня на край веранды тазах с едою я в себе сил не нашел.
– Много ли здесь работы для специалиста вашего уровня? – заинтересованно спросил Зорин. – Мне кажется, в таком маленьком городе…
– Я же, миленький, не по городу работаю, – весело сказал Алатырский, мгновенно отделяя рыбью голову вместе со скелетиком от мягкой белой плоти. – Я езжу-мотаюсь, тут консультирую, там штопаю… Есть для музеев, есть для частных коллекций, этого много. И по стране езжу, и за пределы езжу. Инструменты взял, руки в карманы сунул – поскакал. И наоборот, мне в мастерскую кто откуда работу привозит. Не скучаю, не жалуюсь.
– Мы, работники троакара, мочь службу в любой точке мира, – влез Аслан напыщенно. – Наша сила – руки и мозг!
Алатырский, тихо улыбаясь и глядя в тарелку, сделал паузу, во время которой Аслан стал пунцовым. Пожалев беднягу, Кузьма спросил:
– Аслан Реджепович, а с тех пор как вы учились, вся эта наука таксидермистская далеко ушла?
– О да, – расцвел Аслан, – очень, очень далеко! Новый материал, новый техник очень много! Помню я плакат с Ленин в аудитории у нас – все время учиться, учиться, учиться!
– Да, в первую очередь материалы и техники, конечно, – сказал, улыбаясь, Алатырский, – но это дело третье; а вот мир изменился очень здорово. Раньше в первую очередь считалось, что мы будем работать для музеев и научных институтов, конечно; а большинство, разумеется, сегодня работает на частных заказах, и там такое бывает…
– Какое? – жадно спросил Зорин.
– Да вот, пожалуйста, с чем я только дела не имел, – сказал Алатырский весело. – Ладно еж, или, скажем, черепаха, или змея. Но довелось мне в один только последний месяц повозиться с комодским драконом, рыбой фугу, двумя бонобо и, представьте, дикобразом.
– О, я тоже имел, имел дело с дикобразом! – воскликнул Аслан. – Я использовал протокол…
Я посмотрел на него в упор, но он не заметил моего взгляда, а Зорин перебил его и изумленно спросил Алатырского:
– Прямо здесь, в Гусе?
– Пришлось покататься, – сказал тот, улыбаясь и понижая голос. – Нынешние времена – они, конечно, особенные… – И продолжил, испуганно спохватившись: – Впрочем, вы меня простите, ради бога, я не знаю, стоит ли…
– Расскажите, – попросил Кузьма. – Я обещаю, дальше нас не пойдет.
Алатырский колебался, но желание поделиться историей распирало его: видно, очень хороша была история.
– Шепнули тут мое имя одному военному человеку, – улыбаясь своей тарелке, негромко начал он и, поигрывая вилкой, свернул рыбью кожицу в аккуратный квадратный конвертик хвостом наружу. – Высокопоставленному человеку, не буду скромничать. Был под Киевом, значит, честный зоопарк… Ну, кто покрупнее, кто помельче… Вот они территорию, значит, взяли, ну, какое-то время за нее бои шли, состояние у многих животных не очень, а какие помельче – ничего, голодные только… Что прикажете с ними делать? Вот он и распорядился – отсмотреть, кто есть помельче, доложить. Составили ему список. Он и выбрал – двух бонобо, дракона и дикобраза. Все равно им пропадать, понятное дело. Взяли, усыпили их, как умели, удавочкой, и вывез он их с собою. Имя мое, как уже говорилось, ему шепнули, он и обрадовался – сам-то он из Владимира. Так мы с драконом и пересеклись. Очень интересная оказалась задача и, по ряду технических причин, очень нестандартная… Что же до бонобо, там все дело оказалось в состоянии материала, которое оставляло, если честно…
Тут я услышал удивительное: а именно исходящий из моей звенящей, звенящей головы собственный голос, как бы не имеющий ко мне никакого отношения. Этот голос существовал совершенно отдельно от меня, был чистым, яростным и высоким, и, если бы не французский прононс, я бы усомнился, возможно, что он действительно мне принадлежит. Но нет, это был мой, мой голос, и он спросил, пока я глядел в упор на этого человека с ласковым сморщенным личиком, человека в чистеньком, ловко сидящем синеньком пиджачке:
– А фугу?
Алатырский уронил вилку. Кузьма резко обернулся ко мне.
– А фугу? – спросил я. – Ее тоже удавочкой?
Сашенька и Мозельский, оторвавшись от своих тарелок, смотрели на нас из-за своего дальнего столика.
– Нет, – спокойно сказал Алатырский. – Рыба фугу, а вернее, такифугу, а еще точнее, бурый скалозуб умерла в исследовательском институте в Москве, я ездил ею заниматься. Я хороший специалист по иглобрюхим.
– Я вижу, вы не отравились рыбой, – сказал я с тоскою, сам не понимая, что несу, и предчувствуя лишь большой стыд – большой-большой стыд, – однако не умея уже остановиться, – но неужели вас хотя бы не тошнило от всего остального?
– Фугу можно отравиться только во время еды, да и то лишь при неправильной разделке, – мягко сказал Алатырский (стыд уже полз по моей коже, как бесцветный огонь, но я не отступал, я решил довести этот разговор до конца и только потом забиться в какой-нибудь угол, закрыть глаза и там тихо умереть). – Впрочем, я ни секунды не сомневаюсь, что вы отлично это знаете, и понимаю, чтó вы пытаетесь мне предъявить.
– Нет, – сказал я, – вы не понимаете и не поймете. Вернее, не так: вы умный человек, и я это вижу, но такие, как вы, все могут понять и ничего не могут почувствовать, иначе вы в жизни не смогли бы подать руку вашему высокопоставленному военному человеку, а если бы и принудили вас, это касание бы вас отравило, вы бы никогда не смогли вот так сидеть и улыбаться и сворачивать конвертики из рыбьей кожи. Но вы можете, а значит… – Тут я сбился и стал хватать ртом горящий в моем бесцветном, безудержном стыде раскаленный воздух. – А значит…
– А значит, кому-то, кажется, попались в одной из мисок перебродившие фрукты, – с усмешкой сказал Кузьма.
Зорин хрюкнул. Аслан рассыпался отвратительным мелким хохотком – словно утка подавилась. Хмыкнув, отвернулись Сашенька с Мозельским, и непонятно было, слышали они меня толком или нет.
– Вы смеетесь, – сказал я. – Вы смеетесь, но все это ужасно, ужасно.
Глава 17. Муром
Поскрипывала на резком ветру небольшая нарядная карусель, бились над нашими головами флаги, флаги, флаги, а кругом карусели, спинами к ней, стояли вооруженные орки, и самый страшный из них – огромный, с зеленоватою кожей, с кривыми зубами – держал в огромной татуированной правой лапе дубинку и похлопывал ее концом по ладони левой. С тоскою и болью подумал я, что конец происходящего мне известен, и закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Белые неровные вспышки от торчащих зубов орка мелькали у меня под веками. Я попятился и встал подальше – как можно дальше, – и услышал командный голос Зорина:
– Распределиться по двое на каждого, один – шокером в плечо, второй – дубинкой по ногам, за минуту закончим! Это же не…
– Вы, молодой человек, отойдите-ка подальше, чтобы не задело, – жестко перебил его кто-то, и я даже с закрытыми глазами почувствовал, как Зорин заливается красным цветом, и получил от этого, надо сказать, немалое удовольствие.
– Вы подождите, пожалуйста, одну секундочку, – вдруг раздался тихий голос справа от меня. – Вы, если можно, меня послушайте, пожалуйста, одну секундочку!
Это говорил Толгат. От неожиданности я распахнул веки: так и было, Толгат обращался к начальнику ментов, стоявших перед орками плотным полукругом, выдвинув вперед сверкающие щиты. Видимо, неожиданное вмешательство Толгата изумило начальника не меньше, чем меня: начальник, только что грубо отмахнувшийся от Зорина, повернулся к Толгату и, подбоченившись, выжидательно склонил голову.
– Я, понимаете, преподаватель институтский, университетский, – чуть срывающимся голосом сказал Толгат быстро. – Я, понимаете, видел… В смысле, я понимаю… То есть мои студенты, они ходили… Эти ролевики, дети, они как мои студенты. Я с ними даже ходил пару раз посмотреть, просился, интересно: как костюмы, социальная динамика, как все… Вы, если можно… я поговорю с ними. Вы мне три минуты буквально, пожалуйста… Они плохого не хотят, они просто орки, это такой как бы кодекс… Они друг перед другом показать не хотят, сдаться…
– Вы поговорить с ними, что ли, хотите? – вдруг перебил Толгата полицейский начальник.
Толгат взволнованно закивал.
Начальник осмотрел его и поджал губы.
– Две минуты, – сказал он и посмотрел на часы на толстой безволосой руке.
Толгат медлил.
– Что? – спросил начальник не без удивления.
– Только вы, пожалуйста, отойдите, – твердо сказал Толгат и, наконец оторвав взгляд от земли, посмотрел начальнику прямо в глаза. Начальник ответил Толгату долгим тяжелым взглядом, приподнял брови и ухмыльнулся.
– Без говна у меня! – сказал он и поднял в воздух длинный пухлый палец, но не отошел, а сделал знак своим ментам, покрутив в воздухе пальцем. Те медленно, нехотя отвернулись от орков, отвернулся и он сам.
Толгат быстро обежал полицейских и встал напротив главного орка, оказавшись лицом почти впритык к его мохнатому серому нагруднику, увешанному десятком разномерных пластиковых черепов.
– Ребята, – быстро сказал Толгат, – уходить надо, все. Это недетское дело. Шаг вперед – нападение на представителя власти. Хер с ним, не стоит того.
Мелкие орки, смешавшись, давно в тревоге посматривали на главаря. Двое с правого фланга начали медленно отступать спиной вперед и, обогнув карусель, бросились бежать. Главарь нервничал; синие глаза его под кривозубой громадной маской с клыками и шерстистыми ушами были скошены влево.
– Толик, хватит, пошли; это не в падлу, – тонко сказал стоявший от него справа щуплый орк в маске попроще, зато в огромных серых меховых штанах и с голой вычерненной грудью.
Тут орк Толик внезапно сгреб Толгата за грудки и притянул к себе со страшною силою, не выпуская из рук дубинки; ойкнув, бедный мой Толгат зажмурился; я рванулся вперед, но Кузьма прыжком встал на моем пути, раскинув руки.
– Что, сука подментованная, сломать меня хочешь? – заревел он. – Великий Гольфимбул, сука, никого не боится, у Великого Гольфимбула, сука, справка есть!..
В следующую секунду Великий Гольфимбул рванул рубашку Толгата в стороны – затрещали швы, посыпались пуговицы; рванул Толгатову котомочку – она слетела у Толгата с плеча, взмыла в воздух и полетела прямо на середину паркового пруда. Лицо Толгата побелело. Хоботом я толкнул Кузьму так, что он отлетел в сторону и упал на траву; еще миг – и от Великого Гольфимбула остался бы только черный лохматый парик, втоптанный в землю, но тут раздраженный голос сказал:
– Так, Толик, ты охуел, я пошла отсюда, – и маленькая рогатая орочка в очень короткой мохнатой юбке с огромной и, судя по всему, невесомой шипованной булавой в руках, отдав честь полицейским, наблюдающим за ними с большим интересом, изящно развернулась и направилась прочь.
– Наташка, ты чего?! – жалобно воскликнул Толик и побежал за ней следом. – Натах, ну нормально?!..
Остальные орки, робко оглядываясь на ментов, поспешно потрусили вслед за вожаком. Толгат, дрожащими руками ощупывая порванную рубашку, пытался прикрыть ее на груди, то хватаясь за ворот, то оттягивая вниз задирающиеся помятые полы. Я подбежал к нему и закрыл его собою от всех остальных. Он, давясь, всхлипывал, и думал я, что дело тут было не в рубашке и не в Толиковых поганых кулаках, а в маленькой его котомочке. Молча возвращались на окраину парка, где им и положено было стоять, хмурые полицейские: Кузьма что-то обговаривал с ними заново. Зорин подошел и попытался сунуться к Толгату с какими-то словами; я заступил ему путь, и Зорин посмотрел на меня с ненавистью. «Что же, – подумал я, – и я к тебе добрых чувств больше не питаю». Мы с Толгатом пошли к подводе – менять ему рубашку; он успокоился немного, и мне тоже стало полегче. Беспокойство за собственную мою судьбу, которая прямо сейчас должна была решаться, вдруг отпустило меня.
– Что, – сказал мне сочувственно Гошка, – плохи твои дела, жопа толстая? Напизделся, нараззявливал пасть? Эх ты, болтун…
– Не трожь беднягу, – сказал Яблочко. – Тебя самого вон как таращило, заткнуться не мог.
– Меня, может, и таращило, а только я знал, с кем пиздел! – тут же взвился Гошка.
– Так и он знал, с кем пиздел, – печально сказал Яблочко. – Дурак ты, Гошка.
– Я, может, и дурак, – вдруг сказал Гошка очень спокойно, – а только не из-за меня праздник разогнали и парк оцепили. Я дурак-дурак, а каюк тут не мне пришел.
И это была правда: каюк, скорее всего, пришел тут мне – причем каюк полный, окончательный. Парк был оцеплен, чтобы в него не мог войти никто из пришедших на запланированный праздник, как официально предполагалось, но не мог я избавиться от мысли, что это еще и затем было сделано, чтобы я, лично я не мог из этого самого парка ни с того ни с сего взять и сбежать: не было мне больше доверия. Кузьма не смотрел на меня и не заговаривал со мною, как если бы мы стали чужие; быть может, мы и стали теперь чужие, и от мысли этой так сжималось мое сердце, что боль доходила горлом аж до проклятого языка моего, и я начинал задыхаться. Зорин, наоборот, смотрел на меня почти неотрывно, неотрывно и зло, и хотел бы я сказать, что взгляды эти встречал открыто и смело: но нет, я от страха перед этими взглядами каждый раз, когда натыкался на них, готов был под себя сходить и, чтобы не видеть Зорина, каждый раз поворачивался к нему боком, да только он специально находил способ так перейти по поляне, чтобы снова мне на глаза попасться и снова зыркать на меня серыми, ледяными своими глазами, и плохо было мне, как же плохо. Квадратов сидел на краю подводы, откуда торчали ноги спящего Мозельского, – сидел, теребя на груди крестик и глядя в землю, а Сашенька, прогуливаясь под сенью дубов, осматривая приготовленные для сорвавшегося праздника качели и зачем-то в сотый раз перечитывая широкую растяжку «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВЫЕ СЕМЬИ!», время от времени вскидывал на меня пушистые свои глаза, и я каждый раз ежился, представляя себе, что он возьмет и скажет: «Ну что, элефантид Бобо, отряд хоботные, класс млекопитающие, год рождения две тысячи шестой, место рождения – у задней стенки слоновника личного султанского зоопарка, мать Аделина, отец Балтазар, – ну что, элефантид Бобо, как же мы с вами поступать будем?..» Ах, если бы я знал, как мы будем со мною поступать, если бы я знал!..
При одном воспоминании об отце с матерью сделалось мне дурно. Представилось мне всего на секунду, что это не я, а один из них стоял бы вчера поздним вечером перед Зориным в лесу под Папулином, стоял бы и… И что? Разве так бы они с ним говорили? Разве так бы они смотрели на него? Разве стал бы отец напоследок в изнеможении ногой топать и спиной к собеседнику поворачиваться, как жирафа Козочка делает, когда хочет свой характер показать? Позор, ах, какой позор получился – и вот чем позор этот закончился. А ведь начал я правильно, хорошо начал: поклялся себе, что вообще ничего не скажу, всю дорогу молчать буду, молчать и думать, и пока до конца все не додумаю – слова не произнесу. И будь ты проклята, жалкая газетенка, которую Зорин подобрал в Папулине, – не помню я, как она называлась, а только была в ней моя фотография (и увидел я, как стал худ и нехорош собой), а справа от фотографии тянулся заголовок: «Спасенным малышам – новые семьи!» – и пониже: «Царский слон Бобо посетит праздник для украинских ребятишек и их приемных родителей в Муроме». Пробежав глазами статейку под заголовком, Зорин, жуя бутерброд с докторской колбасой и солеными огурцами и одной рукою показывая Мозельскому с Квадратовым, что как ловчее уложить (поскольку, выехав из Папулина и встав на привал в клейкой, пахнущей сладостною весною березовой рощице, решили мы наконец все из нашей несчастной подводы вынуть и пересобрать по-человечески, а то внутренности ее уже напоминали гнездо шалашника в брачный период), прошамкал, кивая на разложенную в траве газетку и обращаясь к Кузьме, который сидел на пеньке и доедал пирожок:
– Мы, значит, звери, да? Мы нелюди, да? Мы их сирот в семьи берем, мы их детям нормальную жизнь даем, и нас еще орками называют! Зла не хватает у меня. Звери они, сволочи, гондоны пропагандистские…
Кузьма, будто не слыша его, достал из рюкзака кожаную свою тетрадь и принялся быстро писать в ней; я видел, что Зорину очень хотелось поговорить, – он перевел взгляд на Мозельского, затем на Квадратова, – но те, повернувшись к нему спинами, старательно утрамбовывали какие-то одежки в мои отвратительные, неподъемные, гигантские сапоги. Толгат, отходивший в кусты, вернулся и стоял растерянно, переводя взгляд с Зорина на Кузьму. Сашенька же, напротив, смотрел на Зорина с большим интересом, но с Сашенькой Зорин, не будь дурак, предпочитал лишних разговоров не вести. В неловкой тишине Зорин сказал, не обращаясь, в сущности, ни к кому:








