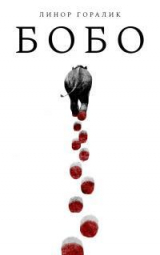
Текст книги "Бобо"
Автор книги: Линор Горалик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
– Мы их детей спасаем – и мы же еще звери!..
Тут Аслан, до сих пор сидевший на поваленной березе в глубокой задумчивости, встрепенулся и подхватил:
– Ужасное несправедливо! Бедные дети!
Зорин слегка растерялся, но тут же назидательно и разъяснил:
– В одном Муроме, Аслан Реджепович, сто тридцать две семьи украинских детишек усыновили. Сто тридцать две семьи в одном Муроме!..
Вдруг ударил мне в нос запах яблок и мускуса, так ударил, что едва не закружилась голова у меня, и тонкий девичий голос как будто сказал очень ясно, яснее некуда, прямо мне в левое ухо: «Знаешь, с трех лет я на контрактах, ни отца-матери не помню, ни откуда вывезли меня, зато мужиков наших перевидала – дай бог, уж поверь мне…» Я будто впервые услышал эту фразу, страшную фразу, и затряс головою, а Зорин все говорил и говорил:
– Сто тридцать две семьи, некоторые по двое сирот берут, по трое!..
«…ни отца-матери не помню, ни откуда вывезли меня, зато…»
– Праздник вон им устраивают, слона ведут… Кланяться в ноги таким людям надо, а не… «…ни откуда вывезли меня…»
– А нас за все, что мы для бедных детей делаем, эти суки натовские распять хотят!.. И тогда я спросил:
– А почему мы это делаем?
Подпрыгнув от неожиданности, Зорин повернулся ко мне и вгляделся мне в правый глаз.
– Потому что мы хотим дать этим детям достойную жизнь в семье, – терпеливо сказал он. – Потому что семья лучше для ребенка, чем интернат.
– Нет, – сказал я, чувствуя, что не понимаю ничего, но что мой вопрос совершенно неуместен, и именно поэтому очень желая его задать, – почему это делаем мы?
Стало очень тихо.
– Ну-у-у-у, – протяжно и весело заржал Гошка, – понеслась душа в рай.
Зорин молчал и смотрел на меня.
– Почему это делаем мы? – снова спросил я. – Разве там, дома, некому их усыновить? И почему они сироты? Понимаю, там война идет, но…
– Там не война, – перебив меня, отчеканил Зорин, – там…
Но тут уж я перебил его, чувствуя, что закипаю.
– Понимаю, – сказал я и почувствовал с отвращением, что голос мой начинает срываться, – там война идет, отцы их могут быть на фронте убиты, но ведь тогда у них матери есть! Разве и матери их убиты нами? Но почему, зачем? Как это получилось?!
– Ничего ты не понимаешь! – рявкнул Зорин.
– А не понимаю – так объясните мне! – завопил я. – Объясните мне!
– Может, это из детских домов дети! – проорал Зорин и топнул со всей силы по газетенке.
– Так что же они там в детских домах не остались?! – завопил я в ответ и двинулся на Зорина. – Что они тут? Почему? Что творится? Объясните мне, если вы можете объяснить!
– Ничего я тебе не должен объяснять, тупая ты скотина! – рявкнул Зорин и с кулаками двинулся мне навстречу. – Я тебе начальник охраны, а не политрук!..
– Что, правда? – тихо хмыкнул Кузьма, не отрываясь от своей тетради, и от этих слов Зорин побелел и зыркнул на Кузьму с такой ненавистью, что я даже испугался, как бы эти кулаки он в сторону Кузьмы Кулинина не понес.
– Что, – сказал я поспешно, – не можете объяснить? А только я молчать не буду, я вам в лицо теперь буду говорить, что думаю, потому что… – тут я постарался вспомнить все как следует, – потому что ворам и убийцам в лицо надо говорить, что они воры и убийцы! А если вы за войну…
– Ах ты ж тв-в-в-варь… – медленно сказал Зорин, кладя руку на кобуру. – Ах ты ж поганая тв-в-в-в-варь…
– А ну заткнитесь оба, – тихо скомандовал Кузьма и резко хлопнул себя ладонями по коленям.
Я замолчал, в ярости повернулся к Зорину спиной, беспомощно топнул ногою и тут же почувствовал себя жирафой Козочкой, которой пирожного не дали, и стало мне стыдно до невозможности, а еще очень страшно. Живот мой дрожал. Я зажмурился. Секунды шли, и я уверен, что в течение нескольких из этих секунд жизнь моя висела на волоске. Тут услышал я быстрые-быстрые шаги и понял, что это Толгат подбежал ко мне и встал между мной и Зориным. Повисла тишина.
– Господь с вами, Толгат Батырович, – задыхаясь, процедил Зорин сквозь зубы, – я ж при исполнении. Чтоб я охраняемое имущество повредил… Но только я тебе, Кузьма, – тебе, Кузьма, – говорю: это пиздец. Это все из-под контроля на хуй вышло. И я требую – ты меня слушаешь, ты? – я, блядь, требую, чтобы ты мне прямо сейчас сказал, что ты собираешься делать. Потому что вот это – вот эту тварь, – и он длинным дрожащим пальцем показал на меня, обернувшегося и смотревшего на него в упор, – вот эту тварь предъявить ты сам знаешь кому немыслимо. И я желаю знать, что ты делать будешь, ты понял? И я думаю, все тут желают знать. – И Зорин обвел присутствующих тяжелым, словно пьяным, взглядом. – Ты слышишь меня, ты?!
– Ах, веселый разговор, – сказал Яблочко, выгибая шею, качая головой и бия в землю копытом, и я понял, что ожидает он сейчас худшего.
– Я слышу тебя отлично, вопить не надо, – спокойно сказал Кузьма, захлопывая свою тетрадь, откладывая ее на траву и вставая с пенька. – Я прекрасно знаю, что делать, не волнуйся. Делать надо вот что. – Тут Кузьма закинул руки за голову, затем выпрямил их и сладко, длинно потянулся. – До Мурома надо дойти, там на месте праздник, к сожалению, отменить под предлогом болезни нашего дорогого Бобо, что будет, кажется мне, не слишком далеко от истины, парк оцепить, никого не пускать и держать совет.
– Я думаю, мое мнение совету ясно, – процедил Зорин и отправился рыться в только что уложенных вещах. И до самого Мурома шли мы, считай, молча, и только Толгат все наклонялся то к одному, то к другому моему уху и бормотал мне нежные, неразборчивые слова, да я, каюсь, не очень его слушал.
И вот теперь сумерки стали опускаться на парк, и Сашенька, подойдя к Кузьме, сказал негромко: «Что же, разведем костерок? Ничего, можно, я ребят предупрежу». Кузьма кивнул, и через несколько минут костерок запылал на небольшом лысом холме ближе к набережной, и понял я, что сейчас будет вершиться моя судьба.
– Что же, – сказал Кузьма тихо, – слон не белка, в лес не отпустишь. Кто что скажет?
Молчание повисло над костром. Злобно молчал Зорин, задумчиво – Сашенька; Мозельский молчал растерянно, словно бы не понимая до конца, что сейчас происходит; молчал, закрыв лицо руками, мой верный Толгат. Аслан молчал, как будто всматриваясь в кусты и нервно крутя в пальцах какой-то маленький предмет, но душа его, я не сомневаюсь, замирала. Приоткрыв рот, молчал Квадратов, переводя изумленный, недоумевающий взгляд с одного моего спутника на другого. Молчал и я, глядя неотрывно на Кузьму, Кузьму Кулинина, и думал об одном: долго-долго еще, очень долго, а мне больно, мне так больно, а еще долго-долго, очень долго… Сейчас решат они то, что решат, но ведь не сразу сделают то, что сделают: будут думать, как привести задуманное в исполнение, и говорить слова, и топтаться на месте, и еще, не дай бог, пожелают повести меня куда-то, и там… А я все смотрел на Кузьму, смотрел на Кузьму, а Кузьма молчал печально, опустив голову, и боль каталась у меня в груди игольчатым черным шаром, и я уже не знал, за меня это боль или за него, и, если бы не страх, что слезы мои неправильно будут поняты им (а на остальных мне было сейчас наплевать), я не удержал бы слез. Невыносимой становилась тишина, и тогда Кузьма, дернув нелепо рукою, разомкнул слипшиеся губы и сказал тяжело:
– Я вижу, все мы молчим… Я понимаю, я сам думаю, и не получается у меня… Любой сценарий упирается в одно… Я, как начальник экспедиции, должен это, видимо, вслух произнести… Только объявить, что заболел, не выдержал перехода, и что мы не смогли выходить его. Как я говорил, это недалеко, в некотором смысле, от истины будет. Так что…
Мне показалось, что сами деревья задышали, – так шумно выдохнули все. Я понял, что слезы катятся у меня из глаз, – понял только потому, что глаза у меня жгло, да вдруг перестало. Чтобы не видел того Кузьма, я развернулся, и Зорин с криком «Эй!» вдруг дернулся за мною, и я понял, что он решил, будто я убежать хочу. Стало мне так смешно, что я расхохотался, запрокинув голову, и все хохотал, не мог остановиться, а когда успокоился наконец и обернулся снова к своим, понял, что Квадратов уже говорит какое-то время, и говорит с жаром и отчаянием, и что слова его безнадежны и сам он это знает. Он замолчал посреди фразы и в большой горести пошел к подводе, сел на нее, закрыл глаза и принялся, видимо, молиться. Глядя на него, перекрестился и Мозельский; глядя на Мозельского, Сашенька усмехнулся.
– С технического точка зрения две цистерна… – осторожно начал Аслан, поигрывая чем-то сереньким, длинным и непонятным.
– Да-да, – сказал Кузьма и вдруг кинул на меня быстрый хитрый взгляд, – сейчас мы перейдем и к этому. Но, понимаете, есть один важный нюанс, который меня беспокоит. Чисто технический, так сказать, нюанс, который нам надо разрешить. Дело в том, что по финансовым документам…
И тут что-то длинно, пронзительно, тревожно запищало. Зорин подскочил на месте и трясущимися руками схватился за левый бок. Несколько секунд он смотрел на экран пейджера; потом сказал хрипло:
– Кулинин… Кулинин, поди сюда!
Кузьма подошел к нему, прочел надпись на экране пейджера, потер нос и будничным голосом сказал:
– Ну что же, вот вопрос наш и решился. Здесь ночевать не с руки, хотя мы подзастряли, конечно; в Малом Окулове зато запланированы у нас и постой, и еда, и отдых. Мозельский, Владимир Николаевич, затушите, пожалуйста, костер, выдвигаться сразу будем. Толгат Батырович, готовьте Бобо, быстро пойдем.
Я стоял в темноте, и тело мое словно заполнялось воздухом. Вдруг рука с широким стальным кольцом на безымянном пальце легла мне на щеку; то был Кузьма.
– Ах ты собачья моя морда, – быстро прошептал он. – Никому не отдам тебя, дурака.
Сухой поцелуй коснулся моей кожи, и Кузьма исчез, и игольчатый шар исчез из груди моей, и почему-то я больше не плакал, а почему – сам не знал. Чтобы не стоять на месте и не хватать воздух ртом, я на негнущихся ногах подошел к Зорину, все еще сжимавшему в пальцах пейджер, и из-за спины у него заглянул в экран. Два слова были на экране: «Доставить живым». Сильно пахло дымом: костер гас; подбежал Аслан.
– Можно и мне посмотреть? – спросил он у Зорина заискивающе, но Зорин уже прятал пейджер в чехольчик, кривя лицо.
Разочарованный Аслан, намотав на указательный палец непонятную свою игрушку, этим же пальцем назидательно погрозил мне. Тут терпение мое иссякло: я вырвал у него странный предмет и хотел уже забросить его повыше на ближайший дуб, но вдруг замер – запах у этого предмета был странно, пугающе знакомый. Когда сообразил я, чтó держу в хоботе, от омерзения прошла по мне дрожь: то был браслет, аккуратно сплетенный браслет из волос с моего хвоста: видимо, подлый стручок хотел поднести его в дар Алатырскому, да не успел.
Глава 18. Арзамас
«…Вы думаете, наверное, что я совершенно безразличен к Вам и к Вашей судьбе и что вообще вместо сердца у меня черствая коврижка. Но поверьте мне: это не так; я самую сильную нежность и уважение испытываю к Вам, и еще, мне кажется, многие чувства, о которых не буду здесь распространяться, потому что боюсь, они вам совершенно неинтересны. Я только прошу Вас встретиться со мною и поговорить напрямую, без вездесущих некоторых ушей: я все объясню Вам – и, главное, объясню, почему я все еще здесь, почему я не развернулся и не ушел восвояси с гордо поднятой головой после того, что видел и слышал в отношении Вас в Муроме, как велела бы совесть сделать всякому порядочному человеку. Умоляю Вас выслушать меня, пусть даже Вы меня теперь и презираете и считаете человеком без совести и чести: я все объясню, и Вы поймете, что именно совесть и то, как я понимаю честь, заставляют меня теперь следовать за людьми, ставшими мне глубоко отвратительными с той самой страшной сцены, разыгравшейся в муромском парке. Я приду к Вам этой ночью, когда все уснут: не гоните меня, дайте мне возможность объясниться и отвалить камень с сердца…»
Никогда еще не писали мне писем, если можно было назвать письмом небольшую эту записку, нацарапанную на полупустой странице, вырванной из какой-то книги (видны были вроде бы кусочек какой-то искривленной сетки да обрывки слов: «андр…», «гриш…» и «останься, бр…»). Волнение мое легко было понять, тем более что подписи у записки (обнаруженной перед завтраком Толгатом в новой его котомочке, наспех сшитой из порезанной голубой футболки и все еще печально пустой, за одним, как мне было известно, отвратительным исключением) не было. Я догадывался, кто ее автор, и оттого волновался только больше. Время тянулось медленно: с утра я смотрел учения на монастырском плацу, лениво ел и страшно скучал.
До Арзамаса дошли мы в ужасном состоянии: мало того, что все были понуры, так еще и идти пришлось нам в основном по косогорам, и дважды казалось, будто Гошка с Яблочком не вытянут подводу и она на особо крутом склоне попросту завалится вбок. Наконец Кузьма не выдержал – он подошел к подводе, залез в нее до половины и растолкал спящего Аслана. Тот вылез, помятый и розовый со сна, и, хлопая глазами, уставился на Кузьму испуганными маленькими глазками.
– Значит, так, – сказал Кузьма. – Аслан Реджепович, я очень уважаю ваши цели и намерения, но в этот самый момент мы отцепляем цистерны и оставляем здесь.
Гошка издал звук, который трудно было истолковать иначе, как неприличное русское междометие. Яблочко приподнял правое переднее копыто – мне показалось, в желании размашисто перекреститься.
Аслан побелел.
– Но в несчастном случáе… —начал он трясущимися губами.
– В несчастном случáе я найду вам новый формалин, – перебил его Кузьма. – Только никакого несчастного случáя быть не должно, вы это понимаете? Этот слон – царское имущество, и неважно, мил он вам или не мил и какие интересные научные задачи вы перед собой ставите, – вы видели пейджер и понимаете…
– Но я не видели! – вдруг взвизгнул Аслан. – Я не видели! Мне не показывать!
Кузьма смутился.
– Там было написано… – начал он, но Аслан, глядя на него в упор, не слушал и продолжал все тем же визгливым голосом, наставив на Кузьму длинный узловатый палец и неожиданно выпрямив свою сутулую спину:
– Мне никто не показывать! Мне ничего не говорить! Меня не считать! Я хуже Толгат! Я хуже слон! Аслан можно туда-сюда! Аслан можно отцепляем цистерны! Аслан неважно! Это оскорбление Аслан! Почему можно оскорбление Аслан?! Потому что Аслан турецкий?! Потому что Аслан не может ушел? Почему Аслан можно оскорбление?!..
И, ткнув Кузьму пальцем в грудь, бедный несостоявшийся певец своей Родины скрестил руки на груди, вытянул шею и, сверкая глазами, закусил нижнюю губу. Вдруг, как тогда, в конном клубе, сердце мое екнуло; был и Аслан живым человеком.
– Аслан Реджепович, дорогой, я вас очень уважаю, вы поверьте мне; сколько раз вы нас выручали? – сказал Кузьма мягко, кладя Аслану длинные пальцы на плечо. – Только посмотрите, ради бога, – во-первых, косогоры сплошные вокруг, лошадки наши не вывозят…
– Сам ты лошадка, мерин сраный, – обиженно сказал Гошка.
– …а во-вторых, – продолжал Кузьма, – нельзя нам даже думать про формалин: в пейджере было написано «Доставить живым», а вы ведь понимаете, что это за пейджер… Мы ведь и раньше знали, да? А теперь, если что, нам всем головы с плеч… Вы простите Зорина, он бывает грубым – ну так он душа военная, даром что поэт. Вы как поэт поэта его поймите: он человек эмоциональный, чувствительный, чувств сдерживать не умеет, это в команде трудно бывает. Ей-богу, мог бы – до самого конца бы цистерны вез, но так мы до Арзамаса никогда не доберемся, а нас ждут. И еще: если лошадь упадет, ногу сломает – вам же лечить, вам же хлопоты, да и мы все что делать будем?
При мысли, что ему придется иметь дело с лошадью, бедный Аслан скис. Я видел, что он отлично понимает свою правоту, но последний довод подействовал на него сильно: он сдался. Ничего не сказав и только обратно ссутулившись, эскулап наш медленно побрел назад к подводе; зато навстречу ему вылезал уже неизвестно как все услышавший, понявший и рассчитавший Сашенька с ящиком инструментов, успевший разбудить и привести в чувство Мозельского и Зорина. Цистерны отцепили, и они остались криво стоять на опушке рощицы, и Аслан даже не вылез взглянуть на них, и чувство предательства висело над нами серым пыльным облаком, и ни облегчения, ни злорадства не было во мне, а только усталость, усталость. Я шел в полудреме, и виделось мне, что пустота у меня в груди – страшная, тоскливая пустота, в которой еще недавно жило что-то огромное и важное, – это пустая комната, и по ней каким-то образом хожу маленький-маленький я. Мне очень надо найти дверь в этой комнате, но не для того, чтобы выйти, а для того, чтобы кого-то впустить, но, пока я не узнаю, кто должен войти, дверь мне себя не явит. «Что за чушь, – думаю я раздраженно. – Если бы была дверь, я открыл бы ее, увидал бы, кто за ней стоит, и впустил бы внутрь и вся моя жизнь наполнилась бы смыслом, а так я буду вечно ходить по этой пустоте вслепую и никогда не разгадаю такой дурацкой задачи; кто вообще задал мне ее и зачем я ею маюсь? Тут тепло и спокойно; сдалась мне эта дверь! Что бы и не жить с пустотою в груди…» Но от одной этой мысли сделалось мне больно, так больно, что сердце мое лязгнуло, и я проснулся: мы вошли в Арзамас, и лязгающий железом военный пикап встречал нас.
Из пикапа вышли двое: один был полный человек в костюме, в очках, в галстуке, с портфелем – словом, обыкновенная встречающая сторона, навидался я таких, и ничем он меня не заинтересовал. Второй же был в военной форме, при погонах – две звездочки на двух полосах блестели в утреннем майском свете, – и после недолгого раздумья он отдал Кузьме честь. Первого звали Павлом Затумбайским, и он был человек мэрии; осмотрев нас, изрядно помятых, очень удивленно, он спросил, не передумали ли мы насчет, так сказать, размещения; Кузьма с благодарностями и дифирамбами объяснил ему, что лучше предложенного им в ответ на посланный запрос варианта даже придумать нельзя: все, что нужно нам в Арзамасе, – это покой и уединение.
– Что же, – сказал Затумбайский, одновременно пожимая плечами и слегка раскланиваясь, – этого у вас, слава божечке, должно быть в достатке, но вы знайте, конечно, Кузьма Владимирович, и вы, Виктор, так сказать, Аркадьевич, – тут он еще раз пожал руку Зорину и отпустил ее очень нехотя, – в любую минуту переселим вас, слава божечке, в «Реавиль», номера за вами держим…
– Вы не волнуйтесь, это не понадобится, – вежливо, но очень твердо сказал Кузьма.
– Ну, тогда благодарим, так сказать, Илью Муромича за гостеприимство, – растерянно сказал Затумбайский. – Питание, конечно, вам будут, так сказать, отдельное подвозить, все по первому классу мы, слава божечке, устроим…
– Нет-нет, – сказал Зорин, – нам офицерской столовой предостаточно, лично я за честь почту с русским офицером хлеб преломить.
Затумбайский только развел руками.
– Слону мы, естественно, ждем питания по заранее высланному брифу, – сказал Кузьма строго.
– Слава божечке, подготовили, – быстро отозвался Затумбайский, сделав испуганные глаза.
– Вот и спасибо, – сказал Кузьма.
Все это время Илья Муромич (фамилия его, как выяснилось, когда жали руки, была Хорин) внимательно рассматривал Квадратова, так что Квадратов, не понимая, что сделать и куда деться, осторожно зашел за меня. Подполковник все время, что Кузьма разговаривал, так сказать, с Затумбайским, производил маленькие маневры: осторожно перемещался так, чтобы Квадратов попал в поле его зрения; Квадратов же, слава божечке, от исканий его уклонялся, обходя меня то так, то эдак. Эта непонятная игра господь знает сколько бы длилась, но, к счастью, Затумбайский отстал от нас, выпросив под конец у Зорина автограф на книжке, а у Кузьмы – обещание, что Кузьма, Зорин и Аслан отужинают с представителями встречающей стороны нынче вечером.
– Что же, раз так – поехали, – сказал Хорин неожиданно приятным голосом. – Монастырскую нашу трапезу отведаете. – И усмехнулся.
Я понял шутку Хорина, только когда мы добрались до назначенного нам места: вверенная Хорину воинская часть располагалась на территории восстанавливаемого монастыря. Ушастые «послушники» маршировали по монастырской площади, на которой и мне выделили место и изо всех сил старались не косить глазами в мою сторону; подвода наша притулилась под окнами солдатских казарм; в офицерских же казармах нашли место людям моим (и Зорин всю дорогу до монастыря, не затыкаясь, тарахтел о своей былой казарменной жизни, на что Аслан уважительно, но замученно кивал, а Квадратов реагировал неожиданно живо и вполне заинтересованно). Еда моя ждала меня в больших деревянных корытах; я проголодался страшно и набросился на еду, небогатую, но свежую и сытную: булки, морковь, вареный картофель, бананы, много яблок и груш, сладкое печенье, молодые майские ветки с первой листвой обрадовали меня, и скоро наелся я до отвала. Веки мои слипались: я принялся засыпать – день был, не в пример другим майским дням, по-настоящему жаркий. Вдруг кто-то пребольно ткнул меня пальцем прямо в нежную мою подмышечку, и от боли я чуть не подскочил: пришел Зорин, и в руках у него был до половины набитый чем-то мешок.
Рядом с Зориным стоял военный человек, по всему видно – командир, но сильно помельче Хорина: на погонах одна звездочка, и полоса тоже одна, и лицо тяжелое; он смотрел на меня большими, близко посаженными глазами и молчал, Зорин же говорил с большим энтузиазмом:
– Что, капитан, доверитесь мне? С тем, что сейчас в мире происходит, у России-матушки потенциальный противник – он везде, а когда еще вашим ребяткам такой шанс выпадет!
Капитан посмотрел на часы и вздохнул. Видно было, что отказывать начальнику охраны царской экспедиции и знаменитому человеку ему не с руки, но и связываться с Зориным ни малейшего желания капитан не испытывал и Зорину не доверял, тем более что близилось время обеда. Обед капитану пропускать явно не хотелось, но и выбора у него, очевидно, не было.
– Что же, – сказал капитан, – вот пообедают – а потом и хорошо.
– Э, – сказал Зорин, – после обеда они сонные будут. Давайте до обеда, как раз через десять минут начнем; щас бегом построятся – не развалятся.
– Ну что ж, – сказал капитан, – если мы с вами в вашем лице считаем необходимым…
– Мы с вами считаем, – твердо произнес Зорин. – Сами знаете, капитан: политическая обстановка может забросить русского солдата в такие боевые обстоятельства, в которых только полученный под вашим командованием уникальный опыт может сделать его гибель ценной для отечества.
И, вдохновленный этой фразой, капитан пошел отдавать приказ на срочное построение, а Зорин, обойдя меня пару раз кругами (отчего я, и так уже обеспокоенный, очень сильно занервничал), куда-то исчез и вернулся через пару минут с Толгатом.
Вскоре выстроены были передо мной человек двести прямоугольником – тощих, бритых, сутулых; уши их, просвечивая на солнце, торчали в стороны, и я испытывал сострадание пополам с чем-то еще, горьким, знакомым и плохо мне понятным, при виде этих призванных кое-как служить России лопоухих невольников, мающихся за сотни километров от родного дома. Вытянув руки по швам, замерли они, глядя на меня неотрывно, и в глазах их, кроме застарелой усталости, светилось, слава богу, какое-никакое любопытство. Зорин расхаживал передо мной, держа в руках мелко исписанные бумажки, и широко улыбался, и я видел, что улыбка эта беспокоит бедных «послушников», что они не привыкли, чтобы стоящий перед ними человек улыбался, и что всякая непривычная ситуация означает для них: «Жди беды». Кое-кто из них, впрочем, тоже робко заулыбался, словно в цирк пришел; тут сволочь Зорин внезапно гаркнул так, что я аж подпрыгнул:
– Р-р-р-р-р-равняйсь!
Дернулись солдатики мои, вывернули головы.
– Смир-р-р-р-рно!
Дернулись опять. Не улыбался уже никто, и глаза стали пустые.
– Вольно! – мягко сказал Зорин с улыбкой. – Простите, ребята, не удержался по старой привычке. Я ведь в Чечне… Ладно, не будем время тратить. Знаете что? А садитесь-ка вы попросту на землю, будем свободно говорить. Капитан Фадеев, можно ребята просто на землю сядут? Я прошу.
Капитан Фадеев, куривший рядом и готовый, кажется, на все, лишь бы Зорин как можно скорее отстал от него со своими выдумками, скривил губы и медленно, не мигая, опустил голову, а потом постучал по часам и покаянно пожал плечами: мол, обед скоро. Зорин кивнул.
Солдаты неловко сели, где стояли.
– А ну поднимите руки, кто из вас СЛоН, – потребовал Зорин и сам своей шутке засмеялся. Руки не поднялись. – Давайте-давайте, кто не любит офигенные Нагрузки, разве есть такие? – продолжил он, но энтузиазм его явно поугас.
Солдаты молчали. Пара человек заискивающе улыбнулась.
– Вот я уже улыбки вижу, – сказал Зорин. – Ну слава богу. Я вам не командир, от меня ничего плохого не будет, вы меня не бойтесь. Я Зорин, Виктор Зорин, вы, может, слышали обо мне. – Тут Зорин вгляделся в лица солдат. Лица эти, к большому удовольствию моему, не выражали ничего; Зорин слегка смутился. – Ну да это неважно, – сказал он. – Здесь я в качестве руководителя охраны царской экспедиции по доставке личного слона Его Величества Государя Российского, подаренного ему Великим Султан-Ханом Турецким, в неназываемую секретную локацию. Слон вот. – Тут Зорин широким жестом показал на меня, как будто солдаты могли спутать меня, скажем, с расположенным невдалеке флагштоком. Слава богу, те с помощью зоринского жеста легко определили, где флагшток, а где я, и именно на мне сосредоточились.
– Толгат Батырович, дорогой, а покажите нам слона со всех сторон, пожалуйста. Напра-во! – гаркнул Зорин.
Ни за какие богатства мира не подчинился бы я этой надменной и грубой команде наглого позера, но Толгат нежно тронул меня пяткою за правым ухом, и вовсе не хотелось мне позорить Толгата, так представляя все, будто у него надо мною никакой власти нет; я повернулся.
– Нале-е-е-е-ево! – рявкнул Зорин.
Вновь я повернулся.
– Кру-у-у-у-у-гом! – продолжил этот наглец, прекрасно понимая, в каком я положении нахожусь, и пользуясь положением этим без зазрения совести. – Налее-е-е-е-е-во! Напра-а-а-а-а-а-во!
Я крутился, ненавидя Зорина, как до того ненавидел одного только человека; наконец развлечение это мерзавцу надоело, и занялся он бесстыдно моей анатомией, касаясь в словах своих не только самых интимных подробностей строения моего, но и самых болезненных вопросов в мрачной и жестокой истории вида нашего биологического. «Ничего, – думал я, – ничего; не сомневаюсь, хорошо помнишь ты и Рязань, и Григорьевское; я терпеливый; а все-таки ты знаешь, что я до поры до времени терпеливый; ты меня боишься, Зорин, а не боялся бы, так и не задирал бы меня…» Пока я был захвачен этой неожиданной для себя мыслью, Зорин перешел к рассказу об истории боевых слонов, и тут, надо признаться, пожалел я, что с самого начала не слушал его: мать и отец, сколько ни твердили мне, что нет почетнее судьбы для нас, чем судьба боевая, были все-таки образованы нехорошо – с малых лет делом их была битва, и только в этой науке они преуспели. Теперь же, слушая Зорина, многое я узнал и горько подивился глупости человеческой и тому, как же люди, биясь с нами в одной войне за другою бок о бок и жизни свои нам вверяя, мало стремились нас понять. Никто договориться с нами не пытался и прямого союза не желал с нами установить и того не понимал, что война за праведное дело и за своих людей для нас – дело чести и совести: сколько пустого делалось! Сколько лишнего! Представил я себе, как приходилось отцу моему и матери моей терпеть все унижения, о которых Зорин говорит: и голодом нас морили, и били, и анкусами кололи, и все для того, чтобы подчинить, как людям думалось, непокорного слона себе, – а того они не понимали, что не непокорность слон выражал им, но оскорбленное достоинство свое; и ради муста давали предкам моим алкоголь, и опиум, и даже ладан, а тем достаточно было увидеть врага и услышать военную музыку, чтобы сердце их наполнилось боевой отвагой… Странно ли, что мы всегда заносчивы были с людьми, даже когда воевали за общее дело, и до разговоров не опускались! Вот и сейчас Зорин крутил меня и вращал, и разлагольствовал перед бедными ушастыми соратниками моими, и пальцами в меня тыкал, а ни мне, ни им слова сказать не дал; что же, мы и не настаивали, хотя четырнадцать первых лет жизни моей провели мои родители, светлая им память, в наставлении меня касательно слоновьей военной науки, и я много чем мог бы поделиться. Ах, Зорин, Зорин, что ты плетешь! А у бедных солдатиков на жаре уж головы начали клониться, и наконец Зорину пришлось гавкнуть:
– Отставить сон!!!
Несчастные солдатики встрепенулись.
– Ничего, – сказал Зорин весело, – сейчас к практике перейдем, тут-то вы и взбодритесь. Толгат Батырович, вы спешьтесь на всякий случай.
Толгат нехотя слез с меня, и Зорин продолжил:
– Слушайте, теперь самое главное. Вы, может, думаете: чего это Зорин тут слоном вертит, лучше бы покататься дал! У нас, мол, не семнадцатый век, мы в жизни своей боевого слона не увидим, зачем нам это все? Так вот, знайте: во Второй мировой войне англичане в Бирме на слонах воевали; а еще десять лет назад в Бирме в гражданскую войну слоны использовались армией, чтобы там пройти, где ни одна машина не пройдет. Мы с вами должны помнить, – тут Зорин понизил голос, и некоторые солдатики вытянули тощие шеи, – нет такого места на земле, где у России не было бы территориальных интересов. Бирма – значит, Бирма, Африка – значит, Африка. И я вам, ребята, говорю: я вот этого самого милого слоника, – тут Зорин вытянул палец в моем направлении и хорошенько им потряс, – вот этого нашего лапочку Бобо имел шанс видеть в мусте. Муст – это, ребята, такое дело, когда разъяренный слон ни хрена не понимает, куда прет и что творит, и я должен вам сказать, ребятки, что я тогда чудом не обосрался. Этот милашка-слоняшка, к вашему сведению, в мусте пол-Рязани перетоптал, а что он сделал в селе Григорьевском, я вам даже рассказывать не хочу…
Тут меня бросило в жар, в ушах у меня зазвенело, и, когда я очнулся от ужаса, Зорин уже говорил о том, что достаточно, чтобы враг из тактических соображений выпустил на вражескую роту двух-трех одетых в специальные броники слонов в состоянии муста, чтобы, во-первых, от роты ничего не осталось, а во-вторых, чтобы любая операция была провалена, – это раз. А два – что ни одно укрепление в джунглях не может считаться надежно защищенным: один хорошо обученный слон с подвязанной к спине тикалкой разнесет любой объект стратегического значения в куски, потому что может нести на себе до 300 кило груза.








