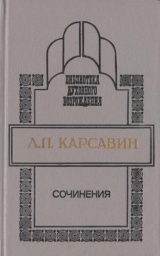
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Лев Карсавин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
Философ. Тем, что сам не отменяю, как видите, ни одной из прежних нравственных норм, как нравственных, не как несовершенных, неполно и неясно выраженных. Несомненно, что иные понимали или поймут данную норму полнее и лучше, чем я, но отсюда не следует, что в существе своем мое понимание ошибочно. Вы видите: я имею право утверждать, что нравственная потребность есть сознание мною необходимости во что бы то ни стало осуществлять в моей деятельности объективно–обязательные абсолютные нормы, содержание которых я должен определить со всею возможною и мыслимою для меня полнотой, хотя определяю всегда приблизительно и, обычно, только в конкретных единичных случаях. Последнее естественно. – Нравственность объемлет всю жизнь и система нравственности – система жизни. А живем и действуем мы, по немощи нашей, фрагментарно, и оттого часто не улавливаем ни содержания нравственности, ни абсолютного его значения.
Интеллигент. Почему же невозможен прогресс нравственности?
Скептик. Его не было до сих пор, как согласно говорит большинство моралистов.
Интеллигент. Почему ему не быть в будущем?
Философ. Прогресс нравственности мог и заключаться лишь в расширении нравственного понимания на всю жизнь: в опознании нравственного идеала и со стороны содержания и со стороны формы и во все большем его осуществлении. Однако на вопрос о том, совершается ли прогресс в области морали, я склонен отвечать категорическим отрицанием, склонен прежде всего и главным образом потому, что признаю непреходящую, абсолютную и неповторимую ценность во всяком проявлении нравственности. В некотором отношении современное нравственное сознание выше нравственного сознания предшествующих и последующих эпох, в других – ниже. И нам даже трудно определить и невозможно оценить вполне, в чем специфически ценное в нравственности иных эпох, чем наша.
Скептик (интеллигенту). Нет, лучше не прибегайте к помощи абсолютного: и бесполезно, и туманно. Лучше оставаться в области конкретного. Достаточно с нас того, что до сих пор нравственного прогресса не наблюдалось. Если же так, то нет оснований ожидать его в будущем.
Интеллигент. Почему не наблюдалось? Разве не факт смягчение нравов? Оно отражено любым уголовным кодексом. Ныне, слава Богу, уже нет ни кровной мести, ни пыток, по крайней мере, как чего–то общепризнанного, само собой разумеющегося.
Скептик. Конечно, нравы смягчились. Зато повысилась и восприимчивость. Теперь ссора не кончается мордобитием; зато говорятся более язвительные слова. Муж не таскает жену за волосы; зато жена – «только взглянет – убийственный взгляд». И для современного интеллигентного человека заключение в тюрьму, уверяю Вас, не менее чувствительно, чем для человека XVI века сто ударов кнутом. Все кричат о жестокостях крепостного права и рабства. Но, если отвлечься от единичных случаев, а их достаточно и теперь, положение раба субъективно переживалось им не болезненнее, чем переживает сейчас свое положение какой–нибудь рабочий–социалист. У раба не было острого сознания своей личности, своего достоинства; его кожа притерпелась к батогам, а неприкосновенностью своей физиономии он не дорожил. Это только мы, подставляя себя на его место, слюняво ламентируем.
Интеллигент. Черт знает, что он говорит!
Скептик. Я только устраняюсь от всякой предвзятости. С моей точки зрения, то, что изображаю я, несравненно ужаснее и морально–неприемлемее, чем шаблонные ламентации.
Интеллигент. Допустим. Но мне кажется, можно привести факты, свидетельствующие о прогрессе нравственных идей. Как ни относиться к христианству, несомненным шагом вперед является то, что оно обращает внимание на мотивы деятельности и порывает с прежней формалистической моралью.
Философ. Правда, в указанную Вами эпоху, хотя и не только в христианстве, выдвигается более глубокая нравственная идея – душевная сторона акта получает преобладающее значение. Но эта идея появляется в противовес одновременному отрицанию ее в фарисействе, т. е. она представляет собой лишь одну из моральных теорий своего времени, нами оцениваемую как более высокая. Но не забудьте, что есть своя правда и в фарисействе, в отрицании внутренней мотивации, как момента оценки, во всяком случае – как момента абсолютного. Перенося мораль в душевность, христианство, историческое христианство, невольно склоняются к отрицанию всего внешнего вообще. А внешнее обладает своею ценностью: недаром оно неоднократно возрождалось в истории самого христианства. Внешняя мораль спасала и спасает национальное бытие еврейства, направляет и регулирует быт, кладет основы воспитанию, нравственно образует. Провозглашаемое христианством моральное творчество не должно быть единственным принципом деятельности и жизни. Необходима еще нравственная традиция, конкретная система морали, и ничто, даже самое внешнее, не должно оставаться вне морали. Вспомните, Христос пришел не нарушить закон, а исполнить его.
Скептик. Видимо, Вы обладаете каким–то обостренным нравственным чувством, мне чуждым и непонятным. Считайте, если хотите, меня моральным идиотом. В области морали я знаю только мою потребность и своеобразное наслаждение, которым сопровождается ее удовлетворение. Никакой потребности абсолютировать мой «долг» у меня нет.
Философ. Вы схематизируете, упуская из виду своеобразие Вашего наслаждения, и неспособны объяснить принудительность многих мучительных для Вас норм. Вы не истолкуете таких фактов как самопожертвование, и должны будете признать их нелепыми, хотя деятельностью своей сами же утверждаете их истинность. Что же касается до наслаждения, то Оно является необходимым сопутствующим удовлетворению нравственного долга моментом. И в этом есть глубокий метафизический смысл, ибо нравственная деятельность устраняет главный источник эмпирического, т. е. ограниченного, страдания – зло. Точно так же наслаждение связано и с познанием Истины, т. е. с преодолением неведения или лжи. Оттого–то по наслаждению, по «счастью» и можно судить о прогрессе человечества или об отсутствии этого прогресса.
Интеллигент. Прекрасно. Здесь мы выходим на общую всем нам дорогу. И если принять во внимание разнообразие наших потребностей, сумму доступных нам наслаждений, трудно будет отрицать прогресс человечества в течение известного нам исторического периода его жизни.
Скептик. Вовсе не трудно. Нет ни малейших оснований утверждать, будто сумма счастья на земле увеличилась за время истории человечества. Само собой разумеется, увеличилось количество наслаждений, они стали разнообразнее, но, вместе с тем, увеличилось и количество страданий. И чем Вы докажете, что разность между суммой страданий и суммой наслаждений изменилась? Может быть, эта разность – величина постоянная. По–моему, нельзя даже показать, что сумма наслаждений возросла абсолютно. Вполне возможно и вероятно, что их интенсивность умалилась за счет их экстенсивности. Право, иногда хочется быть каким–нибудь дикарем–австралийцем. Он часто голоден и дрожит от холода. А зато как остро и ярко его наслаждение, когда ему удается наесться досыта и хорошенько погреться у костра или просто на солнце. Ему непонятна наша музыка, но слух его не терзает фальшивая нота. Он не понимает всей изысканной прелести наших картин, но у него нет и головной боли от хождения по музеям. Он не знает радостей философской мысли, но не знаком и с горечью сомнений и сознания своего умственного бессилия. Я завидую дикарю, завидую детям с их наивными радостями и их недолгим горем.
Философ. Скажите, а Вы никогда не завидуете идиоту?
Скептик. К удивлению моему никогда не завидовал. Я объясняю себе это тем, что не могу перевоплотиться в идиота, и когда ставлю себя на его место, невольно представляю себе, будто продолжаю в нем сознательное свое существование. Вероятно, мне причиняет страдание мысль, что другие считают меня неспособным мыслить, видят меня слюнявым, отвратительным.
Ф и л о с о ф. Но ведь и в образе ребенка и особенно дикаря Вы не можете рассчитывать на высокую оценку со стороны окружающих.
Скептик. Здесь нет такой безнадежности.
Философ. В том то и дело. – Воображая себя дикарем или ребенком, Вы допускаете возможность дальнейшего своего развития, даже представляете его себе. Вы перевоплощаетесь в ребенка, смею Вас уверить, не более, чем в идиота, но в первом случае у Вас нет ничего явственно мешающего сохранению себя самого таким, каковы Вы теперь. Мыслью о возможности развития Вы прикрываете сохранение Вами себя самого. Вы хотите быть не ребенком, а и ребенком, т. е. хотите прибавить к своему теперешнему состоянию еще нечто хорошее из состояния ребенка или дикаря, вовсе не отказываясь от богатств Вашей душевной жизни. На этом своеобразном самообмане и основывается притягательность руссоизма, толстовства и т. д.
Скептик. Пусть так. Основной мой тезис остается непоколебленным: нет основания предполагать, что до сих пор человечество развивалось ко все большему счастью. А, следовательно, еще меньше оснований допускать, что оно будет двигаться к нему в дальнейшем.
Интеллигент. Надо ли и можно ли так односторонне понимать счастье? Выше наслаждений и страданий сама энергия этой жизни, ее напряженность. Истинная радость не в мещанском самодовольстве, а в напряжении и борьбе.
Скептик. Если хотите, я согласен с Вами.
«Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.
– Его призвали всеблагие,
Как собеседника, на пир».
Признаюсь, я бы предпочел уклониться от такой беседы. Но, повторяю, я согласен с Вами. Однако что Вы от этого выиграете? – Рост напряженности жизни доказать еще труднее, чем рост счастья. Вы сошлетесь на переживаемую нами революцию. Но сколько было революций! И все они сменялись маразмом и реакцией. И потом еще большой вопрос: является ли революция симптомом силы или судорожных порывов бессилия.
Интеллигент. Я ловлю Вас на противоречии самому себе. – Вы признаете относительный прогресс. Этим Вы признаете самый принцип прогресса.
Скептик. Никакого противоречия тут я не вижу. Если бы даже существовали периоды прогресса и регресса (о чем можно спорить), ничего отсюда не следовало бы. Может быть, периоды прогресса нацело погашаются периодами регресса, так что в общем человечество движется по прямой, хотя и волнующейся несколько линии.
Интеллигент. В ответ на Ваши «можетбыть» я отвечу своим. – Может быть, оно движется и по восходящей линии. Сравните последовательные периоды упадка культуры. И едва ли наша европейская культура падет до уровня культуры раннего средневековья.
Скептик. Я отрицаю за Вами право на «может быть»: на Вас лежит «onus probandi», а гипотезами ничего доказать нельзя. Во–вторых, я не признал еще факта временного прогресса. Я, кажется, указал на спорность подобного предположения и, действительно, в одном отношении человечество может идти вперед, а в другом в то же самое время падать. В третьих…
Интеллигент. Простите, а разве то, что Вы различаете «отношения», уже не уступка теории прогресса?
Скептик. Нисколько. Я ведь не отрицаю, что всякому моменту времени присуще нечто специфически свое.
Философ. Этот вопрос заслуживал бы боле§ тщательного рассмотрения…
С к е п т й к. …которое я охотно предоставляю Вам. Но мне хочется указать сейчас на то, что мы незаметно перешли от спора о «счастьи» и «напряженности» жизни к спору о культуре. Таким образом проблема прогресса переносится в частную область, потому что культура только часть жизни. И если бы даже в области культуры обнаруживалось поступательное движение, теоретику прогресса надо было доказать еще и то, что оно не сопровождается упадком в иных сферах жизни, например – упадком того же счастья.
Интеллигент. Культура охватывает всю жизнь.
Скептик. В таком случае мы рассмотрели уже некоторые ее стороны без выгоды для теории прогресса. Можно обратиться и к другим. Мой тезис – расцвет одной стороны культуры сопровождается упадком других. Возьмем пример:
– Вы не станете заподозривать меня в склонности к религии. Но, как к религии ни относиться, она – факт культуры. И Вы не станете отрицать, что именно теперь развитие техники и так называемых точных наук параллельно упадку религиозного мышления и религии вообще.
Интеллигент. А разве религиозное мышление не возмещено сначала философским, потом научным?
Скептик. Это называется «назад к Конту!»
Ф и л о с о ф. Несмотря на приверженность свою к философии, я не решусь признать прогрессом замену религии философией.
Интеллигент. Но само–то появление философии все–таки было прогрессом. А у первобытных людей философии, наверное, не было.
Философ. В первобытную эпоху, поскольку мы можем себе ее воображать – знать ее мы не знаем правда, совсем не было философии и философствования, кик обособленной деятельности духа. В исторической Греции или Индии она уже была. Является ли момент выделения философствования прогрессивным или регрессивным? И ни и нет. Несомненен и должен быть положительно оценивается факт дифференциации духовной деятельности вообще. )гим достигается большая определенность познаваемого и шаемого. Но всякая определенность является вместе с тем и отграничением и ограничением определяемого, разрывом целостного мировоззрения, в котором религиозная мысль еще не отделена от философской, а мысль вообще – от действительности и жизни. Приобретается определенное шание – утрачивается связь определенного с остальным. )то тот же процесс специализации, гибельные результаты которой мы видим на каждом шагу и Вы, в Вашей области, нидите, может быть, с особенной ясностью. Если оценить то целостное, что должно быть во всякой первобытной культуре – а ее не следует себе представлять по свидетельствам путешественников о современных дикарях – если оценить единство этой культуры и сопоставить его с современным разрозненным знанием, навряд ли можно будет говорить о прогрессе.
Интеллигент. И Вы готовы защищать свое убеждение, даже пред лицом современной гносеологии?
Философ. А разве здесь не повторяется та же самая история замены целостного знания фрагментарным? Гносеологически современный философ выше древнего, но гносеология оторвалась от других философских дисциплин, в частности, от онтологии. В гносеологизме современности есть нечто абсолютно ценное, но за это ценное она заплатила утратою абсолютных ценностей древней мысли.
Интеллигент. Отчего же нельзя себе представить современного метафизика, который сочетает гносеологизм гопременности с онтологизмом древности?
Философ. Оттого что существо мысли древних, самая последняя глубина ее потомкам недоступны. А без полноты восприятия не может быть и полноты синтеза. Синтез – душа философии, а он может быть и, скажу, должен быть только синтезом данного момента, преломлением в данном моменте всей философской мысли, неповторимым н лишь по–своему повторяющим все другие аспекты всеедии ства. И философская мысль всегда чувствует эту свою огрн ниченность настоящим. Оттого–то периодически и раздаются призывы: «назад к Канту!», «назад к Платону!» Что–то, значит, в прошлом было глубже и лучше, в чем–то соври менная мысль ниже и хуже.
Интеллигент. Но Вы же сами утверждаете, что существо мысли древних нам недоступно. Кант какого–нибудь Когена или Платон Наторпа весьма отличны от действительных Платона и Канта.
Философ. Тем хуже для Когена и Наторпа.
Скептик. Мне кажется, в этой склонности современных философов выдавать свои мысли за мысли Платонн, Канта и других гениев есть что–то родственное со стремлс нием оккультистов ссылаться на «предание» и на Гермеси, Парацельса и прочих реальных и воображаемых лиц, о которых никто ничего не знает. Что поделаете? – черта эпохи.
Философ. А еще более недоверие к собственной своей мысли.
Интеллигент. Я готов Вам уступить философию, Но ведь и сами Вы иначе оцениваете развитие точных наук и на них смотрите иначе.
Философ. Почему же смотреть на них иначе? И к ним вполне применим упрек в разъединенности, в отъединенное от философии и, следовательно, в необоснованности основных их понятий и предпосылок. Не вижу даже преимуществ естествознания перед такой наукой, как история. Она, если и не осмыслила понятия развития, то все же пользуется им, тогда как естествознание само развитие ста рается свести на производную от него категорию причинности. С другой стороны, подумайте о «цинизме» современных математических теорий, предполагающих, что оснонп математического построения дается произволом самого математика, или впадающих в элементарный и наивный эмпиризм. Сопоставьте это с пифагорейским и Платоновским отношением к числу. Правда, мы уже встречаемся и в математике со своеобразным возрождением пифагореизма, но это такое же возрождение, как и возврат к Платону или Канту. Я напомню Вам остроумные и глубокие мысли Шпенглера о принципиальном различии между древней и новой математиками. Теперь все увлечены и «снобируют» принципом относительности. – Философски ценное в нем лучше высказано в XV в. Николаем Кузанским. Или сопоставьте химию и алхимию. Первая уже возвратилась к идее иторой – к идее единого вещества. А у алхимии есть и другие важные преимущества, которыми я не хочу Вас смущать.
Интеллигент. И не надо. Все равно с попытками защищать астрологию, алхимию, колдовство спорить я не стану. Вам обоим, по–видимому, нравится говорить парадоксы. Но посмотрите на современную технику. Была ли такая когда–нибудь или нет? Если же не была, то как вы решитесь отрицать технический прогресс?
Философ. …к которому так равнодушно относятся какие–нибудь буддисты Средней Азии, вовсе не уступающие нам, а во многом даже и превосходящие нас своим духовным развитием.
Интеллигент. Ну это, простите меня, из области той же самой алхимии. Мне бы хотелось услышать более убедительные аргументы.
Скептик. Технику нельзя отрывать от других сторон жизни.
Интеллигент. Это я уже знаю. А Вы все–таки попытайтесь. Возьмите и сопоставьте почтовую карету XVIII в. с современным американским паровозом.
Скептик. Извольте. Что такое техника? – Господство человека над природою, над косною материей. Несомненно, паровоз ходит скорее, чем почтовая карета. Он лучше преодолевает пространство, делает путешествие более безопасным, сокращает время дельцам, политикам, ученым. Но в замену этого он отнимает все свободное иремя у десятков тысяч людей, занятых его производством, ставит их в невозможные, вредные и прямо–таки опасные для жизни условия работы, превращает их – Вы сами ;таете – в отупелых животных. Растет власть человека над материей–природой, но одновременно растет и власть материи–машины над человеком. Я думаю, что эти аргументы обладают достаточной силой. И нет нужды ндаваться в детальные сопоставления, указывать на преимущества культуры земли в Египте или древней Месопотамии, на добротность старинных тканей или построек и т. д. и т. д.
Интеллигент. Нет, все это становится невозмож ным! Вы оба запутываете меня какой–то сетью софизмои, Но убедить меня все же вы не в состоянии. И я уверен, что во всех ваших рассуждениях скрыта какая–то основнам ошибка. Где она – я не знаю. Но она должна быть непременно. Мне кажется, отвергая прогресс, вы пользуетесь тем же понятием прогресса. Вы только разлагаете всякий прогрессирующий ряд на элементы и стараетесь показать, что рост одних сопровождается упадком других. Но нельзя же разлагать до бесконечности. В конце концов, должны же мы придти к неразложимому далее элементу, к элементарному движению вперед или назад. Пускай это не прогресс, – Это все–таки какое–то основание, благодаря которому можно говорить о прогрессе и неизбежно о нем говорить и думать. Говорите и думаете о нем и вы. И если разобратьси в этом темном для меня основании, может быть, найдется и выход из лабиринта ваших софизмов. Нельзя отвергать, что везде перед нами какое–то нарастание. Устанавливается ли оно с достоверностью как постоянное? Но раз оно есть, возможно гипотетически установление этого, возможна, если хотите, – вера в прогресс, нечто вроде постулата практического разума. А как Вы станете отвергать нарастание? Его мы наблюдаем и во вне и в себе самих, наблюдаем н собственном своем индивидуальном развитии.
Скептик. Нарастание не есть еще прогресс. И мне нет необходимости его отрицать; тем более, что Вы сами решаетесь строить на нем лишь веру в прогресс. Что же касается индивидуального развития, к нему не трудно подойти так же, как к развитию человечества. В каждом из моментов моей жизни есть своя неповторимая ценность и всякий момент односторонен. Не думайте, будто «выработав» себе ваше теперешнее мировоззрение (с помощью известных «бесед о выработке миросозерцания» или без их помощи – все равно), Вы превзошли себя прежнего. – Вы раскрыли в себе нечто новое и сейчас для вас ценное, но Вы забыли и разучились ценить свое прошлое, которое для Вас и объективно было не менее ценным.
Философ. Наконец, мы подошли к самому существу проблемы прогресса: мы уже касались его, когда кто–то из вас упомянул о правомерности рассматривать всякий прогресс в «разных отношениях»… Да и еще несколько раз мы были очень близки к этому существу. Теперь же особенно удобно рассмотреть его в связи с вопросом о нарастании и примером индивидуального развития.
Скептик. Боже мой, как Вы методично приступаете к делу! Сейчас видно человека, читавшего на своем веку много лекций.
Философ. В индивидуальном развитии, поскольку мы его осознаем, факт «нарастания» представляется несомненным. А обладая сейчас такими–то знаниями и взглядами, представляя собою такую–то нравственную личность, я усматриваю в своем прошлом те же взгляды, те же знания и черты в состоянии меньшего раскрытия, часто – лишь в зачаточном состоянии. Усматриваю я в своем прошлом и нечто по–видимому совершенно сейчас мне чуждое – то, что было для меня ценным и было в неповторимом своеобразии своем ценным абсолютно, но что теперь по тем или иным причинам ошибочно кажется мне ценность свою утратившим. Собственно говоря, принципиальной разницы между обеими категориями усматриваемого нет, как, я надеюсь, сейчас станет ясно. Для правильного понимания душевной жизни и душевного развития необходимо постоянно иметь в виду два момента: непрерывность изменения, не позволяющую иначе как условно разлагать ее на элементы, и возвышенность душевной жизни над вещностью и пространственной внеположностью. Второй момент обычно толкуется как отрицание в душевности всего материально пространственного, как ее чистая «духовность». Подобное толкование, на мой взгляд, ошибочно: надо говорить о всепространственности душевной жизни, о «возвышенности» ее над пространством и материальностью, которые она в себе содержит и объемлет. В данной связи мне важно, что к душевности вообще и душевному развитию в частности не применима категория пространственноматериальной количественности. Конечно, количественность в более широком смысле, интенсивность – неоспоримое свойство душевности, но это совсем особая количественность, которую Бергсон мог даже спутать с качественностью и которая, не допуская материалистических, т. е. пространственно или вещно–количественных истолкований, нуждается в объяснении совершенно иного рода. Основной категорией душевности является качественность: каждый «момент», условно выделяемый из единства ее момента, ее развития качественно отличен от всех прочих и само душевное развитие есть развитие к а чественное. Различием по интенсивности пока я считаю возможным пренебречь. Обратите теперь внимание на то, что именно происходит во всех тех случаях, когда мы наблюдаем в нашей душевной жизни «нарастание». – Мы живем в качественности момента настоящего и все, что мы воспринимаем из прошлого, все что мы вспоминаем, пропитано этою качественностью настоящего. В настоящем прошлое–воспоминаемое отлично от собственно настоящего не исконной своей качественностью, а своею качественностью, преобразованною настоящим, своеобразным обертоном качественности настоящего, который далеко не всегда уловим, чем и объясняется иллюзия – смешение прошлого с настоящим. Забывая о специфичности душевной жизни, о ее качественности, а мы всегда об этом забываем, всецело погруженные в пространственно–количественный мир, в ограниченные заботы века сего, – мы разбираемся в душевности нашей между настоящим и прошлым по совершенно неуместному здесь принципу пространственноколичественного различия. Отсюда вырастает образ или схема чисто механического нарастания вроде увеличения кучи песку, а душа невольно уподобляется пустому мешку или ящику. Но совершенно очевидно, что это и есть источник материализма как метафизической доктрины, и что такое понимание душевного развития и перенесение его, столь же незакономерное, на развитие общества неизбежно приводит не только к позитивно–материалистической теории прогресса, но и к превращению ее в идеал материалистического социализма.
Интеллигент. Таким образом, Вы хотите истолковать самое идею прогресса как иллюзию?
Ф и л о с о ф. Не только; я нахожу и некоторые основания, которые…
Интеллигент. С этим я не могу примириться, не мог бы примириться даже в том случае, если бы ваши отвлеченно–философские рассуждения вполне меня убеждали.
Философ. Но позвольте…
Интеллигент. Нет, поймите, что полный отказ от идеала прогресса неприемлем для меня нравственно.
Философ. Но я же и хочу Вам показать, что нравственно приемлема…
С к е п т и к. Не понимаю, почему для Вас нравственно необходим столь безнравственный идеал.
Интеллигент. Как безнравственный?
Скептик. Очень просто. Вы миритесь с компромиссной формулой Вашего идеала. Вы согласны, что прогресс наибольшее счастье наибольшего количества людей. Скажите: почему же не всецелое счастье всех? Я бы на Вашем месте обратился тогда к нелепым фантазиям Федорова и начал изыскивать средства к магическому воскрешению умерших. Вы этого не делаете и не станете делать. А я, хотя бы я один, не хочу для себя полноты благ и блаженства, если знаю, что другие страдают и страдали, чего уже не поправишь. И не хочу я, с другой стороны, лишать себя доступных мне наслаждений ради неизвестных и чужих мне людей будущего.
Интеллигент. Не верю, чтобы Вы оставались совершенно равнодушным и к судьбе Ваших отдаленных потомков.
Скептик. Они сумеют устроиться и сами. Зачем предполагать в них каких–то беспомощных калек? А может быть, они будут такими «хватами», что и думать–то о них не стоит.
Интеллигент. Нет, я уверен – им нужна и наша помощь, нужна хотя бы для того, чтобы они не стали, как Вы выражаетесь, «хватами». Для меня величайшее утешение – мысль, что настанет когда–то для земли блаженное время, пускай даже недолгое, пускай даже для немногих. Не знаю – я не могу жить без этой надежды. Она сильнее, чем все остальное. Ради счастья неизвестных и далеких мне людей, ради «дальних» готов отдать свою' жизнь. Мне горько, что их немного – хотя, кто знает? Но я мирюсь с этим и лучше отдам свою жизнь за немногих, чем сохраню ее только для себя.
С к е п т и к. Со своей жизнью Вы вправе делать, что угодно. Но зачем Вы требуете чужих жизней и хотите заставить страдать других? Мы уже говорили об этом.
Интеллигент. И Вы уже согласились, что таков удел всякой человеческой политики и деятельности. Пред ложенный Вами выход – «carpe diem» прост, но нравственно, по крайней мере для меня, неприемлем. Я хочу жить и действовать.
Скептик. Помимо того, что едва ли Вы захотите действовать, если узнаете о гибели земли не позже, чем завтра, помимо всего уж сказанного нами, сам идеал прогресса обрекает на полную бездеятельность.
Интеллигент. Каким таким образом?
Скептик. Возьмите хотя бы область познания – сейчас мы в ней. Раз Вы верите в прогресс, Вы совершенно напрасно сейчас спорите и волнуетесь. Ни Вы, ни я Истины–то во всяком случае не познаем. В течение бесконечного развития и методы мышления, и теории, и «истины» видоизменятся до неузнаваемости. От наших взглядов не останется ничего.
Интеллигент. Да, но только благодаря нашим спорам и нашему умственному труду познают истину грядущие поколения.
Скептик. Познают ли? Ведь прогресс бесконечен, «дурная бесконечность», как говорит наш друг. И скажите откровенно: станете ли Вы продолжать наш спор, если отчетливо сознаете, что наши теперешние слова и взгляды не обладают никакой абсолютной ценностью? И станете ли Вы действовать, если убедитесь в ложности и ненужности всех Ваших поступков, если то, что Вы считаете полезным, окажется вредным и наоборот?
Интеллигент. Крупицы истины и полезности в моих мыслях и действиях есть.
Скептик. Кто Вам это сказал? Да даже если и так, каким образом сумеете Вы в Ваших мнениях и действиях выделить эти крупицы? Может, именно данные мысли и ложны, именно данные поступки и вредны. Вы не верите в Бога, а другие за веру в Него жертвовали и жертвуют жизнью. Что если и Вы ошибаетесь так же, как и они? А Вы еще и чужими жизнями жертвуете! Проповедники христианства гибли за Христово учение. А какова полезность их гибели, если Христово учение – ложь? Вы очень высокомерно – с точки зрения прогресса это лишь последовательно – и пренебрежительно относитесь к старым ученым; и не только Вы – все ваши современники. И правда, зачем изучать Платона? – не лучше ли почитать Наторпа? Зачем кричать: «назад к Канту»? Лучше заняться самоновейшими системами. Мне кажется странною непоследовательностью, что занимаются историей науки, историей вообще, толкуют о каких–то «классиках философии». Стоит ли изучать прошлое, тратить силы на знакомство с заблуждениями человеческого ума? По существу все вы, идеологи прогресса, прошлое презираете. Но поверьте мне, ваши потомки будут смеяться над вами не меньше, чем вы смеетесь над вашими предками. Низкая оценка прошлого с необходимостью приводит к низкой оценке настоящего. Идеал прогресса обесценивает жизнь и деятельность. Искренний и последовательный его приверженец не действовать должен и не думать, а лежать на боку и ждать смерти.
Интеллигент. А вот Вы – у Вас нет и того, что у меня: веры в прогресс – Вы–тο живете и мыслите.
Скептик. Я живу, потому что живется; думаю, потому что думается.
Ф и л о с о ф. До чего доводит пренебрежение философией! А все потому, что Вы меня перебили и целых пять минут не давали возможности вставить хоть одно слово.
Скептик. Вас и нельзя было не перебить. Вы слишком для нас обоих обстоятельны, величавы и глубокомысленны. К тому же, насколько я понимаю, Вы еще не отчаялись сделать нас своими слушателями.
Философ. Да, я надеюсь на несколько минут Вашего внимания. И по правде сказать, перерывом и высказанными Вами мыслями даже доволен. Сказанное Вами и особенно заключительные слова прекрасно подготовляют почву для развития моих взглядов. Меня перебили в тот самый момент, когда я собирался указать на истинное и вечное основание, искажаемое идеалом прогресса.








