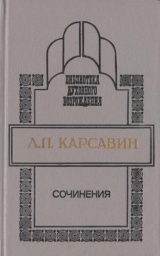
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Лев Карсавин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
Все это, как и взгляды самого Достоевского, может показаться голословными утверждениями, в лучшем случае – безответственными интуициями: ведь мы не верим фактам, не убеждены в правильном и беспристрастном их подборе. Для обоснования изложенной концепции католичества необходимо, пользуясь охарактеризованным выше «методом», углубиться в психологический анализ католической идеи и ныяснить неразрывную, органическую связь ее моментов. Такой анализ дан в «Легенде о Великом Инквизиторе», и не следует смущаться некоторою неясностью изложения: она неизбежна потому, что взгляды Достоевского высказывает Иван Федорович Карамазов, характеризующий (немного, конечно, сильно) свою легенду, как «только бестолковую поэму бестолкового студента, который никогда двух стихов не написал».
«Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти 'сделались хлебами». Вот первое дьявольское искушение, настолько связанное с двумя другими, что оно без них, как они без него, немыслимо, не выражено вполне. Оно покоится на глубоком знании эмпирической человеческой природы, соединенном с презрительным неверием в возможность обожения человека. Всякая деятельность человека, в частности, моральная и религиозная его деятельность – так думает «страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия» – мотивирована основными потребностями эмпирической человеческой природы. Говоря грубо и конкретно, человек живет и действует, сознательно либо бессознательно руководствуясь надеждою на хлеб земной и насущный. Никаких идеальных потребностей, никакой тяги к абсолютному в нем нет; а если и есть, то лишь как нечто второстепенное и производное. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» «Ты», говорит инквизитор Христу, «хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким–то обетом свободы, которого они, в простоте своей ив при рожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, – Ибо ничего и никогда не было для человека и человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой и раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за Тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку Свою, и прекратятся им хлебы Твои».
Действительно, свобода и необходимость заботиться о хлебе насущном несовместимы. Ради хлеба, ради удовлетворения своих насущных эмпирических потребностей человек пойдет в рабство: «лучше поработите нас, но накормите нас». А в царстве свободы он очень быстро убедится, что «свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою». Почему же не сумеют? – Да потому, что люди «малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики», потому, что в них реальна лишь эмпирическая природа. Но это значит, что они не могут быть и свободными в том высшем смысле, какой раскрыт Достоевским в применении к идеалу православия. Свобода – «хлеб небесный», но небесному хлебу «в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени» не сравниться с земным. Мотивация всего эмпирическими потребностями, утилитаризм в религии и морали, является отрицанием свободы, ибо свобода как раз и есть независимость от эмпирии, обладание самим собою истинным, которое, как мы знаем, приобретается самопознанием – смирением и страданием, а не гордынею мнимо–своим. Тем, что люди вместо «знамени хлеба небесного» стремятся к «знамени хлеба земного», они показывают, что дар свободы им тяжел, что они готовы отдать свою свободу за их успокоение.
Но как же люди, отдающие свою свободу, могут быть «бунтовщиками»? – Да, они и отдают–то свободу свою потому, что «устроены бунтовщиками», а бунтовщики не могут быть счастливы. Это во–первых; во–вторых – надо различать свободу истинную от свободы мнимой, которая на самом деле – рабство, и помнить, что, отказываясь от первой и будучи на самом деле рабом, человек может считать и считает себя свободным. «Но знай», говорит инквизитор, «что теперь… эти люди уверены более, чем когда–нибудь, что свободны вполне, а между тем, сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим».
Однако из одних эмпирических потребностей, из хлеба земного все не выводимо: «тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том для чего жить». Без цели жизни человек откажется и от хлеба. В психике человеческой есть иррациональные с точки зрения утилитаризма, но основные стремления. И «единоличное существо» и «целое человечество» ищут, «пред кем преклониться». Им нужно нечто бесспорное, т. е. такое, чтобы все его признавали, нечто абсолютное. Если не все признают поклоняемое достойным поклонения, оно не бесспорно. И «потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение всех людей, которое ведет к борьбе, к взаимному истреблению». Это понятно. – По существу своему потребность в «преклонении» является тягою к абсолютному. Свободное существо для того, чтобы остаться свободным, должно само найти и признать абсолютное, не в силу пользы его и не в силу его эмпирической убедительности. Но для существа несвободного или рабствующего эмпирии абсолютность определяется эмпирическими признаками, т. е. именно пользою или «хлебом» и общезначимостью, как всеобщим признанием, А всеобщее признание, в свою очередь, определяется внешними признаками. Только «внешние силы» могут «навеки победить и пленить совесть… слабосильных бунтовщиков Есть три таких силы – чудо, тайна и авторитет. Их отверг Христос, отвергая искушения умного духа. Он отказался от них потому, что «возжелал свободной любви человека», свободного избрания добра, свободного следования Ему. Но людям подобное искушение не по силам. Их природа не может отказаться от чуда, как отказался от него Христос; они не могут полагаться на свободное решение своего сердца в минуты «самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих». «Человек ищет не столько Бога, сколько чудес» и, отвергнув чудо, сейчас же отвергнет и Бога.
Далее. – «Вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз и навсегда «Христос, высоко ставя достоинство человека и желая свободного признания и свободного решения, «взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного», и поставил это перед людьми. Он указал на тайну; но предоставил раскрытие ее свободным усилиям своих последователей. И непостижимой тайною остается, почему столь немногие осуществляют Его завет, почему так мало, по–видимому, избранных. Как же решить эту тайну слабому человеческому уму, как успокоиться человеческому сердцу? Только одним способом можно достичь, если не первого, то второго, практически наиболее важного: надо убедить людей, что «не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести». Убедить же можно лишь посредством чуда и посредством авторитета, который основывается на том же чуде и на хлебе земном.
Итак, анализ эмпирической природы человека приводит к весьма низкой его оценке. В нем и над ним господствуют материальные потребности, без удовлетворения которых он жить не может, и которые определяют всю его деятельность, равно – и религию, и мораль. Правда, в нем есть и жажда абсолютного, требующего преклонения, и потребность в этом преклонении, и – «третье и последнее, мучение» – «потребность всемирного соединения». Но эти иррациональные потребности, во–первых, связаны с основною материальной, а, во–вторых, истинно утолимы лишь путем свободы, искания, свободного труда и свободной любви, путем свободы, т. е. преодоления первой и основной. Если нет сил на свободу, т. е. если материальная потребность господствует, жажда абсолютного может быть оправдана лишь внешне – авторитетом, чудом, тайною и, в конце концов, удовлетворением потребности материальной или пользою. Само «всемирное единение» при этом условии может быть осуществлено только извне, внешнею силою, т. е. тоже посредством чуда, тайны и авторитета и посредством земной власти.
Христос не бросился вниз, остался тверд в своей вере свободной. «О, конечно, Ты поступил тут гордо и великолепно, как Бог, но люди–то, но слабое бунтующее племя это – они–то боги ли?» Не боги, отвечает христианский идеал, но свободно могут обожиться; да и Христос победил искушение и «поступил тут» не «как Бог», а как человек. Инквизитор обожил человеческое, а, с другой стороны, отверг возможность обожения человека. Потому он и поддался на «третье диаволово искушение», т. е. признал ошибку в отказе Христа от земной власти и правоту католичества, эту власть взявшего в свои руки и «исправившего» дело Христа.
Грех католичества в том, что оно не верит в Христа–Богочеловека и Христу–Богочеловеку, а верит скептическому и циническому уму дьявола. Но это еще не все. У Христа нашлись ученики, «избранники», нашедшие в себе силу для подвига свободы и для самой свободы. Только таких избранников немного, «несколько тысяч, да и то богов». Остальные – слабые и лукавые бунтующие рабы. За что же они гибнут в «неспокойстве, смятении и несчастии»? Или – несколько расширяя и водоизменяя вопрос – за что страдают люди, страдают невинные дети; за что «замученный ребенок… бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к «Боженьке»? Как же могло так случиться, что Бог Любви «отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми» (а ведь надо сделать счастливыми и спасти всех)? Возлюбивший людей «поступил как бы и не любя их вовсе». Значит, Он или не любил их, или ошибся.
Мало признать грех католичества и основную его ошибку. Надо еще понять, что она – ошибка любви, правда, – любовь уничтожающая. Великий Инквизитор тоже был в пустыне, питался акридами и благословлял свободу; он «готовился стать в число избранников… «восполнить число». Но он «очнулся и не захотел служить безумию». Он не захотел личного своего спасения ради любви к слабым, немощным и подлым и, зная, что его или подобных ему ждут муки, на эти муки идет во имя счастья людей. «Неужели мы не любили человечества», спрашивает он, «столь смиренно сознав его бессилие, с любовью и облегчив его ношу…?» «Нет, нам дороги и слабые». – Они любили человечество, но тот же Великий Инквизитор говорит совершеннейшему Человеку: «Я не хочу любви Твоей, потому что сам не люблю Теб я… Мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна!» А если нет любви к Человеку, нет и не может быть любви и к людям, и, следовательно, перво–источное чувство было не любовью, но чем–то совсем иным. Иначе оно не привело бы себя к саморазложению и самоотрицанию, иначе христианство в католичестве не стало бы люциферианством.
А оно становится им. Исходя из оценки и понимания человечества не верою Христовой, но верою в слова «умного духа», католичество хочет превратить камни в хлебы, накормить голодных, для того, чтобы они пошли за ним. Оно, зная тайну свободы, стремится поработить людей обманом, выставляя себя как истинное учение Христово. «В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгат ь». Оно «исправляет» подвиг Христа и основывает его на чуде, тайне и авторитете. И, наконец, сознавая необходмость для себя земной власти, оно смело берет третий дар дьявола: «мы взяли от него Рим и меч Кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными…» Оно умеет ждать, трезво оценивая человеческую природу, и знает: человечество истомится в своей свободе и принесет ее к ногам того, кто даст ему хлеб и обманом успокоит его совесть. Пускай сейчас люди бунтуют, пускай даже отвергают Бога. Все равно, рано или поздно «глупые дети» раскаются и, запутавшись в дебрях, куда заведут их «свободный ум и наука», возопиют о помощи. И тогда католическая церковь даст им «тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы». Запуганных и робких заставит оно работать, но зато даст им радости, «разрешит им и грех», а для успокоения их примет всю ответственность на себя. «И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только и будем несчастны… Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое, иза гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет, и для их же счастья будем манить их наградою небесною и вечною».
Есть своя величавая красота в этой любви, убивающей себя и все же как–то оправдываемой безмолвным, тихим поцелуем Христа. Но мне существенно подчеркнуть глубину, внутреннюю силу и убедительность диалектики, такую ее органичность, что по одному звену необходимо восстанавливаются все остальные. И это не злостная, пристрастная диалектика полемиста, сводящего весь католицизм к погоне за «материальными скверными благами». – Католичество взято в самом благородном своем обнаружении, в героизме величайшей жертвы; и взято со стороны «руководящей», «высшей идеи» своей, не со стороны того, насколько и как она опознается и чем она, сознательно или бессознательно, подменяется. Пускай даже ни один католик, ни один иезуит никогда не договаривался до идеи «Великого Инквизитора»: она тем не менее может быть основною в католичестве и как–то должна быть основною в силу внутренней своей убедительности. Довольно «и одного такого, стоящего во главе, чтобы нашлась, наконец, настоящая руководящая идея всего римского дела, со всеми его армиями и иезуитами… Я… твердо верую, что этот единый человек и не оскудевал никогда между стоящими во главе движения».
Итак, основанием католичества, как индивидуальной и как социальной религиозности, является утверждение, что царство Христово от мира сего, что Христос «без царства земного удержаться не может» («Гражданин», 1874, N 1). Римская церковь не может уступить и ни за что не уступит своей светской власти и «лучше согласится, чтоб погибло христианство совсем, чем погибнуть светскому царству Церкви».Но, провозгласив такое положение, католичество «тем самым провозгласило Христа нового, на прежнего не похожего, прельстившегося на третье дьяволово искушение, на царство земное». При этом земное властвование римской церкви, как идеал ее, должно быть понято шире, чем простое обладание государством Петра. – «Объединенная Италия стучалась уже в ворота Рима», а папство как раз и открыло «свой секрет», по–новому выразило свою вековечную идею. Эта новая формула, этот «секрет» – догмат папской непогрешимости.
Какое отношение имеет догмат непогрешимости к светской и государственной власти? Он, по–видимому, устанавливает только одно: при известных условиях безошибочны папские решения в вопросах веры, культа и дисциплины. Можно обвинять папство в гордыне, человеческой или антихристовой; но какое основание видеть в догмате непогрешимости формулу притязаний на государственную власть?
– Признать себя высшим судьей и законодателем в вопросах веры при условии приоритета религиозного начала и необходимости подчинить ему все, значит, рассуждает Достоевский, признать себя главою всех государей земных, поскресить древнюю идею всемирного владычества и единения и окончательно продать Христа за царство земное.
В 1873 г. 7 августа Пий IX обратился с письмом к императору Вильгельму, где, между прочим, он говорит: «…эти меры могут лишь колебать ваш престол. Говорю откровенно… потому, что считаю своим долгом говорить истину всем, хотя бы и не католикам, ибо всякий приявший крещение принадлежит более или менее – я не могу здесь изъяснить в подробности почему – принадлежит, говорю, более или менее п а п е». Конкретно – папа заступается перед императором за его подданных, даже за еретиков, и заступается не как предстатель, но как власть имеющий, ибо даже еретики имеют право принадлежать ему, папе. Если вспомнить, что в религиозном вопросе невозможен никакой компромисс, станет ясным, что из слов папского послания вытекает и государственное верховенство папы. Вот почему Достоевский и считает возможным дать такое свободное переложение мыслей Пия IX: «Это вы думаете, что я только титулом государя Папской области удовольствуюсь? Знайте же, что я всегда считал себя владыкой всего мира и всех царей земных, ине духовным только, а земным, настоящим их господином, властителем и императором. Это я – царь над царями и господин над господствующими, и мне одному принадлежат на земле судьбы, времена и сроки; и вот я всемирно объявляю это теперь в догме моей непогрешимости» (Дн. 1876, март I. 5 (Ср. 1877, май–июнь, III, 3).
Нет вообще вопроса, который бы стоял вне религии. Но это положение приобретает особый смысл, когда речь идет о католичестве, и когда Достоевский утверждает, «что нет теперь в Европе вопроса, который бы труднее было разрешить, как вопрос католический, и что нет и не будет отныне в будущем Европы такого политического и социального затруднения, к которому не примазался бы и с которым не соединился бы католический римский вопрос» («Гражданин», 1874, N 1). Тут надо различать две стороны. – Во–первых, в существе своем католичество является выражением западно–романской культуры и невольно принимается всеми «за общее знамя соединения всего старого порядка вещей» (Дн. 1877, май–июнь, II, 2). Сознательно или бессознательно для всего романского мира его культура есть культура римская и католическая. Во–вторых, сама римская церковь представляет активную силу, которая пронизывает нею жизнь, всю ее стремится сплотить в себе и себе подчинить.
Выше уже указано, что римская религия создала и организовала романскую культуру, высшее и совершеннейшее выражение которой дано во Франции, «нации католической вполне и всецело». В XIX в. даже кажется смешным назвать Францию «католической, представительницей католичества», может быть, это еще смешнее в веке XX. И тем не менее Достоевский убежден в своей правоте: «Франция сеть именно такая страна, которая, еслиб в ней не оставалось даже ни единого человека, верящего не только в папу, но и даже в Бога, все–таки будет оставаться страной по преимуществу католической, представительницей, так сказать, всего католического организма, знаменем ero…«(ib.). Иными словами, развитие культуры Запада и культуры Франции преимущественно и есть развитие римского католичества.
Как недостаточное и грешное выражение христианства, католичество не может быть внутренно единым; оно несет в себе начальную раздвоенность, семя разложения, прежде всего – противоречие христианской и римской идеи. А и сама римская, древнеримская идея может дать только внешнее и временное единство, обреченная на разложение. С этой точки зрения, Великая Французская Революция была ничем иным, как «последним видоизменением и перевоплощением той же древнеримской формулы всемирного единения» или видоизменением папской формулы, в которой вслед за отвержением христианства отвергнуто уже и папство. Великая Революция – самоотрицание католичества, переродившегося в чистый общественно–политический идеал, безрелигиозный (Дневн., 1877, май–июнь, 111,1). Это идея «успокоения и устройства человеческого общества уже без Христа и вне Христа», давно подмененного папизмом. И Франция «устами самых отъявленных атеистов своих» провозгласила «Liberte, Egalite, Fraternite – ou la mort», т. e. Точь в точь как бы провозгласил по сам папа. – «его слогом, его духом, настоящим духом и слогом папы средних веков» Ш).,янв., I, I).
Атеизм – как ясно уже из «Легенды о Великом Инквизиторе» – противоречит католицизму только видимо. «Франция», повторяет Шатов мысли Ставрогина, «в продолжение всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога и если сбросила, наконец, в бездну своего римского бога и ударилась в атеизм…, то единственно потому лишь, что атеизм все–таки здоровее римского католичества». Если она «мучается…, то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала».
Революция умножила армию собственников и предала Францию в руки буржуазии. А буржуазия, первый и единственный враг демоса, «извратила естественный ход стремлений демократических и обратила их в жажду мести и ненависти». Так был сделан дальнейший шаг к разъединению или обособлению – «в сущности, единение исчезало окончательно. Олигархи имеют в виду лишь пользу богатых, демократия лишь пользу бедных, а об общественной пользе, пользе всех и о будущем всей Франции… никто не заботится, кроме мечтателей–социалистов и мечтателей–позитивистов, выставляющих вперед науку…». Но наука бессильна, во всяком случае – бессильна в данный момент, а «мечтатели», хотя и управляют, сами управляемы «спекулянтами». Демос, которого олигархи держали в темноте и невежестве, думает только о «грабеже собственников», наивно предполагая, что этим путем разбогатеет, и «что в том–то и состоит вся социальная идея, о которой.«толкуют… вожаки».(Дн., 1876, март, I, 4).
Таков реальный процесс. Он выражает собою внутреннее развитие идеи католицизма. – «Новая формула» Великой Революции «оказалась недостаточною». Но вековечное стремление человечества к исканию «новых формул идеала и нового слова, необходимых для развития человеческого организма», увлекло мечтателей далее. Они «бросились ко всем униженным и обойденным, ко всем не получившим доли в новой формуле всечеловеческого единения, провозглашенной» 1789–м годом. «Они провозгласили… всеединение людей на основаниях всеобщего уже равенства, при участии всех и каждого в пользовании благами мира сего, какие бы они там ни оказались«(Дн., 1877, май–июнь, 111, 1). Это и есть социалистическая идея, «совершенно естественный фазис… прежней мировой католической идеи и развитие ee«(ib., янв., II, I). Правда, французский социализм кажется протестом против католицизма всех «задушенных» им «людей и наций». Но, во–первых, это не мешает ему быть «завершением» католической идеи, а, во–вторых, идея «насильственного единения человека», идущая от древнего мира и сохраненная в католичестве даже в смысле «идеи освобождения духа человеческого от католичества», «облеклась тут именно в самые тесные формы католические, заимствованные в самом сердце духа его, в· букве его, в материализме его, в деспотизме его, в нравственности его» (ib.). Французский социализм весь построен «по католическому шаблону, с католической организацией и закваской» (ib., май–июнь, II, 2).
Социализм – продукт разложения католицизма или сама католическая идея, доведенная до последних своих логических пределов. Он такое же атеистическое перерождение католичества, как и вера Великого Инквизитора, более этого – он и есть сама эта вера, а Великий Инквизитор на самом деле социалист. Отсюда ясно, что дальнейшее развитие социалистической идеи должно ее привести к самоуничтожению и к тому возврату в церковь и к религии, о котором пророчествует герой «Легенды». Весь вопрос в том, способно ли само католичество дать изголодавшемуся человечеству хлебы, превратить в них камни своего учения. А в связи с этим стоит другой вопрос: какова политика папства и его идеалы во вторую половину семидесятых годав, когда Достоевский писал свой «Дневник».
Социальная революция, по мнению и предчувствиям Достоевского, неизбежна: она вытекает из логически–необходимого развития западно–романской культуры: т. е. из развития католической идеи. Надвигается что–то грозное, «социальный, нравственный и коренной переворот во всей западно–европейской жизни». Страшная революция «грозит потрясти все царства буржуазии во всем мире… грозит сковырнуть их прочь и стать на их место». Поэтому все, кому дорог существующий порядок, должны блюсти католичество, как «общее знамя соединения всего старого порядка вещей».(Дн., 1877, май–июнь, II, 2). Стремящееся к власти над миром папство должно учитывать этот момент. И «армия папы» – иезуиты – уже направила свои ряды на Францию. «Им несомненно необходимо обработать Францию в новом и уже окончательном виде…, дать стране новый организм… на веки вечные». В этом для Достоевского вся подкладка авантюры Мак–Магона (ib., III, 4). В этом же для него последнее основание политики Бисмарка, который, стремясь уничтожить Францию, борется за протестантизм против католичества:«важнейшая опасность для объединенной Германии кроется именно в римском католичестве», что Достоевский пытается показать путем позитивнодипломатического анализа. Во всем мире у папства только один защитник – Франция, на ее меч папство только и может рассчитывать, «если только этот меч она успеет опять твердо захватить в свою руку» (ib., сентябрь, 1, 3).» Пока жива Франция, у католицизма есть сильный меч, и есть надежды на европейскую каолицию» (ib., ноябрь, Ш, 2); и сам он может еще объединить Францию «хотя бы внешне–политически».
У папства свои цели. И если, в чем нельзя сомневаться, католический вопрос есть вопрос мировой, он и должен решаться в мировом масштабе. Защищая и осуществляя себя, католичество должно вступить в борьбу с православной идеей. И действительно, воинствующие клерикалы ненавидят Россию. «Не то, что какой–нибудь прелат, а сам папа, громко, в собраниях ватиканских, с радостью говорил о «победах турок» и предрекал России «страшную будущность». Этот умирающий старик, да еще «глава христианства», не постыдился высказать всенародно, что каждый раз с веселием выслушивает о поражении русских» (Дн., 1877, сентябрь, 1, 3). Дорога католичества намечена. – Как только загорелся восточный вопрос, иезуиты бросились во Францию, чтобы произвести там государственный переворот и вызвать войну с Германией, исконным врагом католицизма. «Франция была выбрана и предназначена для страшного боя, и бой будет. Бой неминуем», хотя и «есть еще малый шанс, что будет отложен». Но, начавшись, этот бой сразу же станет всеевропейским и выдвинет восточный вопрос. Достоевский надеялся на победу православного Востока (ib., сентябрь, 1,5).
Теперь, когда мы успели основательно забыть историю семидесятых годов, и Бисмарка, и Мак–Магона, и генерала Черняева, соображения Достоевского могут показаться плодом своеобразной мании преследования, тем более, что он неоднократно и настойчиво пишет о «католическом ;|аговоре». Мы, конечно, не помним, что тогда и в английских и немецких газетах писалось «о воинствующем католицизме», о Франции и католичестве, как главных врагах Германии. Впрочем, дело не в этом. В европейской политике XIX в. церковь не выступала как явственный, очевидно–влиятельный, осознанный собою и противниками фактор борьбы. Религиозная проблема решалась в категориях борьбы светской, понималась как проблема только политическая и культурная. Но это не препятствовало ей оставаться религиозною и в смысле неосознанной подпочвы движения, и в этом смысле, который позволяет считать французскую революцию и французский социализм фазисами развития католицизма. Ведь римская церковь омирщилась; и естественно, что религиозная борьба стала борьбою мирскою. Можно, как Достоевский, считать религиозное основною скрытою пружиною всего, а светское только внешностью. В этом случае неизбежно придется предполагать или раскрывать «католические заговоры» и «масонские» организации. Можно, с другой стороны, считать основою всего политические, даже социально–экономические явления и рассматривать все религиозные или церковные факты, позволяющие предполагать заговоры, несьма характерною для эпохи идеологическою надстройкою и необходимыми эпифеноменами процесса. Ни то, ни другое не правильно с точки зрения истинной идеи Достоевского. – Вся политико–социально–религиозная жизнь представляет единство, религиозные или же социально–политические явления – не более, как односторонние ее обнаружения. И, в конце концов, не столь уже важно для существа дела, хотя и весьма показательно, в каком ряду явлений ярче и полнее обнаруживает себя исторический процесс.
Предположения Достоевского в конкретности своей не оправдались; он бы сказал: «католический заговор» не удался. Но это не изменяет его прогноза. Он полагал, что последняя попытка католичества захватить власть все равно закончится для него неудачею, а потому поставит его перед новою проблемою. Ведь католическая идея не умерла. – «Католичество умирать не хочет, социальная же революция и новый социальный период в Европе тоже несомненен: две силы несомненно должны согласиться, два течения слиться» (Дн., 1877, ноябрь, III, 3). Как же иначе, раз оба течения, обе силы – два аспекта одного и того же католичества? Расчеты на Францию оправдаться не могут: она рано или поздно будет раздавлена. Тем самым католичество потеряет меч и не сможет уже опереться на земных государей или государства. Ему придется искать иную опору, и оно найдет ее в народных массах.
Если Достоевский убежден в неизбежности социального переворота и торжества «четвертого сословия» в Европе, то столь же он убежден и в саморазложении социалистической идеи и нового социального строя. Попытки построить новое общество, по его мнению, приведут к борьбе всех против всех, к отчаянию и разочарованию. Глупое людское стадо долго будет метаться из стороны в сторону, но, в конце концов, поймет, что без веры, без Бога жизни не устроишь. И тогда–то пробьет час торжества для папской идеи, уже знакомой нам из слов Великого Инквизитора.
«Если папство… будет покинуто и отброшено правительствами мира сего, то весьма и весьма может случиться, что оно бросится в объятия социализма и соединится с ним воедино». «Папа выйдет ко всем нищим пеш и бос и скажет, что все, чему они учат и чего хотят, давно уже есть в Евангелии, что до сих пор лишь время не наступало им про это узнать, а теперь наступило, и что он, папа, отдает им Христа и верит в муравейник». Тогда придет время папству еще раз указать на себя, как на единственную всемирную власть. (Дн., 1877, май–июнь, III, 3). Католицизм «обратится к народу, ибо некуда ему идти больше, обратится именно к предводителям наиболее подвижного и подымчатого элемента в народе, социалистам». Социализм вдруг предстанет как подлинно–католическое учение, а католичество, окончательно продав Христа, даст социализму организацию, единство и абсолютное, по–видимому, оправдание. (Дн., 1877, ноябрь, III, 3). У папы, скажут новые проповедники, ключи царства небесного; и «вера в Бога есть лишь вера в папу», непогрешимого заместителя Бога на земле, владыки времен и сроков. Сначала выше всего ставилось смирение, но теперь папа его отменил, и «если старшие братья ваши не хотят принять вас к себе, как братьев, то возьмите палки и сами войдите в их дом и заставьте их быть вашими братьями силой». Теперь сам Христос говорит: «Fraternite ou la mort» (Будь мне братом или голову долой!) И о грехах нечего беспокоиться: все грехи происходили от бедности. «Только веруйте, да и не в Бога, а только в Папу и в то, что лишь он один есть царь земной, а прочие должны исчезнуть, ибо и им срок пришел. Радуйтесь же теперь и веселитесь, ибо теперь наступил рай земной, все вы станете богаты, а через богатство и праведны, потому что все ваши желания будут исполнены, и у вас будет отнята всякая причина ко злу» (Дн., 1876 , март,1, 5).








