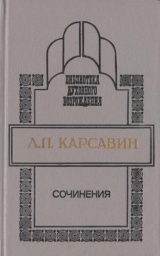
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Лев Карсавин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
Намеченная нами сейчас в самых общих чертах православная идея церкви объясняет земную связь византийской и русской церкви с государственностью и национальностью, дополняя многое из сказанного нами выше. Церковь и есть всяческое, т. е. и государственное и культурное, и религиозное и церковное, всеединство. Но церковь – всеединство вселенское, т. е. всяческое всеединство всего человечества. Это всеединство нельзя мыслить как безразличное единство всех народов или как такое же единство их под одною только церковною властью. Тогда оно не будет всеединством. Его необходимо мыслить по аналогии с живым организмом – оно живое тело Христово. И как нельзя создать органического единства, перемолов и перетерев в однородные атомы человеческое тело, но надо исходить из сознания особого смысла и особого значения каждого из органов, в качестненности своей необходимого для целого; так же нельзя создать единство человечества путем уничтожения культурных, национальных, религиозных и других особенностей. Человечество – организм, для существования и развития которого необходимы существование и развитие составляющих его личностей во всем их индивидуальном своеобразии. Но для единства человечества, для того, чтобы оно существовало как церковь, необходимо еще и непрерывное взаимодействие этих личностей, основанное на самоутверждении и самоотдаче.
Всеединое или соборное, всецерковное действие не является действием отвлеченным, одинаково, автоматически воспроизводимым всеми. Оно всеедино, т. е., совершаясь во всех, в каждом, совершается по особому, соответственно его индивидуальности. Но оно все–таки должно быть и действием всех, т. е. предполагает согласованность и согласие всех. Такая всеединая деятельность со времени разделения церквей невозможна и стала еще более невозможною с эпохи распадения западной религиозности на католичество и протестантство. Вселенская церковь раскололась, утратила свое единство и уже не в силах эмпирически осуществлять свою цель на земле. Отъединенная часть ее может пытатьс я собственными, частными усилиями выполнить общую задачу. Но, восполняемая другими частями, она неизбежно придет, как мы и наблюдаем в западной религиозности, к участнению или ограничению цели и дальнейшему расколу. Или же часть церкви, сознавая ограниченность отъединенной попытки, может ждать воссоединения своего с другими, как первого и неустранимого условия общего дела. Но ожидание и есть пассивность, остановка развития и косность потенциальности, т. е. тоже ограниченность. Пока отъединенное не восприняло и не сделало собою всего, что от него отъединилось и что должно было самостоятельно развиваться в живом взаимодействии с ним, и всего, что отьединенно, ограниченно актуализовано, оно не может своим восполнить единое и, возмещая ограниченность, осуществить всеединство.
VI.
Задача православной или русской культуры и универсальна, и индивидуально–национальна. Эта культура должна раскрыть, актуализировать хранимые ею с VIII в. потенции, но раскрыть их путем приятия в себя актуализованного культурою западной (в этом смысл «европеизации») и восполнения приемлемого своим. «Восполнение» и есть национальное дело, без которого нет и дела вселенского. На богословском языке приятие и восполнение западного православно–русским и будет воссоединением церквей. Только не следует считать догмы и выводы богословия чем–то отвлеченным и далеким от реальной жизни. Воссоединение церквей вовсе не формальный акт, хотя должно выразиться формально. Его понимает как узко–формальный, западный рационализм, полагая, что прежде всего нужен какой–то подобный дипломатическому договор, в котором точно оговорены все спорные пункты: и Filioque, и непорочное зачатие, и папская непогрешимость. Католичество даже склонно и действовать–то дипломатически, например – до поры до времени оставлять местный обряд и язык, требовать чтения символа веры с Filioque только по–латыни и т. д. Но достаточно немного исторических знаний, чтобы убедиться, насколько бесплодно такое «воссоединение». Провозглашения «унии» цели не достигают: большинство «присоединяемых» их не признает. «Униаты» же, в последнее время именуемые «католиками восточного обряда», приняв католичество, оказываются потерявшими связь со своим народом и свою личность католиками второго разряда. Они и присоединяются–то к католичеству часто потому, что утрачивают веру в русский народ и православие: от отчаяния и для некоторого самоуспокоения. По существу они – выродки, не русские люди. «От нас изыдоша, но не от нас быша», как говорит апостол. – Воссоединение церквей не дипломатический договор. Воссоединение церквей есть воссоединение культур, для чего необходимо, живое в православии, сознание единства культуры и религии и совсем недостаточно формальных, хотя бы и очень торжественных заявлений.
На деле воссоединение церквей давно уже совершается, но совершается неприметно для богословствующих юринов, не понимающих самого существа проблемы. От нас и пт католичества зависит, как скоро и действенно это воссоединение будет осуществляться, приближая нас, . может быть, и к венчающему его формальному акту. Чтобы всецело принять и сделать собой чужое, надо перестать быть самим собой, смириться и принести себя в жертву. Однако для воссоединения не менее необходимо выразить себя и исс свое. Но это выражение себя не косность самоутвержденности или гордыня, наблюдаемая нами в католичестве, не убежденность в том, что, обладая истиною, обладаешь полнотою ее. Пока существует такая самоутвержденность, никакое воссоединение невозможно, а именно она и типичил для самосознания Запада.
Православная культура стоит таким образом на расиутьи. – Или она осуществит вселенское, всеединое дело через освоение актуализованного Западом («европеизацию») и восполнение воспринимаемого раскрытием того, что является собственным ее идеальным заданием. Или она раскроет только это свое, т. е. подобно Западу – ограниченно актуализует всеединство, отказавшись от полноты груда и бытия. Или, наконец, она останется на распутьи в состоянии потенциальности, упорно ли не приемля чужого и закоснелости староверия или в чужом теряя свое, обезличиваясь в европеизации, в том и другом случае погибая. Повторяю, доныне она потенциальна, почему и нет данных для прогноза, хотя, конечно, можно привести факты в подтверждение всех трех возможностей и я, лично, склонен верить в частичное осуществление первой. Не притязаю на звание пророка и ясновидца – их и без меня достаточно – и, по глубокому внутреннему своему убеждению, полагаю, что надо не тешить себя гадательными мечтами о будущем, а действовать, как умеешь, в настоящем. Тем желательнее попытка хотя бы в самых общих чертах определить специфическое задание русской культуры, русскую идею. Вполне это невозможно в силу самой потенциальности нашей. Но, мне кажется, иозможно частичное и приблизительное определение русской идеи путем установления того, в чем именно та либо иная тенденция Запада ограничивает всеединство, чем ома должна быть восполнена и восполняется ли эмпирически на Востоке.
Догма Filioque не просто плохое понимание theologumenon'a восточных богословов: «чрез Сына» (pci· Filium, dia tu hyiu). В ней ограниченно и в ограниченности своей неприемлемо для нас выражается некоторая тенденция учения об абсолютном. И действительно, она пытается установить помимо сущностного единства абсолютного еще особое «ипостасное» единство, восполняющее троичность ипостасей и, само собой разумеется, распространяющееся и на Духа Святого. Если так, то она открывает нам путь к более полному учению о триединстве, как самом абсолютном, и, следовательно, к лучшему обоснованию идеи всеединства. Ипостасное единство ипостасей может быть понято лишь в том смысле, что каждая из них в себе – обе другие, т. е. все Божество, откуда получается возможность полного абсолютирования сотворенного Отцом через Сына и освященного Духом бытия. Тогда эмпирия уже не призрак, не преходящее явление (средство), а в то же самое время и не что–то самодовлеющее. Она – божественна, поскольку существует или причаствует Божеству чрез Христа и Духом, всецело божественна для Бога и – в идеале или заданности – для себя самой, когда приемлет полноту Божественности. В формулировании этого основного положения и вытекающих из него выводов – задача православного сознания. А «выводы» связаны с преодолением западного философского миропонимания, односторонностей рационализма и эмпиризма, и с установлением нового отношения к реальности: реальность обладает абсолютной ценностью и должна быть всецело абсолютирована в каждом из своих моментов. Знаменательно и то, что на Западе ипостаси преимущественно называются лицами. Это опять–таки указывает на абсолютное обоснование личности в триединстве и на отражающее ипостасное единство их взаимоотношение. И православная культура должна сочетать присущее ей признание ценности всякой личности с присущим Западу более четким и определенным пониманием личного начала.
Итак, эмпирическое бытие обожается или абсолютируется чрез Христа силою Духа Святого. Забывая о Духе, сошедшем на Марию, католичество выдвигает догму непорочного зачатия. Но, заблуждаясь догматически, оно отмечает нечто очень важное. Дева Мария понимается церковью, как индивидуализация самой Церкви, Софии или тела Христона, т. е. человечества. По человечеству своему Христос – сын Церкви–Софии, т. е. человечества, им же обожаемого. От Марии он получает свое тело, в ней становится человеком. Но он должен стать всецелым Человеком, не человеком в греховной ущербленности. А потому и «тело» его должно быть восполненным или обоженным. Утверждением носполненности этого тела (т. е. человечества) и мотивироиана внутренно католическая догма. Она ошибается, измышляя непорочное зачатие там, где уже есть сошествие Св. Духа на Марию, и понимая восполнение чисто отрицательно – как непорочность. Но она ценна тем, что подчеркивает обоженность человечества и реальность, а не только :)аданность его. Равным образом и католическое учение о церкви и восприятие католичеством Христа главным образом со стороны его человечества ценны потому, что подчеркивают значение эмпирически–конкретного, земной деятельности, которою склонно пренебрегать восточное христианство. Однако именно необходимость обращения во исякий момент к абсолютному настоятельно требует преодоления ограниченности западного эмпиризма и решительного отказа от суррогатов всеединства, именуемых идеалом прогресса.
Так раскрывается истинный смысл общественной деятельности, как актуализации всеединства в каждом моменте бытия, а само всеединство постигается в его всевременности и всепространственности, что не исключает, а предполагает полное напряжение эмпирической деятельности, в которой Запад выдвигает эмпирическое и Восток абсолютность. Вместе с этим даже атомизация всеединства в области мирообъяснения, религиозности и этики до известной степени оправдывается, как неизбежная в реальной разъединенности мира. Понятно, что в связи со всем сказанным необходимо принципиально новое понимание жизни и культуры, ориентируемое не на гадательное эмпирическое будущее, а на настоящее, и завет: «довлеет дневи злоба его», обнаруживается как основание не только индивидулльной, но и общественной этики; только «довлеет» не в смысле «довольно делать и можно поспать», а в смысле «делай немедленно». Наконец, и самоутверждение Запада мскрывает свою правду в том, что самоутверждение и самоопределение приемлется в смысле необходимо (хотя и не в ограниченности своей) восполняющего самоотдачу момента. Оно учит ценить и беречь свое, а не уподобляться старорежимному обывателю, который, в опьянении пав на землю, выразил свою законопослушность и жертвенность классическим обращением к городовому: «Бери, твое счастье!»
Не стану подводить итоги – они сами собой вытекают из развитых мною соображений, как не стану пояснять и иллюстрировать сказанное анализом того, что принято называть культурою, – руководствуясь вышереченным, читатель и сам, если захочет, сможет это сделать. Укажу в заключение лишь на некоторые характерные черты русского народа, в данное время, по крайней мере – до данного времени главного носителя православной культуры.
Уже неоднократно отмечалось тяготение русского человека к абсолютному. Оно одинаково ясно и на высотах религиозности и в низинах нигилизма, именно у нас на Руси нр равнодушного, а воинствующего, не скептического, а религиозного и даже фанатического. Русский человек не может существовать без абсолютного идеала, хотя часто с трогательною наивностью признает за таковой нечто совсем неподобное. Если он религиозен, он доходит до крайностей аскетизма, правоверия или ереси. Если он подменит абсолютный идеал Кантовой системой, он готов выскочить в окно из пятого этажа для доказательства феноменализма внешнего мира. Один возводит причины всех бед к осуждению Синодом имяславия, другой – к червеобразному отростку. Русский ученый, при добросовестности и вере в науку, нередко пишет таким ученым языком, что и понять невозможно. Русский общественный деятель хочет пересоздать непременно все, с самого основания, или, если он проникся убеждением в совершенстве аглицкой культуры, англоманит до невыносимости. Русский не мирится с эмпирией, презрительно называемой мещанством, отвергает ее – и у себя и на Западе, как в теории, так и на практике. «Постепеновцем» он быть не хочет и не умеет, мечтая о внезапном перевороте. Докажите ему отсутствие абсолютного (только помните, что само отрицание абсолютного он умеет сделать абсолютным, догмою веры) или неосуществимость, даже только отдаленность его идеала, и он сразу утратит всякую охоту жить и действовать. Ради идеала он готов отказаться от всего, пожертвовать всем; усомнившись в идеале или его близкой осуществимости, являет образец неслыханного скотоподобия или мифического равнодушия ко всему.
Итак – абсолютность идеала и сознание, что идеал лишь тогда ценен, когда целиком претворим в жизнь, истинно–философское понимание единства теоретической и практической истины. И заметим, что само многообразие конкретных идеалов тоже чрезвычайно показательно, как проявление смутной интуиции всеединства. При отсутствии веры в идеал мы опускаемся до звероподобного бытия, в котором все позволено, или впадаем в равнодушную лень. При недостатке энергии, вообще нам свойственном, возлагаем надежды на то, что «все само образуется», сами же и пальцем не хотим двинуть, пренебрегая окружающей нас эмпирией, которою не стоит заниматься, раз предстоит абсолютное. При избытке энергии – лихорадочно стараемся все переделать, предварительно выровняв и утрамбовав почву. Отсюда резкие наши колебания от невероятной законопослушности до самого необузданного, безграничного бунта, всегда во имя чего–то абсолютного или абсолютированного. Отсюда бытовая наша особенность – отсутствие быта, безалаберность и неряшливость жизни.
Но рядом с этим русскому человеку свойственно ощущение святости и божественности всего сущего. Он преклоняется перед фактом, перед тем же поносимым им Западом. Он боится, готовый оправдать все, резких определений и норм, смутно чуя ограничение, скрытое во всяком определении и во всякой норме. Он не любит вмешиваться в течение жизни, предпочитая мудро выжидать. И не веря ничему определенному – слишком резкая определенность и есть выражение наибольшей неопределенности – он все признает, отказываясь от себя самого. А в этом отказе от себя, в «смирении» – условие исключительной восприимчивости его ко всему, гениальной перевоплощаемости, которая – в порыве к идеалу – сочетается с беспредельной жертвенностью.
Мы мудро выжидаем, а выжидая ленимся. Русские люди действительно ленивы, что весьма соответствует потенциальности всей русской культуры. Не свободна от лени и вызывающая ее сосредоточенность на абсолютном, созерцательность национального характера. Вселенские задачи по самой природе своей сразу не осуществимы. Пока же «все само собой образовывается», стремление к абсолютному становится вялою мечтой лежебока, а абсолютное теряется. Если же нет абсолютного, утрачивают всякий смысл нормы нравственности и права, ибо вне отношения к абсолютному для русского человека ничего не существует. Потеряв веру, он чувствует, что «все позволено», или старается убедить себя в этом превозмоганием последних граней, становится вороватым, пакостником, преступником. И ему уже не до смирения – он бахвалится и чванится, не до стыда – он озорничает, художественно воплощая свое озорство в образе «камаринского мужика».
Мы переживаем самый, может быть, глубокий кризис нашей исторической жизни, наш XIII–XVI век. Возможно, что мы его не переживем. Положение наше опаснее, чем положение Запада в поворотный момент его истории. – Мы не самоутверждением привыкли жить, а неполная, пассивная самоотдача грозит полною потерею себя. Но если велики опасности, велики и надежды, и в них надо верить, исходя из идеи всеединства. Исходя же из нее, мы поймем, что будущее в настоящем и что настоящее само по себе обладает непреходящею ценностью. Путь к цели человечества лежит только чрез осуществление и целей данной культуры и данного народа, а эти цели, в свою очередь, осуществимы лишь чрез полное осуществление каждым его собственного идеального задания во всякий и прежде всего в данный момент его бытия. Личная этика неотрывна от этики общественной и покоится на тех же самых началах. Обе подчинены положению: «довлеет дневи злоба его» и обе определяют моральную приемлемость или неприемлемость акта и идеала теми плодами, которые они приносят. Только то будущее, которое и сейчас проявляется в добре, должно быть целью деятельности.
Диалоги
I. Об основных свойствах русского народа и царственном единстве добродетелей
Профессор. Прочел я Вашу «Салигию» и хотел бы поделиться с Вами некоторыми недоумениями. Я нахожу…
Автор Салигии. Только, пожалуйста, без похвал. Я их очень люблю, но несколько неловко их выслушивать и занимать своею персоною других. Согласитесь, что это не соответствует ни христианскому смирению, ни нравам моих милых схоластиков. К тому же кто знает? может быть, я напечатаю наш завязывающийся сейчас диалог, и тогда самый благожелательный читатель сочтет Ваши похвалы за мое самохвальство.
Профессор. Не беспокойтесь. Такой опасности Вашему предполагаемому читателю не грозит. Повторяю, мне хочется разъяснить некоторые недоумения, и не по существу (по существу, Вы знаете, я неисправимый скептик), а… ну, скажем: по форме. И прежде всего позвольте спросить Вас: чем объясняется такая странная форма «рассужденьица»? Зачем все эти обращения к читателю, все это, простите меня, ненужное суесловие?
Автор.
«Только в одежде шута–арлекина Песни такие умею слагать».
Профессор. Нет, кроме шуток. Зачем, если Вы дорожите тем, о чем пишете…
Автор. Дорожу.
Профессор. …постоянная полуулыбочка? Что это: боязнь высказаться прямо и смело и желание прикрыть себе путь отступления с помощью статических окопов? Я хорошо понимаю, что Вам нужна форма для откровенной и интимной беседы с читателем. Но почему именно такая форма, невольно (а, может быть, и вольно?) поселяющая в читателе подозрение, что автор издевается над своей темой? Ведь это коробит даже скептика.
Автор. Дорогой мой профессор, не мне учить Вас «божественной иронии» романтиков. Но буду смелее и сразу же заявлю Вам, что я человек русский. Обращали ли Вы когда–нибудь Ваше просвещенное внимание на особенности русского красноречия? Не знаю, но мне кажется, что порядочный русский человек не может не краснея слушать риторику присяжных витий, по крайней мере витий отечественного происхождения. Нам кажутся фальшивыми и безвкусными такие выражения, как «краса русской революции», «великий писатель земли русской», даже такие, как «приказный строй» вместо «бюрократического режима», хотя и «бюрократический режим» тоже прелестное словосочетание. Риторика какого–нибудь Жореса или Бебеля, (не говоря уже о «dii maiores», как Дантон) для нас приемлема, может быть даже волнует и увлекает нас. Риторика российского адвоката, парламентария или социалиста ввергает в стыд и смущение. Вспомните лучших русских стилистов, хотя бы Ключевского. Разве они увлекаются пафосом? А если и впадают они в пафос, то является ли этот пафос чистым? «Русское государство родилось на Куликовом поле, а не в скопидомном сундуке Ивана Калиты»… Француз никогда бы не вспомнил о сундуке (хотя и очень заинтересован в долгах российского государства) по поводу героической битвы, но усилил бы упоминание о ней соответствующей фиоритурой, а, может быть, и жестом. Конечно, и у Ключевского был пафос при мысли о Куликовом поле (кстати, не кажется ли Вам глубоко символичным, что одно из величайших событий нашей истории совершилось на поле, где живут кулики?), но ему стало совестно своего пафоса. Вот он и ввернул «сундук», оберегая тем свою стыдливость и усиливая яркость образа.
Профессор. А не думаете ли Вы, что здесь исходный момент не Куликово поле, а Куликово поле вместе с сундуком? Ведь Вы же сами говорите, что это «усиливает» образ.
Автор. Это безразлично. Если даже Вы правы, характерно, что тональности обеих частей сравнения существенно различны. Ведь героическая битва сопоставляется не с «темными временами незаметного накопления сил», не с «медленным созреванием национальной идеи» или «узким кругозором безличных властителе й», ас самым прозаическим сундуком. Дионисий Ареопагит утверждает, что лучше высказывать о Боге имена, явно Его достоинство умаляющие, чем имена, видимо соответствующие Его величию. Так лучше назвать Бога червем, камнем, чем благом, красою и т. д. Действительно, называя Бога красою, мы вносим в идею Божества что–то наше, человеческое и условное, тогда как…
Профессор. Милый мой, Вы опять за свое! Слезьте с Вашего конька и, если не можете вернуться к предмету нашей беседы, вернитесь хоть к «героической» Куликовской битве.
Автор. Делаю Вам эту уступку, тем более, что все дороги ведут в Рим и от поля битвы, от Куликова поля очень не далеко до Царствия Небесного. Не даром на нем кулики славят Господа, как, впрочем, и «всякое дыхание». Но не буду, не буду… Пока мне хочется указать на одно из основных свойств русской души – на ее стыдливость или стыдливую сдержанность. Оно объясняет неумение наше спокойно и серьезно говорить о возвышенном и дорогом и отдаваться допустимому в приличном обществе пафосу. О возвышенном и Божественном…
Профессор. Например – о Куликовом поле?
Автор. например, о Куликовом поле… русский человек говорит или с усмешечкой или с исступлением раскольника. Но что означает наша усмешечка или ужимка?
– Особый вид Богопочитания.
Профессор. Вот неожиданное заключение! Вы положительно неисправимы.
Автор. Мы высказываем задушевнейшие наши мысли и улыбаемся. Отчего улыбаемся? – Оттого, что живет в нас какое–то сомнение. Сомнение в чем? – Простите, я начинаю говорить стилем «Салигии», но автору это извинительно. – Разумеется, не в самой задушевной нашей мысли.
Профессор. А почему бы и не так?
А в т о р. Да потому, что нельзя сомневаться в самом задушевном и дорогом, потому что оно перед нами и в нас со всею убедительностью истины, хотя и облеченной туманом непостижимости. Если бы сомневались мы в нем, оно бы нас не влекло к себе и не волновало. Тогда бы мы и не думали о нем и не смеялись бы над ним, ибо нельзя смеяться над несуществующим.
Профессор. Почтенный автор «Салигии», во первых, Вы изменяете «русской народной душе», впадая в пафос, вплоть до употребления славянского речения «ибо». А во вторых, все Ваши возгласы – чистейшая метафизика.
– «Истина находится во мне!», «Истина мне говорит!» Знаем мы эти восклицания. Что такое Истина, да и есть ли она? Вот Вы с самого же начала считаете нужным сослаться на непостижимое, а сейчас, вероятно, заговорите и о «Божественном Мраке». Согласен – «русский человек» (уступаю Вам этот метафизический термин) высказывает задушевную мысль, в которую верит и которая ему дорога. Но в то же самое время он подсмеивается над нею, над нею с а м о ю, а не только над формою ее выражения, как, кажется, склонны Вы думать. Для непредубежденного человека ясно, что описываемое Вами состояние духа не что иное, как сомнение или сочетание желания верить с бессилием поверить.
Автор. Совершенно верно. Но скажите. – Что это за состояние «желание верить?» Должен же быть у веры некоторый объект. А «желание верить», конечно, – сочувственное восприятие стремления веры к ее объекту. Откуда же берется этот объект?
Профессор. Его создает потребность верить.
Автор. Но ведь и потребность верить, как некоторый вид веры, немыслима без объекта.
Профессор. Без причины, мой юный друг, а не без объекта или цели.
Автор. Нет. – Мы ощущаем и воспринимаем потребность верить или веру, как стремление к чему–то определенному в своей неопределенности и как некоторое ощущение, восприятие или охватывание (назовите, как хотите) этого «что–то». Стремление и потребность (и то и другое, собственно говоря, одно и то же) есть уже зачаточное обладание. И вера не что иное, как смутное знание и влечение к чему–то и чем–то. Так непререкаемо говорит нам наш внутренний опыт. Легче усомниться в бытии ннешнего мира, мира явлений, чем в бытии «вещи в себе», а наше «что–то» и есть самая подлинная «вещь в себе» или лучше – «вещь в себе и в нас». Более того. – Только на основе подлинного и живого восприятия «вещи в себе и в нас» возможна попытка отрицать бытие мира явлений. Вы сами знаете, что без «вещи в себе» никак не проникнуть в систему одного из крупнейших немецких мистиков – Канта. В поисках объяснения Вы, может быть, станете ссылаться на какие–то никому неведомые свойства Вашего сознания. Но согласитесь, что у меня останется важное преимущество согласованности моего объяснения с внутренним моим опытом.
Профессор. С Вашим, но не с моим.
Автор. Нет, и с Вашим, если только Вы не будете застилать его предвзятыми мнениями и традиционными системами, которые, право же; не лучше, а хуже «авторитета» схоластиков. Вы правы, потребность верить немыслима без причины. Но она как вера не мыслима и без объекта или цели. И эта цель то же самое, что причина. Объект веры, как причина, порождает стремление к нему, как к цели. С самого начала в силу исконной связи своей с моим сознанием он и причина и цель сразу, и воздействие его и стремление к нему зарождаются одновременно вместе с зарождением моего я. Отрицать объективную цель стремления значит не только отвергать, как иллюзию, данные нашего опыта (не давая при том объяснения этой иллюзии), но и предполагать, что какое–то совершенно неизвестное нам и не данное в нашем опыте, а воображаемое стремление…
Профессор. Почему не данное?
Автор. Потому что дано только стремление к воспринимаемой, как объективная, цели. Удивительная у Вас склонность отрицать старую истину – «ex nihilo nil fit»! Вы готовы предположить, что стремление возникает буквально из ничего. Ведь его же нет, абсолютно нет в «предшествующем» ему «состоянии сознания»… Итак, отрицать объективную цель стремления значит воображать несуществующее стремление и предполагать, что оно создает себе иллюзорно–объективную цель. Но зачем стремлению предаваться такому странному занятию, раз оно для своего существования ни в какой цели и ни в каком объекте не нуждается? Я допускаю для Вас возможность только одного выхода. Вы можете сказать: «Мы ничего не знаем и ничего никогда не узнаем». Но не забывайте, что этим Вы отрезаете себя от источника познания, от вопиющего о себе опыта транссубъективности. И уже во всяком случае у Вас нет никакого права навязывать мне будто бы кем–то найденные «категории мышления» и «формы созерцания». Их не нашли, а постулировали ради спасения наук и ценой отказа от единственной важной науки – богословия.
Профессор. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете».
А в т о р. С такими неверами, как Вы, так даже очень холодно.
Профессор. Не всякий обладает мистическим опытом…
Автор. Нет, всякий.
Профессор. Позвольте мне отвечать за самого себя… Впрочем, спорить об этом совершенно бесполезно: ни Вы меня, ни я Вас переубедить не в силах. Продолжайте лучше изложение Вашей мысли, которая, признаюсь, живо меня интересует.
Автор. Все–таки интересует? Я бы не стал продолжать, если бы не был уверен, что Вы, как и всякий скептик, не только сомневаетесь в своем скепсисе, но и чуточку верите или хотите верить. Во всяком случае, я надеюсь на Ваше окончательное обращение. – Для нас, русских, характерно, как Вы сказали, сочетание желания и бессилия верить. Желание веры (я вновь настаиваю на этом) есть уже вера, т. е. некоторое восприятие Истины. А, следовательно, бессилие поверить никоим образом не может относиться к объекту веры, который выше всяких сомнений. Равным образом бессилие поверить не может относиться и к моему стремлению, т. е. желанию верить, потому что оно налицо, и не будь его, не было бы бессилия, которое вместе с желанием и называется сомнением.
Профессор. Должен сказать, что Ваша эквилибристика понятиями мне не очень нравится. Готов воздать должное ее остроумию, но не соглашусь считать ее убедительной. Я никак не могу понять, почему нельзя сомневаться в объекте веры. Ведь именно это мы и признаем сомнением. Кажется, на сей раз и «внутренний опыт» высказывается не в Вашу пользу. Приняв Ваше, мнение придется отвергнуть и существование лжи.
А в т о р. Ее и нет.
Профессор. Да, есть только недостаток Истины.
Автор. Совершенно верно, и Ваш смех несколько преждевременен. Разумеется, сомневаться в объективности своей веры и подобно Вам считать объект ее фантасмою вполне возможно. Странно было бы отрицать это обычное состояние духа. Но, как такая болезнь ни распространена, она не должна нас обманывать. Весь вопрос в том, какова природа этого сомнения. Эмпирически оно существует, но по природе оно не более, как иллюзия. Я могу думать, будто я сомневаюсь в объекте и объективности моей веры. На самом деле, я сомневаюсь не в нем.
– Объект веры не существует только тогда, когда нет желания верить или веры, иначе говоря – он всегда существует.
Профессор. Да, но объектом веры может быть мое субъективное состояние, по той или иной причине полагаемое мною вне меня.
Автор. Конечно.
Профессор. Но в таком случае мы спорим только о словах. Если под объектом веры Вы согласны понимать и мое субъективное состояние, я, пожалуй, готов к Вам присоединиться. Не знаю только, много ли Вы от этого выиграете.








