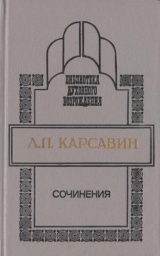
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Лев Карсавин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
Без догмата
1.
Как это ни странно, но русские люди до сих пор чрезвычайно мало думают о смысле русской революции, вернее сказать: совсем не думают. Ведь нельзя же, в самом деле, считать умственною работою наивные попытки применить к русским событиям схемы французской революции с тем, чтобы говорить и гадать о «русском термидоре», о «русском бонапартизме», радоваться, когда удается найти хотя бы отдаленное подобие, и за пределами «похожего» ничего не понимать и не видеть. – Аптекарское занятие! Многие считают его «социологией» и даже наукою. Его бы и совсем отожествили с наукою, если бы не мешали другие схемы.
– Немцы Виндельбанд и Г. Риккерт решили, что история не повторяется, а Риккерт присоединил к этому еще утверждение, будто историческое знание заключается в создании и группировке исторических фактов путем «отнесения к ценности» неопределенного, бесконечно многообразного и бессмысленного эмпирического материала. Придумали даже особое слово: «идиография» (т. е. ‘Описание частного») и, прицепив этот ярлычок к истории, успокоились в сознании своей «научности». Верили, что таким образом нашли смысл истории, хотя на деле ее обессмысливали, ибо смысл оказывался не смыслом самой действительности, а смыслом или, вернее, домыслом и примыслом «историка». Несомненный и никем не отрицаемый факт неразрывной связи познаваемой исторической действительности с познающим ее историком подменили чисто теоретическим и абстрактным построением, именно – ложным утверждением, что познающий создает познавание и познаваемое. На место правильного понимания исторического источника как остатка и пережитка прошлого, более того – как самого этого прошлого, хотя и данного нам стяженно и убледненно, выдвинулись ошибочные понимания его как следа, оставленного прошлым на чем–то ином, или как повода к построению субъективных образов и воображаемых процессов, соответствия коих тому, что действительно было, установить нельзя, ибо данность действительного прошлого заранее отвергается. Вот уж, в самом деле, «бытие определяется сознанием». К сожалению только, скрывающееся за этим хилым, хотя и самолюбивым субъективным сознанием, «бытие» на поверку оказывается совсем не бытием, а ненужным измышлением худосочной мысли. Право, надо благодарить марксистов: они не дают забыть о бытии, упорно твердя, что им определяется сознание.
Итак, можно отметить два главных течения историко–философской мысли: «социологическое» или научно–обобщающее («номотетическое») и научно–индивидуализующее или идиографическое. Оба обессмысливают историческую действительность и исторический процесс; первое – тем, что оставляет вне поля своего рассмотрения все конкретноиндивидуальное и уходит в область абстрактных общих формул, второе же – тем, что отвергает не только «общее», а и самое историческую действительность как таковую, и заменяет ее произволом субъективных построений… «Безжизненная схематичность» и «беспринципный субъективизм»: так можно определить основные пороки обоих течений. При всем том мы не отрицаем, что и в «социологизме» и в «идиографизме» искажаются весьма жизненные тенденции. Смысл и значение этих тенденций вскрыты в нашей «Философии Истории», которая пока остается недоступной большинству современников автора. Но не об этом сейчас речь; и оба направления в данной связи важны для нас лишь как симптомы упадка историзма. По той же причине поучительны и своеобразные их взаимопереплетения. Несомненно, что своею установкою на конкретно–индивидуальное (не своим субъективизмом или своею беспринципностью) идиографизм действительно историчен. Без конкретно–индивидуального, единичного и неповторимого истории нет. Именно потому мы и воспринимаем «исторический» роман Л.Толстого как в величайшей степени неисторическое произведение. У автора «Войны и мира» просто не было органа для восприятия «исторического», т. е. специфичности прошлого, и, может быть, вообще чужого. Напрасно его ученик и подражатель будет помогать делу путем словечек, стилистических закорюк и цитат. Всякая его цитата будет неуместною, хотя бы на волосок, а в этом волоске, в этом неуловимом восприятии специфического весь секрет историка. Не только обширнейшие и точнейшие знания, даже гениальное дарование, как у самого Толстого, не смогут слепого сделать зрячим; и самые подлинные цитаты и точные пересказы будут звучать фальшиво. Я готов выдать тайну такого не–исторического историка–романиста. – Его всегда занимает сходство с настоящим, отожествляемое им с «жизненностью». Если же при этом он еще ушиблен «идиографизмом», – он постарается принять позу скептического созерцателя. Пожалуй, подобная поза лучше, чем изливающийся в форму «исторического» романа метафизический блуд.
Боюсь читательского недоумения и негодования. – Стоит ли говорить о второстепенных и потому не заслуживающих наименования писателях, когда поставлен такой важный вопрос, как историзм? – К сожалению, не только «стоит», а и необходимо. Ведь прежде всего очень симптоматично, что наша литература едва ли может похвалиться подлинно историческим романом, если только не считать «Капитанскую Дочку». Это свидетельствует о длительном отсутствии вкуса к истории и понимания истории, а обилие исторических произведений может лишь содействовать нашему анти-историзму. Не надо преуменьшать воспитательную роль изящной исторической литературы. Не из учебников, «книг для чтения» и университетских курсов приобретаются первые исторические впечатления, а именно из рассказов, повестей и романов. Таким образом, так называемая «историческая» изящная литература является не только симптомом анти–историзма и анти–национализма, но еще и средством их насаждения. Нам здесь существенна лишь симптоматичность факта. И право, перелистав историческую художественную литературу для подростков и взрослых, невольно задаешь себе вопрос: «а есть ли историзм и в специальной исторической литературе? свойственен ли он самим историкам, или же и они так же равнодушны к существу исторического, как и русское общество в целом?» Идиографизм не помог писателям, избиравшим исторические сюжеты, понять, что такое русская история, хотя именно в описании частного ему бы, казалось, и место. Впрочем, они, может быть, только сейчас о нем узнают. Но помог ли он историкам? способствовал ли росту исторического понимания у них? На все эти вопросы, пожалуй, и совсем не ответишь без предварительного определения, хотя бы и самого общего, того, что такое историзм.
2.
Историзм прежде всего определяется чутьем и чуткостью к единственности, неповторимости и специфичности прошлого. Вместе с тем это прошлое воспринимается как нечто из себя самого развивающееся, как обладающее диалектикою своего развития и органически целостное. Оно, далее, не оторвано от окружающего, не отвлечено, а сращено со всем и непрерывно со всем связано, органически продолжаясь в самом настоящем. Можно поэтому исторически воспринимать и понимать и настоящее, которое не лежит за пределами истории. Именно потому у всякого настоящего есть свое прошлое, и один и тот же исторический факт являет разные свои стороны в зависимости от того настоящего, в связи с которым он рассматривается. Ибо всякий факт бесконечно многообразен, заключает в себе бесконечное множество возможностей, которые уясняются и осуществляются лишь в последующем развитии. Этим объясняется исторически–общее, под которым надо разуметь не что–то отвлеченное, замкнутое в себе и в качестве такового повторяющееся, но – некоторый основной факт в раскрытии разных своих возможностей. Таким основным фактом является, например, революция, т. е. процесс перерождения государственности; разные же стороны революции обнаруживаются в революциях английской, французской, русской и тем позволяют понять (но не в отвлеченной формуле выразить) самое революцию, как один из основных фактов. И если социологизм ошибается, отожествляя исторически–общее («основное») с отвлеченно–общим, т. е. уподобляет историческое естественно–научному, то идиографическое направление грешит отрицанием исторически–общего («основного»).
Вникая во внутреннюю связь и связность всех исторических явлений, что ярче всего обнаруживается в упомянутых сейчас «основных» фактах (в исторически–общем), мы понимаем, почему историк усматривает в прошлом не только «корни» или «начала» настоящего, но и само настоящее. Это неизбежно и нужно, однако это становится вредным и неисторическим занятием, как скоро за настоящим в прошлом не усматривается специфичность самого прошлого и задача сводится к отысканию отвлеченно–общих формул. Вполне, с другой стороны, понятно, что полная конкретность немыслима, если остается в пренебрежении момент национальный. Подлинный историзм всегда национален: как в том смысле, что воспринимает развитие культуры в неразрывной связи с развитием наций, так и в том, что он и «всемирную» историю понимает по отношению к народу историка и к миссии этого народа. В отрыве от национальной проблемы историзм вырождается в модное недавно у нас «ретроспективное мечтательство», причем часто в самой национальной истории внимание сосредоточивается не на своем, а на заносном, например – для истории русской – на быте, костюмах и зданиях XVIII в., на успехах европейского просвещения и т. д. Неудивительно, что расцвет историзма всегда связан с подъемом национального самосознания.
Итак, основным признаком историзма является сознание специфично–неповторимого в его связи и единстве с целым, а специфическое необходимо предстает и как национальное. Всего этого, однако, еще мало. Всякое историческое явление укоренено не только в национальном целом и не только в целом человечества, но еще и в сфере абсолютно значимого. Национально–культурное бытие получает смысл и оправдание лишь в том случае, если оно осуществляет абсолютно–ценную миссию; всякий момент развития приобретает смысл лишь чрез связь с этою миссиею. Именно здесь источник учения об исторических идеях, односторонне и суженно выражающего историзм. И здесь же последнее объяснение связи между развитием историзма и развитием национального самосознания. Ибо здоровое и сильное национальное самосознание всегда определяется абсолютно значимыми и абсолютно оправдываемыми идеями, а идеи абсолютно значимые необходимо и историчны. И если подлинный и развитой историзм всегда национален, то и расцвет национального самосознания всегда выражается в некоторой новой историософской концепции. Такая концепция, освещая и осмысляя все прошлое, не является чем–то предопределяющим и роковым, связывающим свободное целеполагание и свободную деятельность. Ведь она осмысляет все прошлое из настоящего и содержит в себе это настоящее со всею его свободною устремленностью к созидаемому им будущему. Момент свободного творчества настолько мощен, что преодолевает даже ложные историософические концепции. Так, революционеры, исповедывающие марксистскую веру и, следовательно, признающие лишь необходимый, незыблемыми законами предопределенный ход развития, не замечают вопиющего противоречия между их верою в необходимость и их свободной деятельностью. Они проникаются пафосом творчества, хотя и мнимого, и воодушевлением борьбы.
3.
Не следует считать историзм качеством, присущим лишь историку–специалисту или даже только достигающим высшего своего развития лишь в историке–специалисте. Занятия историей, конечно, предрасполагают к историзму, но историк может и совершенно им не обладать. В эпохи национального упадка он чаще всего и остается чуждым историзму, увлекаясь социологическими схемами или погружаясь в специальные изыскания, с общими историческими идеями и проблемами не связанные. Собиратель исторических источников, издатель–редактор их, библиограф, архивист и т. п. не обязательно обладают историческим чутьем и, как таковые, еще не вправе притязать на историзм. Даже автор специальной монографии или общего курса не необходимо является историчным, хотя бы он и был превосходным историком–ученым. Все это – банальные истины; но о них приходится настойчиво говорить, так как никто их всерьез не принимает. Именно потому от специалиста–историка ожидают ответов на те вопросы, на которые бы должны и могли отвечать сами. Почтительно склоняются перед его «научностью», не понимая, что «научность» по нынешним временам неизбежно ограничивается узкою специальностью и что всплывающие вопросы шире всякой «научности». Но надеяться в данном случае на специалиста–историка то же самое, что воздерживаться от решения вопросов о бытии Божьем, бессмертии души, нравственно–религиозной деятельности и т. д. в надежде на «авторитетное» решение философа. Оттого–то и случается, что в качестве философа (хотя бы и под иным наименованием) выдвигают Бухарина, а в качестве историка – Рожкова.
Историзм не постоянное свойство народа. Есть эпохи исторические и не–исторические, причем расцвет истории как специфической науки не всегда совпадает с первыми, хотя чаще всего ими обуславливается и за ними следует. Историзм зарождается, когда в народе, т. е. в лучших выразителях его, пробуждается и стремится себя высказать национальное самосознание. Оно находит себя и свой язык в новой историософской концепции, содержащей те идеалы или цели, которые свободно себе ставит народ, и из них осмысляющей его прошлое. Эта концепция – конечно, если она органична и действительно народна, – не прошлое определяет будущим и не будущее прошлым, но раскрывает с большею или меньшею ясностью и полнотою сверхвременный идеал и сверхвременное существо народа. Она выражает природу народа, но природа здесь не необходимость и предопределенность, а сама свободная воля народа, осуществляющая себя во всей его истории. Когда русский человек говорит: «Коммунизм не соответствует духу русского народа» или: «Реставрация императорской России невозможна», он не покорно склоняется перед приятною или неприятною для него необходимостью, а либо думает: «Я вместе с моим народом не хочу коммунизма и реставрации», либо отрекается от своего народа. Конечно, сверх того он может еще и ошибаться (хотя и не в приведенных двух случаях).
Новая историософская концепция естественно увлекает и специалистов–историков. Они начинают ее развивать и обосновывать на историческом материале, устранять неизбежные наивность и недостаточность первой ее формулировки; и, таким образом, историзм проникает в сферу истории–науки. Во всяком случае, новая концепция становится и для специалистов–историков тем центром, около которого начинает обращаться их специальная работа. Они или защищают и раскрывают зародившиеся идеи, или борются с ними во имя других идей, либо во имя беспринципной научности. И долго еще после первой и пламенной идеологической борьбы поставленные ею проблемы остаются средоточием собственно–исторической работы. Так, русская историография до сих пор все еще не исчерпала и до конца не уяснила славянофильской проблемы о смысле реформ Петра.
Автор не хочет умалять значения исторической науки и таким образом ставить себя в положение не помнящего родства. – У исторической науки свой специальные задачи. Ее работа нужна и для историософских построений. Но надо ясно сознавать границы специальности, т. е. не требовать от историка–специалиста, чтобы он обязательно обладал историософским миросозерцанием и являлся высшею апелляционною инстанциею во всех спорах о верности и ценности той или иной историософской концепции. Это не его дело; и это может быть его делом лишь постольку, поскольку он – больше, чем специалист–историк. Если он сам притязает на роль верховного авторитета во имя своей «научности», надо ему напомнить о границах его специальности и деликатно «поставить его на место». Необходимо отделаться от гипноза научности (т. е. всегда – ограниченной специальности), который уже привел к нелепой вере в рефлексологию и марксизм. Отсюда не следует, что кто–нибудь, кроме историка–специалиста, может вполне конкретизировать и обосновать историософскую концепцию и что его критика не имеет существенного значения. Развитие историософии можно определить как борьбу между интуитивной историософией и историческою наукою. Только в процессе этой борьбы и может историософская система приобрести полную ясность и обоснованность.
4.
Первые признаки русской историософии появляются в XVI веке – в послании инока Филофея Василию III, в распространении идеи «Русского Царства» как «Нового Израиля», в целом ряде религиозно–национальных легенд и преданий. Но только в XIX в. у славянофилов русская историософия выходит из мифологической формы и выливается в наукообразную систему идей. Славянофилы выдвинули Православие как само вселенское христианство, и русский народ как преимущественного исповедника и носителя его. Они попытались вскрыть в русском национальном укладе проявление основ Православия, усматривая их в отражающих догму «соборности» своеобразных взаимоотношениях между индивидуумом и целым, между «землею«-народом и властью, в специфичности правосознания, в крестьянском «мире». Тем самым определялось отношение России к инославному Западу; сначала – внутри самой России. Практически эта последняя проблема приняла форму оценки Петровской Реформы, оценки критической, но по замыслу славянофильства совсем не всецело отрицательной, и привела к борьбе с идеологами западной культуры как культуры единственной и универсальной. В аспекте «всеобщей» истории противопоставление России Европе необходимо и естественно вылилось в форму общеисторической концепции, которую набрасывал уже А. С. Хомяков, упрощенно высказал Данилевский и еще более упростил, но вместе и видоизменил и обогатил К. Леонтьев. Православная Россия предстала как особый религиозно–культурный мир со своими особыми задачами и со своею особою общечеловеческою миссией. К несчастью, русское национальное самосознание расплылось у большинства славянофилов в панславизме, главным образом, думаем, потому, что жизненные задачи России были основательно забыты и затемнены европеизовавшеюся империею и единственною точкою приложения для национально–русской политики казался славянский вопрос. Эта ошибка славянофилов, оплодотворившая, впрочем, «славяноведение» (В. И. Ламанский), была исправлена впервые указавшим на значение туранства К. Леонтьевым, все–таки славянофилом, но исправлена для судеб славянофильства слишком поздно.
Русские западники, сами имевшие за душой очень мало своего, да и этим немногим владевшие вопреки своему западничеству, сделали все возможное, чтобы уличить в «неоригинальное «своих врагов – славянофилов. Аргумент, уместный в устах славянофилов, оказался направленным именно против них и притом как упрек, хотя для нападавшего западника он должен бы, казалось, звучать похвалою. В атмосфере инсинуаций и поверхностного зубоскальства появилось и утвердилось даже в учебниках обвинение славянофилов в «шеллингианстве». Но достаточно ли это до сих пор импонирующее обвинение для того, чтобы отрицать национальное существо славянофильской идеи? Во–первых, установление сходства и сродства еще недостаточно для установления зависимости. Во–вторых, нет никакой нужды отрицать гениальность Шеллинга и Гегеля и утверждать, что оба они только заблуждались и фантазировали, а ничего истинного и абсолютно значимого так и не видели. Подобные утверждения совершенно не согласуются с духом историзма. В–третьих, нет вообще ни одного исторического явления, которое бы не стояло в связи с другими, не «влияло» и не испытывало влияний. Весь вопрос не в том, «влияла» ли германская философия на славянофилов, а в том, являются или нет славянофильские идеи, подобно западническим, простым повторением западно–европейских. Отрицательный же ответ на этот вопрос неизбежен.
– Славянофилы отталкивались от немецкого идеализма. В борьбе с ним они усматривали и его правду, и его ошибки, и свои новые и конкретные принципы. Они усваивали методы европейского философствования, но от этого не становились менее оригинальными, чем комбинировавший идеи Декарта и Юма Кант или воспроизводивший мысли Дунса Скота Декарт. Такова была судьба русского самосознания, что оно вынуждено было выражать себя на уже готовом чужом языке, а создание своего языка предоставить будущему. Это ясно понимал не кто иной, как И. В. Киреевский, когда он обращался к изучению святоотеческой литературы.
Как бы то ни было, развитие русской историософии пошло по пути, намеченному славянофилами; и мы затруднились бы найти в русской литературе какую–нибудь ценную историософическую концепцию, кроме славянофильской. И не случайно в период оживления нашего национального самосознания рано умерший русский мыслитель В. Ф. Эрн произнес знаменательные слова: «Время славянофильствует». Нам, конечно, известно применение к истории России теории родового быта. Но разве это историософская концепция, а не внешне прилагаемая к русской истории, и к тому же довольно бледная схема? Можно ли назвать именем историософии искания на Руси феодализма, связанные с именем Павлова–Сильванского, обобщающая книга которого, по справедливому замечанию его учителя и одного из крупнейших русских историков С. Ф. Платонова, «ниже ее автора»? Или «Очерки русской культуры» Милюкова? Или общие обзоры Рожкова и Покровского, который, впрочем, поталантливее Милюкова или Кизеветтера? Вне славянофильского построения не было и нет никакого. Из этого, впрочем, не следует, что славянофильская концепция достигла достаточного развития, получила обоснование и вышла из стадии первичной интуиции. Русская историческая наука уклонилась от того задания, которое поставило перед нею устами славянофилов русское национальное самосознание. Она, конечно, вовлекла в сферу своего рассмотрения отдельные проблемы, выдвинутые ими; но она просто прошла мимо системы их идей, как таковой. Этим мы нисколько не желаем умалить специальные заслуги исторической науки в России. Мы лишь констатируем разрыв между нею и национальным самосознанием, ее самозамыкание в сфере своих специальных интересов. Поэтому мы и не находим в ней синтетического построения. Потому подрастающее поколение, которое настроено национальнее, чем его отцы и деды, должно либо испытывать разочарование, либо хвататься за марксистскую макулатуру.
5.
Здесь невольно всплывает имя В. О. Ключевского. Из двух «общих курсов» Русской Истории, которые должны быть признанными за лучшие, курс С. Ф. Платонова до сих пор остается в форме авторизованных автором записей его лекций и дает наиболее объективное и критическое изложение того, что сделано русскою историческою наукою. Такова цель профессора и автора, не притязающего на историософское построение. Курс В. О. Ключевского, несомненно, уже проникнут синтетическим устремлением. В нем автор хочет дать связную и стройную систему, с первых же «лекций» ограничивая и определяя свою задачу и ясно давая почувствовать ее конструктивность. К тому же и по типу своего исторического мышления Ключевский прежде всего синтетик и конструктивист. Уступая Платонову в четкости мысли и глубине анализа, Ключевский обладал исключительною чуткостью к специфичности прошлого и ярким ощущением исторической стихии. И если он часто отделывался от проблемы красочною, но туманною метафорою или острым словцом, то мало областей русской истории, где бы его необыкновенное историческое чутье не позволило ему показать новые пути или по–новому осветить старые. Влияние Ключевского в русской историографии трудно преувеличить, чему не мешает то, что теперь, после трудов петербургской школы и, главным образом, А. Е. Преснякова, многие существенные для него построения нужно считать ошибочными. Но Ключевский же сумел пробудить интерес к русской истории в широких кругах общества. И тут ему помог его исключительный изобразительно–художественный талант, который сказывался преимущественно в сфере устного слова. Один из лучших русских стилистов, Ключевский отделывал свои лекции до мелочей, но благодаря гениальному дарованию актера умел их повторять из года в год как новые, как только что рождающиеся, и оставлять в слушателях неизгладимое впечатление. Только слабая доля этого впечатления могла быть воспроизведена печатно. С чисто «профессорским» дарованием Ключевского связаны и специфические его недостатки, смягченные автором в редактированных им первых четырех томах «Курса», неприятно–явственные в записях, изданных Я. Л. Барсковым (в V т.).
Мы не хотим здесь касаться Ключевского как историка–ученого. Перед нами другой вопрос, более общий и не менее важный. – Если от кого–либо можно было требовать историософской концепции, так именно от Ключевского. Удовлетворяет ли он нас в этом отношении? дает ли он удовлетворяющий нас ответ на задание русского национального самосознания? Развивает ли славянофильскую систему или противопоставляет ей новую?
В свое время русское общество было неприятно поражено тою оценкою Александра III, которую дал Ключевский. А ныне всякому должно быть ясным, что не общество ошибалось. Очевидно, историк России плохо понимал ее современность. Славянофилы и Ф. И. Тютчев в свое время оценивали Николая I несравненно трезвее. Легко себе представить, какое впечатление на слушателей производили и каким успехом пользовались даваемые Ключевским и частью сохранившиеся в печатном курсе хлесткие характеристики императриц и императоров. Студенты радовались, находя в них «научное» обоснование их революционной ненависти к русскому правительству и осуждение русской современности. Правительство настораживалось и посматривало на популярного профессора с подозрением. Профессор же смешивал науку с публицистикой, часто и совсем неуместной. Нередко он в прошлом критиковал настоящее, и не потому, что знал о чем–то лучшем. К чему эта суммарная характеристика маленьких немецких принцев и принцесс в связи с Екатериной II, характеристика, близкая к шаржу? или ничего не дающая характеристика ее религиозного воспитания? К чему гражданская скорбь в форме варианта Соловьевского изречения по поводу эпохи Алексея Михайловича: «не успели еще завести элементарной школы грамотности, а уже поспешили устроить театральное училище»? Обидно и стыдно сказать, но – лицо крупнейшего русского истори-. ка искажается ехидною улыбочкою поповича–нигилиста.
Все это мелочи, скажут нам, искусные ораторские или лекторские приемы для того, чтобы удержать внимание слушателей. – Не думаю. И случайно ли, является ли только техническим приемом обличительное направление, господствующее в «Курсе»? Мастерски излагая крестьянский вопрос, автор сосредоточивает внимание на ошибках и неудачах правительства и забывает сказать о том, сколько положительного эти ошибки и неудачи все–таки давали. Сопоставьте спокойное и обстоятельное изложение академика Платонова в его новой книге «Москва и Запад» с соответствующими страницами Ключевского. Вам тогда удастся уловить односторонность второго, едва ли искупаемую блеском художественной формы. Право, читателю «Курса» остается непонятным, как могло создаться Московское Государство и как оно могло удержаться и пережить «Смуту», если все было так плохо и грубо. Это не субъективное впечатление. – Сам автор нередко довольно низко оценивает русскую культуру с высоты европейской. Так, он подчеркивает «византийско–церковную черствую обрядность», хотя в лоне этой обрядности росли и жили и Дионисий, и Ртищев, и Неронов, и Аввакум. «Говорят, культура сближает людей, уравнивает общество. У нас было совсем не так» (лекция XL), как будто с горечью замечает автор. Но мы–το знаем, что такое европейское (коммунистическое) уравнение и готовы прибавить: «Слава Богу, что не всегда у нас было так, как в 1918 – 1920–х годах». «Сословия различались не правами, а обязанностями, между ними распределенными». Разве это плохо? разве это хуже, чем трафарет европейского индивидуализма, по меньшей мере столь же одностороннего? Обличая земские соборы с европейско–демократической точки зрения, Ключевский пишет: «Как могли сложиться такие условия, откуда было вырасти таким понятиям на верхневолжском суглинке, столь скупо оборудованном природой и историей»? (л. XL). И он склонен видеть миссию России в том, что мы «спасали европейскую культуру от татарских ударов», «оберегали тыл европейской цивилизации» и несли «сторожевую службу» (ч. III, стр. 191 сл. изд. 1923 г.).
Неужели только в этом наша миссия? – Лестно для русской «жертвенности которая довела русских людей до попытки превратить Россию в опытное поле для коммунизма, но не лестно для нашего национального самосознания. Но верно ли? И не по–разному ли понимаем мы миссию? Для Ключевского «основная задача» местной, т. е. в частности, русской истории сводится к «познанию природы и действия исторических сил в местных сочетаниях общественных элементов» (ч. I, стр. 23). Местная история, по его мнению, – подготовительная стадия для общего социологического построения. Миссия народа кажется ему эпифеноменом национального самосознания, который он наблюдает, не вдаваясь в рассмотрение его смысла и значения (стр. 14). Иногда, правда, слова его звучат несколько иначе (стр. 39), но до признания абсолютного смысла и значения мессианской идеи он никогда не доходит. Да и не может дойти. Ведь он всегда и во всем оставался типичным релативистом, уклоняясь от всяких вопросов об абсолютном. Он, скажут, отличал их от науки. Ну что же? – Тем хуже для науки. Вот один пример – рассуждение в пользу понимания житий святых как поэтического творчества. – «В каждом из нас есть более или менее напряженная потребность духовного творчества, выражающаяся в наклонности обобщать наблюдаемые явления. Человеческий дух тяготится хаотическим разнообразием воспринимаемых им впечатлений, скучает непрерывно льющимся их потоком; они кажутся нам навязчивыми случайностями и нам хочется уложить их в какое–нибудь русло, нами самими очерченное, дать им направление, нами указанное. Этого мы достигаем посредством обобщения конкретных явлений. Обобщение бывает двоякое. Кто эти мелочные, разбитые или разорванные явления объединяет отвлеченною мыслью, сводя их в цельное миросозерцание, про того мы говорим, что он философствует. У кого житейские впечатления охватываются воображением и чувством, складываясь в стройное здание образов или в цельное жизненное настроение, того мы называем поэтом» (Л. XXXIV, ч. II, стр. 312).
Если так, то понятно, почему Ключевский «методологически» сосредоточивается на политических и социально–экономических процессах, относя «идеи» к «области индивидуального», почему он – как, впрочем, и большинство русских историков, – историю духовной культуры из «Курса» своего исключает. Он обращается к ней лишь для того, чтобы дать одну из своих блестящих, но по преимуществу современно–полемических характеристик или чтобы мимоходом объяснить «духовную цельность древнерусского общества» греческим влиянием, а не природою самого этого общества. Но если все влияние, да влияния, – где же само испытывающее влияние? Мы считаем «методологическое» (на самом деле не только методологическое) самоограничение Ключевского «понятным». – Взятая сама по себе сфера социально–экономических отношений – преимущественная сфера всяческого релативизма. А что касается до сферы политической, так автор берет ее вне ее абсолютных оснований, суживает ее до проблемы внешней организации власти и к идее государственности чувствителен менее, чем Карамзин.








