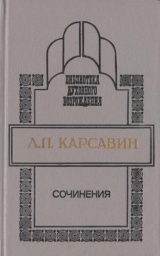
Текст книги "Сочинения"
Автор книги: Лев Карсавин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
В приятии русскою душою мира ей не свойственно такое погружение в эмпирию и такое ограничение себя ею, какие мы наблюдаем на Западе, частью в той же Германии, но особенно в романских странах. Эмпирия для нас не может быть самоцелью, хотя иногда метафизический идеал и скрывается за формулами позитивически понимаемого прогресса. И в этом корень нашей неприязни к западному «мещанству», столь остро почувствованному и выраженному Герценом.
Так указанные нами основные черты русского национального характера позволяют его определить и в смысле отличения его от других культур.
4. Мы говорим о «русской душе», «русском национальном характере» и т. д. Что это за «душа», что за «характер»? Кто является «субъектом» всех этих «русских» чувств, стремлений, идей? – «Русский народ»? – Но тогда входят ли в его понятие поляки, латыши, литовцы и другие «инородцы»? – Не развивая и не обосновывая здесь в полной мере своей точки зрения, ограничиваюсь немногими догматически высказываемыми утверждениями. – Русский народ есть субъект русской культуры, в частности, русской государственности. Он – единая и целостная личность, однако личность реальная только во всех своих конкретных индивидуализациях, каковыми являются и все носители индивидуализирующих и выражающих всерусскую культуру культур, все, если угодно, «народности», входившие, входящие и ожидаемые к вхождению в состав этой культуры. Многие из этих «личностей второго порядка» прежде обладали некоторою самобытностью, своею культурой и только потом растворились в единстве народа русского, перестав быть личностью и не став новою в индивидуализации русского. Многие сохранили нечто свое, частично освоив русское и частично отдав себя. Иные стали или станут еще личностями в смысле индивидуализации именно русской культуры или самоопределятся в противопоставлении ей. Но до известной степени и в известный период времени все они – индивидуализации или моменты многоединой русской индивидуальности. Субъект русской культуры вполне реален только в единстве всех своих временных и пространственных обнаружений. Эмпирически он выражен всегда неполно: то как первичный носитель и выразитель своей культурной идеи в себе самом и даже в одном ограниченном своем осуществлении, например: в великорусской народности, то как перерабатывающий в себя и свое чужое, то как отражающий в чужом свое. И в данную историческую эпоху всегда возможно указать некоторую «центральную» индивидуализацию его, вокруг которой располагаются остальные. Такою центральною индивидуализациею за 600 – 500 лет новой нашей истории была великорусская народность, творящая православную и национальную культуру, осваивающая и перерабатывающая в себе другие культуры и в них отражающаяся, поскольку они, как, например, польская, сохраняют рядом с ней некоторую свою самобытность. Во всяком случае, признанием за великорусской народностью первенствующего и руководящего значения нисколько не исключается тот факт, что другие народности осуществляют и выражают культурные потенции России по–иному: так, как они не могут быть осуществлены и выражены великорусскою. Напротив, эти другие народности должны раскрывать русскую идею каждая по–своему, причем некоторые обладают еще и своими истоками.
Признавая первенствующее положение великорусской индивидуализации многоединой русской культуры, я, естественно сосредоточиваю свое внимание именно на ней; Но само собой разумеется, что, считая общерусскую культуру только отвлеченным понятием (она реальна лишь, как многоединство своих индивидуализаций), я и каждую индивидуализацию (в том числе и великорусскую) понимаю как некоторое более ограниченное многоединство: и она реальна лишь во всеединстве своих индивидуализаций вплоть до единственной конкретной реальности – индивидуума. Однако, в целях исследования, я конечно, должен пользоваться отвлеченными понятиями и терминами: говорить не о том, другом, третьем русском человеке, а о русском человеке вообще. На это у меня не меньше права, чем у любого психолога или экономиста, до сих пор еще не расставшегося с Робинсоном.
Исходя из понятия всеединой души, тем самым я получаю право рассматривать культуру и культурную жизнь как некоторое целое, а не дробить ее на «ряды», «явления» или» элементы», всегда определяемые условно и поставляемые друг с другом в причинную связь (при невозможности эксперимента и условности их выделения) хуже, чем гипотетически. Всякое противопоставление общественной жизни политической, экономической или духовной условно, фиктивно и, несмотря на известную методическую его полезность, неправильно. Ни о какой причинной взаимозависимости, ни о каких «факторах» здесь не может быть и речи.
– Всеединая душа одинаково может выразить себя и в экономике, и в «духовной культуре», и в материальном быту. Судить о ней можно по любой из этих индивидуализаций (на этот раз не индивидуальностях–личностях, а их актах), и дело исследователя выбрать наиболее для него удобную. Я, как ясно из всего сказанного, такою индивидуализацией избираю религиозность.
Религиозно то, что относится к абсолютному. Но такое определение еще недостаточно, ибо вне абсолютного нет ничего, и само понятие индивидуализации всеединства требует допущения по крайней мере возможности того, что во всяком явлении культуры есть и религиозный момент, т. е. что всякое явление религиозно. Поэтому к относимости и отнесенности к абсолютному, как первому признаку религиозного, необходимо присоединить другой – направленность души на абсолютное, хотя бы такая направленность и не всегда отчетливо сознавалась. Ее нет в современной западной культуре, или, если и есть, то до последнего времени в малой степени. Потому–то и можно противопоставлять западную культуру в ее целом западной религиозности, что недопустимо в применении к русской религиозности и культуре, хотя ее нигилистические и атеистические течения, на первый взгляд, говорят об ином. – Русская культура по существу своему религиозна: в этом ее differentia specifica, позволяющая аналогизировать ей западную только до XIII – XVI века.
5. По православно–русскому сознанию все относится к абсолютному, все с ним связано, и не только связано: все – не что иное, как обнаружение абсолютного или Богоявления, теофания. Поэтому Божественен космос, что постигли уже эллины, умозрения которых бережно хранимы в восточной Церкви, Божественны народ, общество, государство, Божественна всякая человеческая жизнь и деятельность. Не создания князя мира сего, не создания Божьи, возникшие только для упорядочения расстроенного грехом бытия, общества и государства, не создания они людей, от Бога отъединенных. Нет, они Божественны в самой основе своей, хотя, конечно, по греховности осуществляющих в себе их людей и недостаточно Божественны. И естественно, что отношение к ним двойственно, колеблясь в пределах от полного и безоговорочного приятия (когда забывается их недостаточность) до полного же и решительного отрицания (когда забывается их Божественность).
Чтобы понять это, необходимо уяснить смысл теофании.
– Теофания – само Божество, но не в Себе и не в полноте и неизменности Своей. Теофания всегда – некоторая умаленность Божества, большая или меньшая, а, следовательно, имеющая начало и конец, т. е. тварное. Само Божество не может умаляться и делиться. Оно выше изменения, Оно все во всякой своей теофании, – все они и каждая из них. Теофания существует только в твари, которая вне теофании – ничто. Таким образом, теофания есть само Божество, поскольку Оно являет Себя в своей твари, т. е. творит, создает ее, и поскольку тварь свободно Его приемлет. Будучи одним действием, теофания есть действие двух субъектов: Бога и твари, существующей только в свободном приятии ею созидающего ее Бога. Поэтому неправильно отвергать ее, как нечто самобытное и Богу противостоящее; но правильно бороться с ее неполнотой или недостаточностью, т. е. развивать и восполнять ее, «эмпирическое», «это эмпирическое». Свойственное болезненному состоянию русской души решительное и полное отрицание эмпирии находит себе объяснение в недопонимании выясненной нами сейчас идеи, смутное восприятие которой и ведет к тому, что эмпирия отрицается не равнодушно, как на Востоке, не во имя ухода из нее, но во имя лучшего, идеального, если не абсолютного по существу, то абсолютируемого. Само разрушение в этой связи нередко понимается как создание и преображение сущего.
Как бы то ни было, для русской души все Божественно. Поэтому разделение светского и религиозного для нас прямо непонятно: недаром даже большевики не сумели удержаться на позиции отделения Церкви от государства, не говоря уже о том, что большевистский коммунизм тоже своего рода религия (см. 6). Если же единство религиозного есть Церковь, то церковно все: и мир, и государство, и личная жизнь, и быт. Нет в человеческой культуре ничего, что бы в существе своем не было церковным, хотя все и не вполне церковно; нет ничего преходящего, гибнущего, ибо церковное всевременно, вечно. Здесь более чем где бы то ни было, необходимо отличать церковную полноту Богобытия от бытия эмпирического. Церковь – идеал эмпирии, однако такой идеал, что он для Божества и в Божестве исконно и вечно сразу и – ставится и осуществлен, а для эмпирической действительности, как ограниченного в себе и для себя момента Богобытия, только осуществляется, становясь и исчезая. Истинная Церковь есть мир, всецело причастный Богу, Его всего в себя приемлющий и приявший, Им всецело обоженный в человеке. В истинной Церкви осуществлена и всеедина вся множественность эмпирического бытия, т. е. каждый момент его в ней достиг полноты своего раскрытия, став всеми другими и всем, не переставая быть и собой. Церковь истинная – совершенное тело Христово, единое со Христом Богом, когда «всяческое и во всяческом Христос». Она составляет с Ним нераздельно-неслиянное двуединство, и сама – совершенное, всевременное и всепространственное единство всего во Христе.
Истинная совершенная Церковь не противостоит эмпирии как нечто отдельное и особое, как некая сущность или сила. Она содержит в себе эмпирию как свой момент, и выражает себя в каждом ее моменте. Но именно в качестве момента Церкви эмпирия недостаточна, не обладая ни полнотою развития каждого из своих моментов, ни всею их множественностью, ни всем их единством. Она временна и пространственна, т. е. ограниченно–всевременна и ограниченно–всепространственна. В эмпирии Церковь выражается неполно и несовершенно, хотя выражается сама она и только она, а не что–то иное. Всеединая Церковь живет в стихийном «бессознательном» стремлении всего сущего к Благу: к бытию, жизни, самоутверждению и отдаче себя другому и Богу, к смерти. Она живет в стремлении человечества воплотить идеальное, идеально устроить общественную и государственную жизнь, усовершить их, познать мир в отношении его к Богу и как Божественное в культурной деятельности, в религиозно–философских исканиях. В эмпирической разъединенности, во времени и пространстве Церковь не в состоянии сохранить полноту свою и определяет себя как стремление к абсолютному, т. е. как религиозную жизнь и религиозное познание, в невольном противопоставлении этого стремления чисто–эмпирической, т. е. неопознанно–церковной деятельности, тем самым себя ограничивая. Таким образом, религиозное предстает как часть мира, не отделимая, однако, от нерелигиозного ясною и неподвижною границей, но словно постепенно сходящее на нет в нерелигиозном. Равно и церковное, т. е. религиозное в связи со Христом, неуловимо переходит в религиозное вообще и мирское. Поэтому видимая церковь не выражает собой в своей видимости Церкви истинной, прорастающей в мире как зерно, пронизывающей его как закваска. Истинная Христова Церковь видима только частично по внешнему исповеданию Христовой Веры, по видимой иерархии и видимым таинствам; да и в качестве видимой, она разъединена.
По католическому учению Христос установил церковь земную, и, согласно словам кардинала Беллармина, столь же видимую как государство Венецианское, в смысле и форме иерархического общества, т. е. единства многих, стремящихся соединенными усилиями к общей цели, к спасению. Притом католик склонен понимать спасение не в смысле преображения всего мира, а в смысле одинакового для всех индивидуумов, хотя и разного по степени состояния. Во главе этого иерархического общества Христос поставил двенадцать апостолов, передав им власть учить, править и освящать верующих. Наследниками апостолов являются епископы, подчиненные князю апостолов Петру в лице его преемника – Римского Папы. Католическое учение о церкви увлекает своею стройностью, продуманностью и отчетливостью, но в этом и заключается главный его недостаток. Католическая церковь – совершенное монархическое государство, живущее по строго–определенным законам, управляемое по точному их смыслу дисциплинированною, подчиненною самодержцу–папе – иерархиею. Церковь Римская создана по образцу земному, не случайно в течение долгого времени связанная с земной территорией – папским государством. Она по самой определенности своей противостоит прочим церквам и государствам, отсекая себя от полноты единства с ними в глубинах Церкви Истинной.
Римская церковь выделяется из мира, как часть мира, и резко от всего прочего отграничивается. Можно по–разному понимать и оценивать государство земное, считать его по происхождению своему дьявольским или тоже благоустановленным, как учит католичество ныне, но противопоставление себя государству для католической церкви необходимо и неизбежно, как неизбежно и то, что это противопоставление превращается в противопоставление одного государства другому. – И духовная и светская власть одинаково от Бога, и обе по–своему святы, учит современное католичество, но цели обеих различны. Светская власть устрояет и охраняет благо временное (bonum temporale), условное, определяя политические, общественные и частные права граждан; церковная полагает свою цель в спасении (salus animarum). Очевидно, такое разделение областей властвования заставляет предполагать, что не все церковно и что нецерковное, в лучшем случае, временно, преходит. Оно противостоит церковному, как иное, и естественно возникает проблема взаимоотношения между обеими властями. Каждая, говорит католичество, в своем роде есть власть величайшая, что уже предполагает определенную различенность «родов». Но раз ни одна из двух властей от другой не зависит, необходим дружественный союз их, причем вполне по образцу земных союзов должны быть оговорены и действительно оговариваются права и обязанности обеих. Если же так, то неизбежно самоограничение церкви в ее деятельности, отказ от земного, для нас необходимого, и, с другой стороны: «communio lucis cum tenebris».
С умыслом остановился я на католическом учении о церкви. – Оно неприемлемо для православного сознания в самой основе своей, – в принципиальном отделении религиозного и христианского от нерелигиозного и нехристианского, церковного от нецерковного. Для нас, православных, все мирское и, в частности, светская власть, не временное, вырванное греховностью челоловечества учреждение: она столь же необходима в мире, как и власть церковная. В идеале своем и существе светская власть не вне церкви: она такая же церковная власть, как и власть иерархии. И священство и «царство» одинаково необходимы в Церкви Христовой. У них различные цели и различные сферы действия, но эти цели и сферы не разграничены ни юридически, ни конкретно, ибо всякое явление и церковно и государственно. Такие акты светской власти как война, наказание, принуждение, вовсе не лежат вне сферы церковной. И равным образом царь, как блюститель жизненной правды, не может стоять в стороне от теоретического ее выяснения – от догматического творчества Церкви. Это ведь право и обязанность всякого христианина, только в католичестве низводимого на степень законопослушного раба, тем более обязанность того, кто поставлен над всеми и всем и, в качестве Помазанника Божьего, истину осуществляет. Но как же тогда согласовать деятельность обеих властей, сталкивающихся и переплетающихся во всем решительно? – Во всеединой истинной Церкви, в идеале, требуемое согласие достигается само собой. «Когда священство непорочно, а царство пользуется лишь законною властью» – говорит еще Юстиниан – «между ними будет доброе согласие». В самом деле, если царь и священство выражают вселенскую истину, как они могут прийти в противоречие друг с другом? Царь так же свят, как и архиерей. «Он равночестен Богу. За исключением священнодействий василевс обладает всеми преимуществами епископа», и – «Я царь и я иерей», заявляет в VIII веке Лев III Исавр.
Таково идеальное взаимоотношение обеих властей. На деле можно говорить лишь о том либо ином приближении к нему, когда практически поневоле приходится искать компромиссных решений в духе, хотя бы, католического. Однако и в этих случаях «внецерковность» государственной власти не приобретает абсолютного значения; напротив, за царскою властью сохраняется и церковный смысл, церковное значение: царь является главою христианского мира. Мир не отделяется от Церкви искусственно воздвигаемою перегородкою и не может быть и мысли об отделении церкви от государства. Все входит в церковь и отделить церковь от государства для русского народа то же самое, что сделать государство церковью (например – коммунистическою, хотя бы со Христом во главе «Двенадцати») или создать взамен ее советскую церковь, так называемую «живую».
Всем этим объясняется специфическая связь русской, а еще ранее византийской церкви с государством. И вполне естественно, что византийские василевсы, а частью и русские цари вмешивались в церковно–догматические споры и церковную жизнь. Петр, заменяя патриаршество синодом на немецкий манер, формально продолжал традицию русских самодержцев, и его реформа была не чем иным, как покушением русской церкви на самоубийство. Теперь, часть русской, по существу – отмершая и мертвая (потому–то она и старается уверить себя и других в том, что она «живая»), пытается санкционировать дело Петра и взывает о помощи к его преемникам. Но не следует объяснять законопослушность русского духовенства только сервилизмом, хотя в нем недостатка не было и нет. – Как понятно из сказанного, катастрофа русской государственности была катастрофой и для русской церкви, и, если уничтожение патриаршества представляется началом разложения царства, разложение царства – начало окончательного распада синодской церкви. Насильственно отделенная от государства, церковь по природе своей не может замкнуться в отведенную ей уместными лишь на Западе законами сферу. Она жаждет полноты деятельности. И вот из нее подъемлются националистические государственные течения, по современной российской терминологии «контрреволюционные», и церковь, как в пору Смуты, становится последним убежищем национальных идеалов. Эти течения ничтожны, выразились лишь на окраинах и за рубежом, не отличаясь особою активностью. В пределах Советской России они просто выдуманы. Поскольку они прибегают к мечу и огню, они перестают быть церковными, поглощаются политическими, и не в них жизнь русской церкви. Рядом с ними из церкви же исходят течения, направляющиеся к совместной работе даже с коммунистической властью. Несмотря на всю их противоестественность – что общего у Христа с Велиалом?
– сводить их к одним эгоистическим расчетам отдельных групп и лиц нельзя. В них есть свой пафос, сознание необходимости для церкви всесторонней деятельности и какой–то правды, усматриваемой, если не в идеале, то в мотивах коммунизма (2). Но и эти течения, благодаря поддержке со стороны власти могущие временно и видимо восторжествовать, в истоках своих опорочены мелкими людьми и гнусными средствами. Они мертвы, потому что отрекаются от Христа, ибо иначе как–отречением от Христа нельзя признать исповедание социализма, покоющегося на классовой борьбе и атеизме. В большинстве своем и в основе своей Русская Церковь занимала и занимает иную позицию. – Она не может принять отделения церкви от государства, не может признать первенства материальных интересов над духовными и религиозными и классовой борьбы коммунизма. Но она не может бороться против насилия насилием же и обманом. Единственный для нее возможный путь заключается в следующем. – Повинуясь «властям предержащим», она лояльно выполняет те требования «безбожного» государства, которые не противоречат учению Христову. Не препятствует активно противоречащим ему, ибо это значило бы прибегать к насилию или обману, но сама их не выполняет, отрицая их своим от всякого содействия им устранением и, если необходимо, ставя себя в положение церкви гонимой, молчанием и мучиничеством исповедуя Христово учение. Это не борьба и даже не пассивное сопротивление – ведь нельзя же считать сопротивлением мой отказ проповедовать социализм, в который я не верю. Это – вынужденное, безмолвно осуждающее бездействие в том, что не от Христа, а от антихриста. Это верное следование учению Учителя, безмолвием отвечавшего на обвинения и нападки.
Таков путь Православия в переживаемые нами тяжелые годы. И я утверждаю, что Русская Церковь в общем и целом шла и идет по нему. Ее можно обвинять, но никак не в активной контрреволюции, а только в недостаточной ясности поведения, в уступчивости, в готовности удовлетворяться компромиссами, в слабости (11, 12). Может быть, она виновна еще в том, что слаба она верою, что готова иногда допустить, будто «врата Адовы» могут одолеть Церковь Божию, и склонна пойти по пути приспособления. Сейчас она на грани утраты ею своей видимости. – Законной канонической иерархии почти уже нет. Возглавляемый патриархом епископат насильственно отъединен от священства и мирян, другая часть епископата сама лишила себя сана и способности к благодатному действованию посягновением на права патриарха, третья часть занимает промежуточное положение, по необходимости недоговоренное. Священство также в массе совлекает с себя сан и отпадает от Церкви, признавая «Временное Церковное Управление». Истинная православная Церковь разъединена на небольшие группы священников и мирян, не изменивших ей, и на единицы, лишенные видимого благодатного общения друг с другом и Христом. Каковы будущие судьбы этой единой истинной Церкви, сказать нельзя. Но в разъединении и рассеянии все члены ее могут, наконец, внутренно и глубоко пережить и Христову истину и самое Церковь, осознать ее идею, которая вместе с тем есть и русская идея. В них, в невидимом их единстве последний оплот русской веры и русской национальности, которые будут существовать лишь в той мере, в какой они его сохранят. Так в свое время сохранила себя Россия за стенами Троице–Сергиевской Лавры у мощей преподобного Сергия.
Есть еще один вопрос, тесно связанный с отношением Православия к государству, – вопрос об отношении его к самодержавию. Как сейчас показано, православие не может быть равнодушным к государственной жизни и деятельности, а, следовательно, и к той либо иной форме государственности. Но помимо всякой веры и всяких религиозных убеждений, лучшею формою политического бытия является монархия, и монархия не конституционная, не сословная, а именно самодержавная. В ней не должно быть засилия какого–нибудь сословия или класса, чем грешила русская императорская власть, но что представляется неизбежным только тому, кто верит, будто борьбою классов исчерпывается историческая действительность. Но в ней не должно быть и рационалистических выдумок, создавшихся на почве искаженного понимания английского государственного строя, которое исказило его самого и известно под именем парламентаризма. Однако всем этим не исключается, а напротив, требуется и оправдывается, как земское самоуправление, так и органически из него вырастающее общее представительство, отношение которого к самодержцу по существу не укладывается в формулы ограниченной или конституционной монархии, исторически, вероятно неизбежные.
Итак, будучи органически связанною с государственностью, церковь русская, конечно, может желать только наилучшей ее формы, т. е. самодержавия. А оно обусловлено еще и религиозным значением самодержца. Русскому народу нужен не только «хозяин», но, поскольку этот народ не отрекся от своего идеала, и Православный Царь, глава христианского мира. Но, очевидно, главою христианского мира может быть только один человек, ибо вселенский собор по самой природе своей не может стать учреждением постоянным. Вселенский собор, как и вселенский патриарх нужны в церкви, но не в отмену, а в восполнение самодержца, не вместо него, а рядом с ним (ср. 7).
Трагедия русской истории в том, что в России или царь без патриарха, или патриарх без царя. Но церковь в качестве церкви не может и не должна реформировать политический или общественный строй. Она должна ждать реформы «мира» от самого мира и только указывать ему истину. Она вынуждена ждать, лишенная значительной и необходимой для нее сферы деятельности, лишенная возможности объединять православный мир и распространять православие. Вероятно, «мир» разрешит проблему своими средствами и не так, как считает правильным церковь. Чем дальше его решение будет отстоять от идеального, тем труднее будет церкви действовать и жить (cp. ll).
6. Итак, православная церковь, поскольку она опознается русским человеком, не представляется чем–то отделенным от государственности и общественности: она в идеале проявляет свою деятельность и в них, их в себе содержит, являясь моментом Церкви в высшем смысле, Церкви, выражающейся и в государственности. Но она связана именно с этою конкретною, русскою государственностью, будучи не только православною, а и русскою церковью. И тем не менее она считает себя вселенскою. Как объяснить это видимое противоречие?
Возможны два понимания кафоличности или вселенскости. Первое ярче всего обнаруживается в католицизме и социализме, второе хранимо православием. – Вселенское или универсальное, рассуждает католичество, охватывает, в идеале, по крайней мере, все. Поэтому универсально то, что находится во всякой вещи и универсальное равнозначно общему в смысле отвлеченно–общего, ибо западная мысль по природе номиналистична, не приемлет никакого имяславия. При отождествлении же вселенского с отвлеченно–общим, вселенская церковь, поскольку она выражена уже, скажем, в католичестве, может стать актуально–вселенской, а не, как сейчас, только потенциально–вселенскою, лишь в том случае, если все иные» церкви» по содержанию своему с нею отожествятся. Но тогда не должно между ними быть никакого различия, ибо различающее и отличное не универсально. С этой точки зрения, вселенская церковь – нечто вроде интернационала, идея которого не случайно появилась на Западе, по существу будучи лишь одним из определений католической идеи. – Для вселенской церкви как таковой не может быть национальных церквей: все национальное не религиозно, не абсолютно, не существенно. Слагающие вселенскую церковь церкви для католического понимания являются однородными атомами, а относительная самостоятельность их ничем не оправданною, случайной и подлежащею отмене. Поэтому–то для католицизма и неприемлемы такие явления как галликанство, униатство, «католичество восточного обряда», терпимое лишь до поры до времени, национальный язык в Богослужении, и т. д. Поэтому и в Польше католичество национализировалось только вопреки своей природе, а вообще на Западе проблема национальности не связана с проблемой исповедания. То же самое наблюдается и в продукте католического вырождения – в социализме, с его интернационалом, с его практическим и теоретическим отрицанием всего национального. И становясь «церковью», социализм выражает идею отвлеченного единства в общей, обязательной для всех догме, в священном писании – «Капитале» – и катехизисе – «коммунистическом манифесте», в общих приемах интерпретации и комментирования, аналогичных аллегорической экзегезе, в разделении всех «товарищей» или «камрадов» на мирян или просто–товарищей и духовенство или «сознательных», со спецификацией вторых по степеням агитаторов, организаторов, ораторов, председателей и вождей, среди которых выдвигается несколько кандидатов на роль непогрешимого папы. Интернациональное единство сказывается в общем однородном типе организации – в митингах и съездах, своего рода поместных и вселенских соборах, на коих дела решаются не по большинству голосов, а по благодати, выражаемой руководящей группою, – «pars concilii sanior», в «комитетах» и вселенских празднествах. За общими догмами, называемыми «научным социализмом», организацией и дисциплиной, за начатками общего обряда, культа, следует общая, так называемая партийная или пролетарская этика, намечается новая псевдонация; и международный социализм неожиданно обнаруживает природное родство с другим продуктом упадка религиозности, – с современным иудаизмом.
Православное сознание понимает вселенскую церковь иначе, хотя надо сознаться, это понимание и не высказано им с достаточною полнотою и ясностью. Для него вселенская церковь – тело Христово, живой организм. Но организм не создается путем сложения однородных атомов или путем сложения с ними чего–то отвлеченно–общего, как, с другой стороны, он на однородные атомы и не разложим. Организм не мыслим без органов, из которых у каждого своя задача и своя функция и каждый является единственным, другими незаменимым. Поэтому вселенская церковь и мыслима только как система или гармоническое единство местных, национальных или объединяющих несколько национальностей либо разделяющих органически одну какую–нибудь национальность церквей. Во вселенской церкви не должно быть недостаточности церквей эмпирических, но должна сохраняться абсолютно ценная и неповторимая другими индивидуальность каждой из них. Всякая церковь, как бы мала она ни была, хотя бы «церковь домашняя», есть союз или иначе единство любви, составляемый входящими в нее и своими отличностями восполняющими друг друга индивидуальностями. Так и вселенская церковь – единство любви, составляемое взаимодополняющими друг друга высшими личностями или индивидуальностями, церквами поместными. Вселенская церковь объединяет многоразличное в единое тело. Подобно ей и поместная живет началом, объединяющим и созидающим единый организм – царство ромеев, царство русское и т. д.
Вселенская Церковь, мы уже знаем это, – есть всеединство. Следовательно, она не существует без множества своих индивидуализаций и существует как единство их всех. Она вся в каждой своей индивидуализации, которая таким образом содержит в себе все прочие, раскрывая их в себе и из себя, и содержится во всех и каждой из прочих, всецело в них растворяясь. Церковь как бы целиком выражает себя сначала в «этой» индивидуализации (поместной церкви), потом, переставая быть ею, в другой, потом столь же всецело становится третьей и т. д. Однако в ней, как во всеединстве, всевременном и всепространственном. нет «сначала» и «потом», «здесь» и «там». Каждая индивидуализация ее сразу и «есть» в ней и «не есть», и созидается – и создана (создала себя) – и погибает – и воскресает. В идеале каждая должна в особой качественности своей явить все индивидуализуемое другими, т. е. всех их принять в себя и как бы поглотить, а ради их и индивидуализации самого всеединства всецело всю себя им отдать. Таким образом полнота самоутверждения оказывается необходимым условием полноты самоотдачи и обратно, в чем и выражается закон Любви. Отсюда следует, что каждая церковь должна быть вселенскою и перестать быть, должна жить – умереть – воскреснуть. Но в эмпирии должное не выполняется, оставляя завершение иной, высшей сфере бытия: то, что должна эмпирически осуществить данная церковь, не осуществляется вполне ею, а частично осуществляется за нее другими, хотя и могло бы быть ею самой осуществлено при полноте ее усилия. Эмпирически мы не наблюдаем приятия данною церковью всего явленного другими: многое остается для нее только знаемым, многое даже непонятным. Точно так же нет эмпирически и полноты самообнаружения. Не приемля всего чужого, данная церковь не осуществляет и всего своего: многое в иной индивидуализации осуществляется за нее другими. Сверх того и приемлет и осуществляет она разъединенно, как бы по частям и отрывочно. В этом смысле ни в один из моментов эмпирии не достигается полнота всеединства, а следовательно не достигается она и в целостности эмпирии, как всецелость множественности и единства истинной Церкви. Отсюда – необходимость в инобытии восполнения эмпирии и искупления вины эмпирической церкви. В инобытии же, для которого это бытие – его момент, всеединство выражено в усовершенности и единстве всех частных его обнаружений, не погибших, а, с точки зрения эмпирии, преображенных и восполненных. В усовершенности всеединства Церковь есть единство самодержавной священнической власти, временно и искаженно выраженной эмпирически папством, с единством соборного согласия всех членов Церкви, и с единством власти царской, гармонично сопряженной с соборною (в качестве частных и урезанных проявлений которой я рассматриваю и власть «представительных учреждений») и «папскою». Эти три формы единства несогласуемы лишь в ограниченном эмпирическом бытии, «на земле», в силу ограниченной самоутвержденности каждой. И неприемлемо православному вселенскому сознанию папство именно потому, что оно отрицает религиозное значение царства и понимает первенство части, ему принадлежащее, как господствование над вселенским собором и земную власть.








