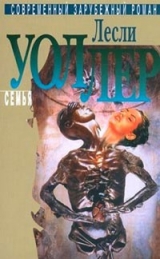
Текст книги "Семья"
Автор книги: Лесли Уоллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
Но Розали нравилась Китти. Ей нравился Док. Она желала калеку Честера, ей нравился Фестас. Больше всего она обожала Мэта Диллона. Она уже давно для себя решила, что бы там между ними ни происходило, именно такая резкая женщина, как Китти, – пара Мэту Диллону.
В девять тридцать зазвонил телефон. Предполагая, что это полиция, Розали поспешила через гостиную в кухню к телефонному аппарату.
– Слушаю? – спросила она напряженным высоким голосом. – Это говорит миссис Фискетти.
– Ни за что не поверил бы, – сказал Бен.
– С тобой все в порядке?
– Вроде все. – Он помолчал немного. – Я в ЮБТК, дорогая. Они приглашают на обед, не волнуйся, хотя это и поздно.
– Хорошо.
– Я думаю, что он закончится только после полуночи.
– Хорошо, – повторила она. – В одиннадцатичасовом фильме будет играть Софи Лорен.
– Боюсь, что будет слишком поздно, – продолжал Бен. – Лучше мне остаться сегодня в городе, любимая. Хорошо?
– Остаться?
– В городе.
– С кем?
Бен помолчал.
– В отеле, любимая.
– Тебя может приютить папа.
– Мне не хотелось бы беспокоить его так поздно, дорогая.
– Никакого беспокойства. Он же член нашей семьи. Я позвоню и скажу, чтобы он тебя ждал.
– Нет, – возразил Бен. – Я сам позвоню ему. А ты отправляйся спать, малышка.
– Хорошо. Ты помнишь папин номер? Его ведь не найдешь в телефонной книге.
– Ты моя телефонная книга, – пошутил Бен.
– Если его не будет дома, скажи горничной Аннансиате, чтобы она приготовила тебе комнату для гостей на втором этаже. Это моя бывшая комната.
– Si, bambina.[29] Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, Бен. Бен!
Но Бен уже повесил трубку.
Розали медленно вернулась в гостиную. Она сбросила домашние туфли без задника на высоких каблуках и села в кресло напротив телевизора, вытянув ноги на ковре. Она какое-то время смотрела фильм, потом внезапно встала и выключила телевизор. Вот так.
Она медленно вернулась в столовую и стала убирать приборы со стола, и только тут поняла, что никогда раньше не делала ничего подобного, во всяком случае, она не могла припомнить, чтобы она выключила телевизор в середине программы. Ее родители делали это лишь в тех случаях, когда она или Селия отказывались готовить уроки. Она могла бы переключить телевизор на другую программу. Но никогда раньше, за все те годы, что Розали просидела перед экраном телевизора, сама она не выключала его, не досмотрев программу до конца.
Она нервно оглянулась на телевизор, который стоял в соседней комнате, будто ее сердитый взгляд на слепой экран мог привести ее в чувство. Потом она нервно засмеялась сама над собой, собрала со стола тарелки и серебро и пошла на кухню.
Миссис Трафиканти в пятницу вечером убирала все очень тщательно. Вокруг было чисто и аккуратно. Она не работала по субботам и воскресеньям, и Розали всегда старалась, чтобы в понедельник утром кухня была такой же, какой ее оставила миссис Трафиканти.
Она вынула жаркое из плиты и понюхала его. Оно было приготовлено в английском стиле, постное, не сильно соленое, сверху слегка помазанное горчицей. Теперь оно перестоялось, остыло. Розали отрезала три кусочка, остальное сунула в огромный двухкамерный холодильник.
Ее короткие пухлые пальчики работали автоматически. Она поставила на огонь сковородку, положила масло, порезала маленькую луковицу, добавила зеленого перца и чеснока. Она помешивала смесь, пока та не стала золотистой, потом порезала мясо на мелкие кусочки и, все это перемешав, тушила минут десять. Она принесла тарелку, села на высокий стул.
«Три сотни калорий?» – спросила себя Розали. Предел, три сотни. Нельзя было класть даже пол чайной ложки масла. Она начала было протягивать руку к хлебнице, потом остановилась, поджала решительно пухлые губки.
– Ни в коем случае не употреблять крахмал! – произнесла она громко.
Она вздыхала, пока ела. Не то чтобы пища была невкусной. Просто ей не нравилось есть одной. Она редко это делала. Но сегодняшний день, решила она, является поворотной точкой. Сначала я выключила телевизор, подумала она, теперь ем одна. Последний раз она ела одна, насколько помнила, когда лежала в больнице с Грациэллой. Но даже там ей приносили кормить ребенка сразу же, как только заканчивался ланч.
Съев наполовину блюдо, Розали опять потянулась к хлебнице. На этот раз ее рука наткнулась на батон итальянского пшеничного хлеба. Она отломила кусочек. Безразличным движением сунула его в рот. «Я всех дурачу», – думала она уныло.
Украденный кусок хлеба привел ее в плохое настроение. Она чувствовала себя несчастной, когда делала подобные вещи. То, что Бен не пришел домой, заставило ее жутко захотеть хлеба, или макарон, или еще чего-нибудь, что можно было бы съесть с мясом. Сумасшедшая, сказала она сама себе. Голодать весь день, всю неделю, почти целый месяц. И потом смошенничать с кусочком хлеба. Просто сумасшедшая.
У сестер в школе при церкви Святое Сердце она была на примете, слыла обжорой. Розали всегда сидела с Шейлой Кифи, которая ненавидела десерты. И Розали доставалось два десерта, пока ее не поймали на этом сестры. Она посмотрела на еду в тарелке и внезапно почувствовала себя плохо, отодвинула тарелку, тоже впервые.
Розали вернулась в гостиную. Она подумала, что умнее всего было бы надеть ночную рубашку, подняться наверх и сесть смотреть фильм с Софи Лорен, пока не захочется спать. Вместо этого она устроилась на диване и взяла в руки журнал, который купила вечером на Манхэттене. Он продавался в Скарсдейле и почти во всех городах страны, но. Розали никогда раньше не покупала его. Это был журнал для женщин, и вот сегодня она впервые в жизни купила его на Манхэттене.
Сегодня три вещи, подумала она, произошли в ее жизни впервые.
Она просмотрела несколько цветных фотографий красивых молодых моделей с короткими стрижками. У одной волосы были такие же, как у Розали, только еще короче. Стрижка была похожа на мальчишескую, волосы падали на глаза. Потрясающе, думала Розали, но ведь нужно иметь такое узкое лицо.
А тут лицо – точно луна, круглое, широкое, белое. Как клецка.
Она будет больше времени проводить на солнце. Брюнетки должны быть загорелыми и здоровыми, как ее отец, а не белыми и слабыми, как она. Она стала читать журнал и была поражена и испугана, прочитав статью о противозачаточных таблетках. Она не улавливала смысла слов – менструальный цикл, овуляция, – она просто ничего не понимала. Но то, что они писали в журнале об этом, заставило ее сердце биться сильнее, а щеки – зардеться.
Она конечно же знала, что это большой грех. Хотя в статье упоминались имена некоторых католических врачей, которые не были уверены в том, что это следует считать грехом; о подобных вещах надобно спрашивать священника. Но кто в здравом уме спросит об этом священника? Она, конечно, могла спросить свою мать. Но она разделяла взгляд своих отца и дедушки на мать, смазливенькую легкомысленную кокетку. Тот факт, что у нее были только две дочки – Розали и Селия, всегда был немного подозрительным. Мама была из Турина, а вовсе не из Сицилии, и поэтому не вызывала должного уважения. Не то чтобы итальянцы с севера были легкомысленны по натуре, но они не умели серьезно относиться ко многим ценностям. Она лично не могла винить мать за это, а вот другие, часто против ее воли, твердили ей о серьезных недостатках ее матери. И в конце концов, если два таких уважаемых человека, как отец и дед, думают одинаково… Именно по этой причине Розали ничего не хотела спрашивать у матери. Она боялась, что ответ будет следующим: пользуйся таблетками.
Ну, а почему бы и не воспользоваться ими? Розали нахмурилась и опустила журнал на колени. Она действительно так думает? Может, в глубине души она считает, что таблетки это не грех или совсем маленький грех? Может, она также легкомысленна, как и ее мать? Какое имеет значение мнение докторов! Папа же ясно высказывал свою точку зрения по этому поводу.
Она опять встала, прошла в кабинет Бена, взяла большой словарь, который стоял у него на полке. «О-ву-ля-ци-я».
Позже, когда Розали уже лежала в ночной рубашке, она думала о том, какими могли быть их отношения с Беном в постели, если бы она не боялась все время забеременеть.
Она действительно не хотела больше иметь детей, во всяком случае пока что. Ее просто убивало, что ей приходилось все время отталкивать Бена, исключая безопасные дни месяца. А если заниматься любовью каждую ночь и не трястись от страха? Аж дух захватывало при этой мысли.
В журнале рассказывалось и о более страшных вещах, о которых не следовало бы и говорить, – о внутриматочных средствах. Женщины что-то вводят внутрь. Но матка – это ведь то место, где зарождается и растет ребенок! Все это было открытием для Розали. Внутриматочные средства вводятся через шейку матки. Через час с помощью словаря она разобралась во всех словах.
Значит, доктор должен войти туда и… а почему бы и нет?
Старый доктор Скаффиди был там, и Бен – тоже. В конце концов, это естественно. И если быть честной, там побывали быстрые, беспощадные пальцы Фрэнка Галлиарди, Чарли Ги и Денниса Горгона в тот вечер, когда все напились после церкви по случаю перехода на последний курс. При рождении там были Барни, Тина, Анита и Грациэлла. Просто – улица с оживленным движением. Ей нужен там регулировщик, вот в чем дело. Подумав об этом, Розали хихикнула и выключила свет рядом с кроватью.
Предстоит многое узнать об этом, да и обо всем остальном тоже. Есть школы для взрослых. Надо будет уходить на вечер.
Если здесь поблизости ничего такого нет, она знает одно место на Двенадцатой улице в Гринвич-Виллидж, недалеко от отцовского дома. Оно называется Новой Школой, там есть вечерние занятия для взрослых. Розали показалось странным, что она думает о себе как о взрослой. Может, после того как она побыла матерью, она снова сможет стать школьницей? Может, получит диплом бакалавра. А может, как Бен, степень магистра.
Она зевнула. Было только одиннадцать часов, а она уже очень устала. Столько всего случилось с ней внезапно! Бен может чаще ночевать на стороне. Она, похоже, лучше соображает, когда его нет.
Глава двадцатая
Вудс Палмер покончил с салатом из креветок, не стал есть паштет и перешел к каплуну с зеленым горошком и жареным картофелем. Теперь он занимался десертом. Запах жженого коньяка заставил его ноздри подергиваться.
Повернулся налево и вежливо кивнул губернатору, который сидел человека через три, держал ложку над десертом, но не дотрагивался до него. Палмер невыразительно улыбнулся и получил такую же фальшивую улыбку в ответ.
Он повернулся направо и посмотрел туда, где сидел мэр, который, в свою очередь, не дотрагивался ни до ложки, ни до десерта. За спиной мэра стоял какой-то мужчина и что-то шептал ему на ухо, прикрыв рот рукой. Он прикрывал рот таким привычным жестом, что Палмер понял, что этот человек скрывал свои губы, наверное, всю свою жизнь.
Палмер был рад, что не умеет читать по губам, он спокойно вернулся к десерту. Теперь он занимал такое положение, при котором нельзя было отказываться от посещения этих идиотских приемов, а ведь он когда-то давал клятву, что ни за что не станет вечерами работать, теперь это от него не зависело. Как ему хотелось придумать что-нибудь и сбежать!
Подобно большинству сборищ в самых крупных отелях Нью-Йорка, если не считать званых обедов и приемов в честь юбилеев, – этот банкет имел сильный политический привкус.
Званые обеды обычно давались не в честь какой-либо организации, а в честь кого-нибудь, вот и сейчас банкет был в честь какого-то ничтожества, о котором Палмер никогда не имел понятия.
Палмер знал, и от этого сознания сердце его уходило в пятки, что его дивное неведение не может продолжаться вечно. Через несколько мгновений после десерта встанет тамада, чтобы представить гостей и дать кому-нибудь слово.
Именно этот человек, кто бы он ни был, наполнял сердце Палмера тяжестью. Он будет нудить не меньше тридцати минут, превознося жизнь и трудолюбие чествуемого. Говорить только двадцать девять минут было бы оскорблением героя торжества. А каждая минута сверх тридцати будет добавлять еще один лист в лавровый венец того, в чью честь дается обед.
– Никак не справитесь с десертом? – спросил Палмера сосед справа.
Он повернулся, чтобы рассмотреть его более пристально. И узнал сенатора, который пользовался большим влиянием в обществе.
– По-моему, он подгорел, – ответил он.
– В этом отеле не умеют готовить, – декларировал сенатор. – А как идут дела в банке?
– По-всякому.
– Слышал, что вы решили купить банк «Вестчестер».
– Похоже на то. Понадобилось десять лет, чтобы все уладилось.
– Это началось еще до того, как вы пришли в ЮБТК, не так ли? – поинтересовался сенатор.
– Намного раньше. Я всего лишь второй год в банке.
– Тогда вы не очень хорошо знакомы с банком, который покупаете.
– Думаю, как нужно будет подписывать бумаги, ознакомлюсь.
– Надеюсь. – В этом слове содержался какой-то особенный смысл. Сенатор внезапно перескочил на совершенно другую тему. – Сегодня удивительно теплый день для марта, не правда ли?
– Да. А что вы имели в виду, говоря, что надеетесь на это?
Сенатор пожал плечами. У него было крупное красное лицо, вылепленное из нескольких аппетитных кусков сала, маленький рот и настороженные глаза.
– Ничего. Вы ведь не из Нью-Йорка?
– Из Чикаго. – Палмер думал, почему сенатор отказался продолжать разговор.
– Нужно ценить эти замечательные весенние деньки. Они так редки. Потом как-то сразу наступает лето, и начинаешь плавиться в городском котле.
– Сегодня утром мы ездили за город, – сказал Палмер.
– Куда?
– В Нью-Джерси. Моей жене нужны были растения из питомника. Местечко «У Амато».
Сенатор медленно кивнул.
– «У Амато».
Он долго не отрывал взгляда от Палмера, глаза стали настороженными. Затем он было открыл рот, чтобы что-то сказать.
– Леди и джентльмены! – прозвучал голос тамады. – Внимание, пожалуйста!
Облегченно вздохнув, сенатор повернулся к говорившему. Больше на протяжении всего вечера он не сказал Палмеру ни слова.
Ночное небо было безоблачно. Ясный свет луны проникал через стеклянные крыши оранжерей.
Внутри зелень казалась черной. После дневного тепла в ночной прохладе все стало холодным и влажным.
Вдалеке слышался слабый шум электрического мотора, виден был неясный свет лампочки, тускло освещающий темноту. Тележка для гольфа двигалась медленно, очень медленно. Мотор почти не работал от долгого использования в субботу. Его подзарядят, пока Дон Джироламо спит.
Беда в том, думал он, non ha sonno.[30] Он часто по ночам теперь не мог уснуть. Как правило, он спал come un ghiro,[31] но сейчас его мозг работал, вместо того чтобы спать.
Тележка ползла по коридору, свет слабо освещал дорожку. Дон Джироламо знал дорогу даже с закрытыми глазами. Он провел здесь столько дней и ночей на протяжении стольких лет, теперь даже и не сосчитаешь.
Нельзя сказать, говорил он себе, что он теперь unso-litario.[32] Он всегда был unuomo sociovole,[33] всегда привечал каждого, кто приходил к нему. Это верно. Все тянулись к нему. Так что он мог и не выходить из своих оранжерей.
Сырость и прохлада пробирали его до костей. Тележка повернула за угол. Он нажал кнопку на приборной доске. Молчаливый сигнал автоматически открыл дверь, которая скрывалась в темноте.
– Санто?
Где-то внутри раздался шорох. За открытой дверью открылась еще одна и включился свет.
– Si, padrone.[34]
Дон Джироламо вкатил тележку в комнату. За ним автоматически закрылась стальная дверь. Он наблюдал, как Санто запирал двери. Потом Санто помог Дону Джироламо вылезти из тележки и усадил его на удобное кресло около маленького камина. Дон Джироламо опустился в кресло и почувствовал, как от огня тело окутало тепло. Санто закатил тележку в угол и подключил мотор для подзарядки. Хорошо бы, подумал Дон Джироламо, и его старые кости подзарядить.
Как ноют кости! Дон Джироламо тяжело вздохнул. Если он не уснет сегодня, то всю ночь будет мучиться от боли в темноте. Он мог выносить боль днем, потому что многое его отвлекало, но никогда cuor della notte.[35]
День теперь сильно отличался для него от ночи. Днем растения давали ему свой животворный ossigeno.[36] Воздух был насыщен им. Он чувствовал, как его легкие наполнялись этой жизненной силой.
А по ночам растения превращались в убийц. Они наполняли воздух смертью. Ночь кишела убийцами. И то, что днем было для Дона Джироламо жизнью, по ночам становилось ядовитым поцелуем смерти.
Часть вторая
Вторник
Глава двадцать вторая
Джимми подогнал «линкольн» к тротуару на Пятой авеню, в районе пятидесятых улиц, и Палмер вышел из машины. Он отпустил шофера и долго смотрел вслед длинной черной машине, которая слилась с утренним потоком машин и исчезла, направляясь на восток.
Сказал ли он Джимми, чтобы тот забрал его пораньше на ланч? А о том, что сегодня предстоит работать допоздна?
Палмер взглянул на свое отражение в зеркальной вывеске на фасаде банка. Взгляд был мимолетным, но его было достаточно, чтобы убедиться, что все в порядке. Он высок и строен, на нем темно-серое твидовое пальто, его светлые волосы развевает мартовский ветерок. Он редко разглядывал свое лицо. Оно почти не изменилось за последние десять лет, лишь, может быть, слегка запали щеки, да появилось несколько морщинок вокруг темно-синих глаз.
Палмер нахмурился, посмотрел на часы и направился к зданию из алюминия и стекла, в котором помещался самый большой в стране частный коммерческий банк. Было чуть больше восьми тридцати утра, и поэтому двери были еще закрыты. Но привратник, увидев подъехавший «линкольн», широко распахнул дверь прежде, чем Палмер успел дотронуться до нее. В соответствии с правилами его кобура была расстегнута, а рука лежала на оружии.
– Спасибо, Эд.
– Доброе утро, мистер Палмер.
Палмер быстро прошел по серым и белым плитам холла к лифту. Несколько кассиров подняли головы. Женщины улыбнулись. Все вокруг засуетились. Другой служащий нажал кнопку лифта, распахнул дверь.
– Спасибо, Гарольд.
– Доброе утро, мистер Палмер.
Его улыбка оставалась на лице до тех пор, пока не закрылись двери лифта. Когда щель между дверьми стала совсем маленькой, Палмер увидел, как улыбка Гарольда погасла. Щелк – и все.
Вот ублюдок, подумал Палмер, представив, как трудно было Гарольду лишнюю долю секунды сохранить эту его улыбку убийцы. Лифт поехал наверх, и Палмер закрыл глаза, стараясь, чтобы его желудок поднимался с той же скоростью. Однажды, прочитав различные законы Ньютона, он выяснил, что его желудок падает, когда лифт поднимается. Но это не его вина, решил он, если желудок хочет прокрасться в пищевод.
Вторник обещает быть очень интересным.
Вчера Элстон, который первый обнаружил сбои в Народном банке Вестчестера в его кредитовании, просмотрел массу газет и журналов, где банк делал кое-какие намеки на свою позицию в отношении акционеров. Даже из этих полунамеков, недоговоренностей, умолчаний было ясно – и Палмер должен был в этом согласиться с Элстоном, – что что-то было неладно с «Вестчестером».
До сегодняшнего дня Палмер позволял событиям идти своим чередом, стараясь не спугнуть руководство банка, чтобы оно не стало изобретать оправдания, но на собрании, где должно было обсуждаться много других вопросов, Палмер предполагал задать пару резких вопросов. Собрание будут проводить в зале приемов в финансовом Центре, вот там-то он и пощекочет нервы старому Фелсу Лэсситеру, который был президентом Народного банка с тысяча девятьсот тридцать третьего года.
Он знал, что у Фелса не найдется что ответить. Фелс был похож на многих руководителей менее крупных институтов: он очень мало знал о собственной деятельности, о бизнесе в целом и о банковском деле в частности. В большинство случаев, когда небольшой банк активизировал свою деятельность, кто-нибудь, кто знал достаточно и владел ситуацией во всех трех планах, держал на виду подобного человека. В случае Фелса, думал Палмер, это был кто-нибудь из его вице-президентов, который сумел скупить большую часть акций Народного банка. Через некоторое время, после почти десяти лет ожидания, они будут соответствовать стоимости акций ЮБТК. Вот тут-то и выиграет тот, кто сумел выждать момент, обменяв эти акции на акции ЮБТК.
Палмер просмотрел список сотрудников банка, которых он знал, он решил, что это может быть Ральф Фенгер, экс-вице-президент, или, может, глава исполнительного комитета Чарли Корнблат. Они были достаточно жадны, но ни у одного не хватило бы мозгов на это. Здесь кто-то другой, кого он не знает.
Дверь лифта открылась, и солнечный свет ослепил Палмера. Стеклянная крыша мансарды позволяла мартовскому солнцу беспрепятственно проникать до самого коврового покрытия темно-бордового цвета.
Прищурившись от солнца, Палмер быстро прошел по коридору в свой кабинет, ЮБТК был двуглавой гидрой. Один из главных офисов, очень современный, находился на Манхэттене, а другой – в старом особняке на Броуд-стрит в финансовом районе. Оба офиса считались основными, но лишь один был руководящим. Тот, в котором постоянно находился Палмер. Но сегодня он будет раздваиваться: утро проведет на Манхэттене, а во второй половине дня будет работать в другом офисе.
Хотя Палмер и подозревал самое худшее, он не мог поймать с поличным своего секретаря, мисс Зермат, а именно – доказать, что она действительно продает копии его бизнес-плана мелким служащим обоих банков. Не мог также Палмер доказать, что служащие устраивают свои долгие сиесты, лишь сверившись с его расписанием и точно зная, где он будет находиться в это время. Палмер, естественно, не спрашивал их начальников, так ли это. Он давал мисс Зермат подробный распорядок, а потом иногда внезапно нарушал его. Это держало подчиненных в напряжении, а их начальников забавляла эта игра.
В этот час мансарда была пустынна. Палмер вошел в свой кабинет и, как случается в солнечное утро, зажмурился.
Широченное поле стеклянной крыши, окна в крыше, потолок полукруглый, будто крыло птицы, уходящей вдаль, где возвышались двадцатифутовые окна, давали Палмеру ощущение, что он вошел в узкий конец мегафона, и если прочистит горло, то в дальнем конце комнаты звук приобретет громовой раскат.
Он повесил пальто в шкаф, который возвышался, как и окна, от пола до потолка. Затем открыл кожаную коричневую папку, что лежала на письменном столе, и достал оттуда бумаги, которые накануне ему дала мисс Зермат, взяв их из папки для входящих документов.
Он сел за свой письменный стол, уставившись на корзинку с исходящими бумагами. Для человека, который решил жить по принципу «Относись ко всему легче», он занимался самообманом.
Субботний вечер был потерян из-за дипломатического приема, на котором он не узнал ничего интересного, не пообщался ни с кем важным для него. Перед обедом была обычная болтовня о том, кто кого выдвигает на выборах, и о новых контрактах.
И вот он сидит здесь, вечером, потом возьмет работу домой, а утром принесет ее выполненную.
Он постарался отвести взгляд от корзины с «исходящими» бумагами, но смог лишь перевести глаза на соседнюю, такую же, которая была заполнена письмами, постановлениями, отчетами, просьбами, бланками и всем прочим, что положила сюда мисс Зермат.
Сколько же еще людей вкалывает, как он? Это была бюрократическая работа. Суть такой работы ему объяснил Спитцер, человек, с которым он случайно познакомился на коктейле, где что-то рекламировали. Он объяснил Палмеру свою концепцию. Каждый день утром приходишь в офис, садишься за письменный стол, заваленный папками всех цветов, сортов и размеров. К концу дня нужно их аккуратно, даже артистически разложить по образцам. На следующий день опять приходишь на работу, садишься за стол, заваленный в беспорядке следующей партией документов. И так далее.
Интересно, думал Палмер, способен ли кто-нибудь разобрать все это? Но если кто-то способен, то тогда, понял Палмер, этому человеку нечего будет делать до конца своих дней.
Он посмотрел на часы. Восемь сорок. Вторник обещал быть грандиозным. Единственный способ избавиться от разочарования, считал Палмер, – переложить все свои проблемы на ланче на представителей Народного банка.
Вот это, раздумывал он, будет ланч!
Глава двадцать третья
– Si, мама, – сказала Розали.
На ней был надет ее самый восхитительный теплый халат. Не было еще и девяти утра, но она поднялась в шесть вместе с детьми, проводила Бена в офис. Ей хотелось в этот ветреный вторник остаться дома, в тепле и уюте, с детьми, и поиграть в маму в своем чудесном теплом халате. И вот теперь позвонила ее собственная мама.
– Позвони миссис Трафиканти. Она может прийти пораньше, – говорила мать со своим жутким туринским акцентом. – Она покормит детей. А ты пообедаешь со мной и Селией. Ну, что ты на это скажешь, ragazzina?[37]
– В «Каза Коппола»? – спросила Розали. – Но мы же были там в субботу, мама. И собирались встретиться в пятницу. Кроме того, я на диете. Честное слово.
– На диете? У дона Витоне есть для тебя замечательная диетическая пища.
– Не смеши меня, мама. Я в самом деле очень стараюсь похудеть.
– Si, figurio.[38] Сейчас все стараются похудеть.
Розали тяжело вздохнула. Она и не помнила, чтобы когда-то раньше была так зла на свою мать. Во всяком случае, она не так злилась. Она с трудом сдерживалась, чтобы не сказать какую-нибудь гадость… и без тени почтения. Почему мать старается заставить ее остаться маленьким толстым ребенком, таким, каким она заставляет быть Селию?
– Мама, тебе легко говорить. У тебя фигура как у молоденькой девушки.
Розали услышала самодовольные нотки в голосе своей матери.
– Е vero.[39] И при этом я ем макароны сколько влезет у Дона Витоне. Эта диета просто твоя новая придурь, Роза, и волосы остригла коротко, как мальчишка. Это неженственно.
Розали крепко зажмурила глаза, как бы пытаясь оборвать звук звучного, самодовольного, с сильным акцентом голоса, который доносился из телефонной трубки. Она-то что меня учит, думала она, сама никогда ничего в жизни не делала, на папиной шее жила. Ни на что не способна, даже не знала цены деньгам, которые тратила. Можно подумать, что Дон Винченцо в припадке черной меланхолии после смерти своей первой жены сказал себе: «Хочу куколку из Италии; хочу – темноволосую, очаровательную куклу с обворожительным личиком, пусть целый день бездельничает, лишь бы хорошенькой была». Мне не нужна большая семья, мне даже не важно, какая она будет в постели. Я не требую, чтобы она окружила детей любовью или хотя бы вниманием, у меня достаточно денег, чтобы нанять им лучших гувернанток и послать их в самые дорогие привилегированные школы. Мне даже не нужно, чтобы она подготовила девчонок к встрече с нашим миром, научила их быть женщинами, научила их правильно говорить и одеваться. А когда мои дочери вырастут, единственное, чего я потребую от своей очаровательной женушки, так это демонстрировать их, этих двух gnocchi,[40] двух толстых девушек с лицами, похожими на клецки, моим друзьям и партнерам, пусть видят, как рядом с их бесформенными фигурами очаровательно, потрясающе молодо выглядит моя стройная и молодая куколка-жена.
– Розали?
– Si, мама.
– Ну? Так ты пойдешь?
– Я-я уже сказала тебе. – Розали ненавидела себя за то, что отвечала таким образом. – Я на диете.
– Perché?[41]
– Я худею, мама.
– Che sciocchezze![42]
– Это не глупости. Я устала быть такой толстой, когда ты такая стройная.
На секунду на другом конце провода воцарилось молчание. Потом Розали услышала, как мать раздраженно втянула в себя воздух.
– Ты не имеешь права винить меня, – сказала мать, даже ее акцент стал меньше. – Это не моя вина.
Почти не слушая ее, Розали начала качать головой, как бы пытаясь освободиться от услышанных слов.
– Я на диете, мама, – повторила она упрямо.
– Я не хотела, чтобы ты была una pingue ragazzina,[43] – настаивала мать. – Уж точно не хотела. Это не я, – повторила она еще раз. – Это не…
Розали повесила трубку.
Она дышала так тяжело и часто, что почувствовала боль в легких. Ее сердце бешено билось, как будто старалось вырваться наружу, на дневной свет, где все можно было бы ясно разглядеть и понять правду, понять, кем же на самом деле являются окружающие люди.
Зазвонил телефон.
Чисто инстинктивно – зная, что это ее мать, зная, что не хочет больше говорить с ней, но неспособная сопротивляться привычке быть откровенной с матерью, Розали сняла телефонную трубку.
– Si, мама.
– Розали, ты повесила трубку?
– Si.
– Тогда давай пообедаем где-нибудь в другом месте, bambina. Может, хочешь хороший бифштекс? Или insalata verde?[44] Может, пойдем в папин ресторанчик на Шестнадцатой улице? Si? «Кевинс даблин чопхауз»?
Розали почувствовала, как к горлу подкатывает тошнота. Она дважды нервно сглотнула.
– Я хочу остаться дома с детьми, мама.
– А я хочу, – произнесла ее мать странным, бешеным голосом, – увидеть двух своих детей.
– Мы все встретимся в пятницу, мама. Бен должен был сказать тебе об этом.
– В пятницу? Мы ужинаем вместе?
– Бен не сказал тебе?
– Но ведь сегодня только вторник.
– До пятницы осталось совсем немного. В самом деле, мама.
Наступило молчание. Розали начала понимать, что они впервые поссорились как взрослые люди, на равных. Теперь они улаживали ссору так, как это делали взрослые люди.
– Так что увидимся в пятницу, – громко сказала она. – Ты увидишь сразу всех детей. Так будет лучше.
– Si. Я не знала.
– Он должен был сообщить тебе об этом в субботу вечером.
– Si. – Опять пауза. – В какую субботу вечером?
– Когда он… – Розали оборвала. Она перестала что-либо понимать. – Он не… – Теперь нужно быть осторожнее. Быть взрослой – это сложное дело. – Он разве, э, не позвонил вам в субботу?
– Он хороший мальчик, Роза. Но он не может запомнить всего.
– Si, мама.
– Хорошо. Тогда до пятницы. Я подожду до пятницы.
– Si, мама.
– Но мы еще поговорим до пятницы.
– Si, мама.
– Arrivederci.[45]
– Si. До свидания, мама.
В полной растерянности Розали повесила трубку. Она вспомнила события субботы и воскресенья, быстро все сопоставив. Во-первых, у него должен был состояться поздний ужин, и он остался в городе. Во-вторых, он должен был остановиться у папы. В-третьих, он должен был позвонить им и сообщить, что будет у них ночевать. В-четвертых, он вернулся домой в Скарсдейл в воскресенье, после обеда. В-пятых, весь вечер он читал газеты и никому ничего не говорил.
Розали обнаружила, что находится на кухне и стоит, уставившись на хлебницу. Она открыла крышку хлебницы. На дне лежал итальянский белый хлеб. Из булочной на Бликер-стрит. Сколько Розали себя помнила, они всегда покупали хлеб в этой булочной.
Она протянула руку и отломила кусочек хлеба. Начала запихивать его в рот. Потом внезапно остановилась, положила хлеб на место, закрыла хлебницу и опустилась на стул.








