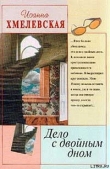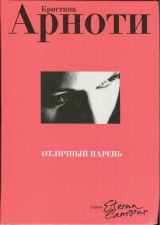
Текст книги "Отличный парень"
Автор книги: Кристина Арноти
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
– Вы… ха-ха-ха… Вы слышали? Ха-ха-ха…
Он еще долго смеялся уже после того, как отец выставил его за дверь.
Отцу было невдомек, отчего его рабы взбунтовались… Они позволили себе смеяться в его присутствии… Порядок был нарушен. В тот день у отца надолго испортилось настроение. Вернувшись домой, он ни словом не обмолвился о том, что произошло у него в офисе. Ни со мной, ни с Мокрой Курицей. Вы знаете, что означает такое словосочетание? Ваша преподавательница французского языка могла бы вам объяснить. Короче говоря, я прозвала Мокрой Курицей свою мать.
Стив смотрит на нее. В его взгляде нет и тени сопереживания. Только едва заметное холодное любопытство.
– Вы как-то странно смотрите на меня.
– Взгляд – это ничто по сравнению с вечностью, – произносит он неожиданно по-французски.
– И ад, по-вашему, тоже ничто? – бросает она. – Добрый старый Сартр…
– Лучше остаться эпизодом в вашей жизни, чем быть вашим отцом, – замечает Стив.
– Вам бы он понравился, вы сразу нашли бы с ним общий язык. Он обожает американцев и был бы в восторге от вас.
– И что же было потом?
– Чтобы вы еще больше возненавидели меня?
– Зачем приписывать мне, если я правильно употребляю это слово, чувства, которые я не испытываю?
– Только иностранцы заботятся о точности перевода! – восклицает она.
– В настоящий момент иностранка здесь вы, а я нахожусь у себя дома, – говорит американец.
«Аоооо…» В музыкальный автомат вновь кто-то опустил монету. К счастью, отец уже унес на своем плече карапуза с его бесконечным «Папик-папик-папик».
– И что же вы делали потом?
– В воскресенье, два дня спустя после коллективного ржания, я отправилась в офис моего отца с двумя приятелями, чтобы навести порядок в его кабинете.
– Навести порядок?
– Кое-что подправить… Теперь я окончательно упаду в ваших глазах… Одно воспоминание обо мне будет внушать вам отвращение.
– Вы уверены, что я буду вспоминать вас?
Уничтоженная. Стертая из памяти. Вычеркнутая навсегда. Никого вокруг. Один только зевающий негр. Ревущий музыкальный ящик и улыбающийся Стив.
Идти до конца. Равносильно самоубийству. Выложить все. Причинить себе боль. Закатать себя в асфальт. Как всегда. Разрушить себя, заодно и других. Как всегда.
– В то воскресенье с помощью копии ключей, изготовленных заранее по моему заказу, мы незаметно прокрались в здание. Затем мы прошли в отцовский кабинет, символ могущества и власти над людьми. Войдя в комнату, где еще оставался запах последней отцовской сигары, мы взялись за дело. Прежде всего мы изуродовали две бесценные картины. Возможно, чтобы излить свою желчь, мне было необходимо нарисовать Мадонне усы, которым позавидовал бы Наполеон III, а затем на полотне Ренуара пристроить черным фломастером член между жирными ляжками грудастой девицы. Какая разница? В итоге мы разукрасили стены непристойными рисунками и надписями: «Ублюдок-тиран без власти, просто ублюдок…» И так далее. Один из моих приятелей хотел написать на огромном зеркале в стиле ампир белой краской: «Шлюхин сын». Однако я остановила его. Я очень любила свою бабушку. Мне не хотелось осквернять ее память… Ну и как вам это понравилось? Неужели после всего этого можно меня полюбить?
Она уже плачет навзрыд.
– Стакан чистой воды, – говорит Стив пребывающему в полудремотном состоянии официанту.
Анук видит перед собой большие руки и безукоризненно чистые ногти.
– Спасибо.
И затем, сквозь икоту:
– Мы исписали стены лозунгами: «Больше денег банкирам, больше задниц депутатам, больше земли промоутерам».
– Еще глоток воды…
– Нет. От нее несет дезинфекцией.
– Это то, что вам нужно. Продезинфицироваться. Изнутри.
– На следующее утро, прежде чем отправиться в офис и обнаружить там следы нашего пребывания, отец завтракал вместе со мной. Я всегда ненавидела…
– Есть ли в вашей жизни что-нибудь, что вы еще не ненавидели?
– Я ненавидела все… Так вот. В понедельник утром мы встретились с ним за завтраком. Я как сейчас вижу эту сцену…
– Нам подавал кофе лакей-испанец; ему очень хотелось зевнуть, но он сдерживался. Похоже, что парень провел бурную ночь. И вот ему приходилось стоять навытяжку перед нами, держа в руках кофейник, бывший еще в восемнадцатом веке чьей-то семейной реликвией. Заспанная горничная принесла блюдо с тостами. На ее ресницах застыли остатки вчерашней туши. Она была похожа на китаянку. Ее глаза превратились в две узкие щелки. С одного ногтя слез лак. Из нас самый свежий вид имела Мокрая Курица, которая всегда рано ложится. Она душится легкими немодными духами, опрятно выглядит и готова к услугам. Одним только своим присутствием за столом она уже прислуживала своему хозяину, моему отцу. Никто не хотел ее услуг, но она все равно находилась здесь. Как образцовая супруга. Однако полусонный персонал заражал и ее своей зевотой. Она с трудом подавляла зевок, удивляясь собственной смелости. Отец держался бодрячком. На его лице лежала едва заметная тень. Он – император. Разве мог он позволить себе полностью расслабиться? Этот боров, должно быть, хорошо выспался. Ни одной морщинки. Свежевыбритый подбородок. Гладкие щеки. Как ляжки на полотне Ренуара. После растянувшейся на долгие годы зимней спячки его член больше не подавал признаков жизни. Он никогда не осмелился бы мастурбировать из боязни потерять рассудок. Кажется, такое вбивали в голову молодым недоумкам в буржуазных семьях лет сорок или пятьдесят тому назад. Как он нудно ел! Он не принимал пищу, а производил хирургическое вмешательство.
– Доченька, передай мне варенье из черники…
Я выполнила его приказ. Меня распирал смех. Он намазывал тост черничным вареньем. Тот же цвет, что и у члена, нарисованного мной между ног толстухи на картине Ренуара. Неожиданно меня охватывает паника. Куда мне бежать? Где скрыться? Где взять денег? Безусловно, он припишет левым «нападение» на его кабинет и сделает на этом сумасшедшую рекламу. Возможно, еще появится на телевизионных экранах в программе новостей, чтобы продемонстрировать миру изгаженные вандалами шедевры. Его могут провозгласить мучеником… Как же он поведет себя? Он смотрел на меня. Почти с любовью. Не надо было забывать, что я – самое большое разочарование в его жизни… Ну, конечно… С пятилетнего возраста мне следовало бы внимать каждому его слову и никогда не перечить. Ему хотелось хвалиться перед всеми своей белокурой дочкой. Голландская школа, конец шестнадцатого века. Начало семнадцатого. «Моя дочь сошла с полотна Вермеера… Моя дочь – воплощение железных принципов. Моя дочь – достойная наследница огромного состояния. И не надо спорить. Непорочная девственница, воспитанная в старинных традициях. Прелестное создание с удивительными деловыми качествами. Каков отец, такова и дочь».
Вот что хотел бы говорить обо мне этот мерзавец. Ему не повезло. Никогда ему не удастся приручить меня. И плевать я хотела на его деньги. Однажды все и так достанется мне. Наступит мой час. Великой раздачи. Все для народа.
– Анук, еще варенья?
Я смотрела на него ясным взглядом. Представляла, каким будет его гнев, когда он войдет в свой оскверненный кабинет. Конечно, я не желала его смерти, нет… Мне лишь хотелось немного унизить его. Стукнуть по голове. При всей примитивности своей натуры, он все же не был лишен интуиции. Глядя на меня, он, похоже, начинал понимать, что не следовало далеко искать причину безудержного хохота его сотрудников. У него еще не было полной уверенности в том, что именно я выставила его на посмешище. Он не догадывался, что это могло оказаться мне по плечу.
– Анук, еще варенья?
В самом деле, чтобы доставить ему удовольствие, надо съесть целую банку варенья. У него отвратительная привычка без конца потчевать окружающих всем, что стоит на столе. Словно он хочет, чтобы его всякий раз благодарили.
– Не надо варенья, папа.
И, словно плевок:
– Спасибо.
– Может, немного меда?
– Нет.
Он протянул мне тяжелый серебряный сосуд.
– Точно нет?
– Нет, спасибо, папа.
Надо ли было затевать с ним спор, чтобы что-то объяснить? Он с жадностью проглатывал «спасибо», как лошадь кусочек сахара.
– Доченька, что-то ты сегодня утром выглядишь слишком бледной…
– Ба…
– Ты устала?
– Нет.
И с тайным удовольствием я повторила:
– Нет, спасибо.
Подавился бы ты своим медом, диктатор.
– Ты что-то сказала?
– Нет, папа…
– Хорошо ли учится это дитя? Вот уже три месяца, как я не вижу ее дневника. А экзамен на бакалавра…
Теперь он уже обратился к Мокрой Курице. Мокрая Курица поспешила его успокоить:
– Все хорошо, дорогой. Все прекрасно. Она уже наверстала упущенное.
Я не верила своим ушам. Они настояли на том, чтобы меня выпотрошили, как курицу. По их вине я ходила с металлической спиралью, пронзавшей меня в том месте, где зарождалась жизнь. И после всего они позволяли себе заботиться о моем образовании? «Чтобы больше не случилось ничего непредвиденного, – сказала тогда Мокрая Курица. – Только помни, дорогая, что это может соскользнуть». Черт возьми, какая она дура. Мокрая курица. Принимает меня за ледовую дорожку…
Я смотрела на них с отвращением. Они говорили обо мне так, словно речь шла о чистом непорочном создании… Без дураков. Мне известно все о том, как занималась любовью «правая рука» моего отца. Ему сорок лет, и он юрист. Я знала, какие трудности испытывала в постели «левая рука» моего отца. От страха он едва не стал импотентом, когда я в шутку бросила: «А что, если войдет патрон?» Мне известны сексуальные привычки и вкусы всех его ближайших сотрудников, а он как ни в чем не бывало протягивал мне мед! Старики и в самом деле бывают такими бесстыжими. До тошноты.
Мой папаша-миллиардер вытирал рот вышитой по краю салфеткой и допивал остатки апельсинового сока. Он никогда ничего не оставлял после себя на тарелке. От жадности он допивал бы и в офисе все откупоренные бутылки с водой… Отец поочередно наградил нас поцелуем в лоб. Сначала поцеловал Мокрую Курицу, потом меня. Мы смотрели друг на друга. Он уходил. Я глядела в окно. Мой отец, чтобы не подражать дедушке, ездил на «мерседесе». Он приказал шоферу отправиться в путь. Внезапно мне стало страшно за отца. Да, я боялась за него.
И сколько бы я ни носилась по окрестностям Вашингтона, почти падая замертво от недостатка сна, сколько бы ни мучилась угрызениями совести из-за того, что переспала с вами: да, именно угрызениями совести, но вовсе не из-за мужа, а из-за себя – ведь я поступилась своими принципами в вопросе свободы личности, – сколько бы ни слушала вой музыкального ящика и ни смотрела, как бармен ковыряет в носу, сколько бы ни подкашивались мои коленки и ни становились ватными ноги от одного прикосновения ваших рук, – все это, вместе взятое, никогда не сотрет в моей памяти то, что произошло в нашем доме после моей отчаянной выходки. Я постоянно прокручиваю в памяти этот триллер.
Отец вернулся домой в свое обычное время. Мои нервы были напряжены до предела. Я дрожала от страха и любопытства. Он не изменил своим привычкам и спокойно готовился к ужину. Вымыл руки, причесал волосы… (Скажите негру, чтобы он не пялился на меня! Он не сводит с меня глаз. Такой расист, как он, будет возмущен до глубины души от того, что я назвала его негром…) Вот кино. Смотрите, что было дальше.
Внимание. Действие разворачивалось в столовой. Открылась дверь. Хосе, наш дворецкий, выпрямил спину.
Мокрая Курица изображала на своем лице самую слащавую улыбку. Я дрожала с головы до ног. Отец вошел. У него было немного осунувшееся усталое лицо. Жестом он приказал Хосе выйти из комнаты.
– Оставьте нас. Поставьте блюдо на стол. Мадемуазель обслужит меня.
Я дрожала всем телом, как кленовый лист на ветру. Его спокойствие давило на меня физически и морально. Что у него на уме? Он должен был кипеть от гнева, а сохранял ледяное спокойствие. Неужели панцирь этого динозавра нельзя было и пушкой пробить? Мокрая Курица улыбалась еще шире. У нее полностью отсутствовала интуиция.
– Дорогой, чем провинился Хосе? Мне кажется, что вы на него рассердились.
Отец, с серым от гнева лицом, приказал ей замолчать.
– Прошу вас, помолчите!
Мокрая Курица тотчас умолкла. Она только что получила свою дозу унижения. Она стала зарываться в землю. Шампиньоны по-гречески. В нашем доме все происходило под звуки бузуки. По-гречески ели, по-гречески переваривали. «Никаких разговоров о политике с кухаркой, – сказал отец, когда нанял ее. – У них уважают порядок. Некоторые смельчаки это называют “диктатурой”. Я не допущу, чтобы в моем доме критиковали военную хунту. В армии я вижу спасение. И порядок…»
– Налей мне в рюмку немного бордо. Осторожно. Кружевная скатерть мне обошлась почти в тысячу франков. Я только что оплатил счет. Не надо портить дорогие вещи.
Я налила ему бордо. Я дрожала. Мне с трудом удалось не пролить ни единой капли на скатерть. Однако волнение полностью лишило меня сил.
Папа позвонил, и Хосе принес какое-то блюдо. Я не помню названия, но тоже греческое. Раньше у нас был повар из Италии, а еще раньше из Испании.
– Воды, – попросил отец.
Я поспешила налить ему воды. Мне казалось, что хрустальный графин весил сто килограммов.
Затем пришла очередь десерта. И конечно же, это тоже было произведением греческого кулинарного искусства.
– Мне надо с тобой поговорить, – заявляет отец.
Он был спокоен, как никогда. Что еще надо было натворить такого, чтобы он потерял хладнокровие и бился головой о стену? Что еще ему надо было от меня? Меня охватила ярость, поскольку его самообладанию можно было только позавидовать. Окажись я на его месте, то уже давно с криками крушила бы все вокруг. А он? Был спокоен, как никогда. Стальные нервы. Что и говорить: старая закалка… Скальная порода, которую я пыталась пробить с помощью пластмассовой лопатки. Если бы вы могли понять меня, несмотря на ваши буржуазные взгляды…
– Что же сказал ваш отец? – спрашивает Стив.
– Второй раз он выигрывал сражение. Я чувствовала себя обескураженной. Он отказался от своей толстой сигары и курил сигарету. Мы находились в его кабинете.
– Ты украла мои ключи?
– Да.
– Ты разгромила мой кабинет… И конечно, ты была не одна.
– Нас было трое.
В ярости я перешла на крик:
– Вы никогда не узнаете их имена.
Пепельница. Сигаретный дым.
– Меня не интересуют твои приятели. Сегодня утром я вызвал всех, кого собирался уволить без выходного пособия. И они, чтобы не потерять место, выложили мне всю подноготную. За крохотную прибавку к зарплате они подписали мне много бумаг.
– Каких бумаг?
– У меня уже есть два подписанных свидетельских показания. В этих бумагах приводятся все необходимые доказательства, свидетельствующие о том, что ты сыграла весьма неприглядную роль в жизни двух молодых семейных пар. Ты завлекла одного за другим – поздравляю, ты пока еще не докатилась до групповухи, – в отель для свиданий. Два других заявления я получу сегодня вечером. Тебе крышка, моя милая. У меня есть все основания поместить тебя в дурдом. Кто может заставить меня терпеть в дальнейшем выходки нимфоманки (он проглатывает слюну как человек, не привыкший произносить такие слова), которая, к несчастью, является моей дочерью? Я упеку тебя в сумасшедший дом. На неопределенный срок. С моими связями…
– Вы не сможете так поступить со мной, – сказала я. – Я не сумасшедшая…
– Я знаю. Но почему я должен терпеть твои экстравагантные выходки? Представь себе, что твой хулиганский поступок оказался мне на руку. Я только и ждал подходящего случая, чтобы провести в офисе большую чистку. Ты помогла мне установить драконовский режим. Языки развязываются. Люди шпионят друг за другом. Мне остается только потирать руки. Ты оказала мне услугу. Неоценимую услугу. Во всех отношениях. В моральном плане я – потерпевшая сторона. В материальном – страховая компания возместит мне все убытки за ремонт моего кабинета. Картины? Должен тебя огорчить. Их можно спасти… Что же касается огласки? И не надейся. Все, кто подписал свидетельские показания, будут молчать как рыба. Остальные не в курсе дела. Невозможно представить, чтобы дочка хозяина была способна на такой вандализм. Нет! Это дело рук какой-то банды хулиганов. И все. У тебя будет еще время на размышление в закрытой на ключ больничной палате…
– Я покончу с собой…
– Палата обшита мягким материалом…
Я почувствовала запах собственного пота. Меня загнали в угол. Он был способен на все. Ему было достаточно дать взятку какому-нибудь сговорчивому эскулапу, и тот с легким сердцем подписал бы мне приговор.
– Стоит мне выйти из этого кабинета, и я сразу же обращусь к журналистам. Я буду защищаться. Я все расскажу.
– Кто тебе поверит? И кто сказал тебе, что ты выйдешь отсюда? Кто?
Он встал, закрыл на ключ дверь своего кабинета. Это была бронированная дверь, как, впрочем, и входная. Из-за ценных картин.
Мне хотелось крикнуть на весь дом: «Подлец! Вы хотите замуровать меня заживо?»
Он улыбнулся.
– Раз в жизни хозяин может позволить себе наложить секвестр… Нельзя упускать такой случай.
– Я покончу жизнь самоубийством, – повторяю я. – В сумасшедшем доме.
– Это будет не простой дурдом, а частная клиника. Гладкие стены, стальные решетки на окнах; в случае обострения душевной болезни на тебя наденут смирительную рубашку. Двери открываются только с наружной стороны. Тишина. По Парижу поползет слух, что у тебя возрастной кризис, на который наложилось умственное переутомление из-за интенсивной подготовки к экзаменам. Люди быстро забывают… Очень быстро. Кто захочет прийти тебе на помощь? Никто. У тебя нет денег. Мне же достаточно расстаться с одной или двумя картинами, и дело в шляпе…
– Вы поместите меня в лечебное учреждение за взятку?
– Все, что ты говоришь, – полный бред. Какая взятка? Громко сказано… Речь идет об оказании взаимных услуг между приличными людьми… Кроме того, ты сама даешь мне в руки все козыри: ведешь себя как последняя шлюха и водишь дружбу с левыми… Этого вполне достаточно.
Тогда я бросила ему в лицо:
– А мой ребенок?
– Какой такой ребенок?
– Тот, которого вы заставили меня выбросить на помойку.
– Будет тебе. Не стоит так драматизировать. Что бы ты делала с незаконнорожденным на руках? Что ты успела сделать в этой жизни? Получить блестящее образование? Нет. Ты и пальцем не пошевелила. Ты слишком ленива, чтобы хорошо учиться.
Мне хотелось завыть во весь голос.
– А к чему напрягаться? Вы же купили все и всех…
– Заткнись! Ты рассталась с невинностью в кабинке для переодевания на пляже, а я не похвалил тебя за столь мужественный поступок… Мне пришлось наказать тебя. Ты хочешь скандала? После всего? Не дождешься. Выбирай: психушка или завод.
– Никто не возьмет меня на работу. Всем известно ваше имя.
– На заводе меня не знают, – сказал отец. – Попробуй устроиться на конвейер.
– Вы хотите убить сразу двух зайцев? Подстраховаться на случай, если Народный фронт национализирует вашу лавочку? Тогда вы во всеуслышание заявите: «Моя дочь всегда была прогрессивной. Сжальтесь надо мной! Оставьте мне хоть часть моего добра». Я буду вашим обвинителем, но никогда не стану вашим защитником.
– Тогда тебе ничего не остается, как выпрыгнуть из окна, – сказал он.
Мы подошли к окну. Я распахнула его настежь. С улицы доносилась музыка. А может, из другого окна. Кто-то пел. Красивый голос. Это внизу пела няня. Любовь к жизни. Жажда жизни. Страсть. Я свесилась из окна, чтобы лучше слышать песню. И тут же почувствовала, как эта сволочь, мой отец, вцепился в мой свитер. Если бы мне вздумалось броситься вниз головой, этот бездушный капиталистический монстр удержал бы меня от рокового шага. И я была благодарна ему. Потому что люблю жизнь. Я не могла вырваться из его цепких рук. Он был способен заточить меня в тюрьму, но не позволил бы так просто уйти из жизни. На его глазах. Моя злость была сильнее чувства благодарности. Я выпрямилась и сказала:
– Я еще не готова броситься вниз. Однако отныне не чувствую к вам ни малейшего уважения. Вы и подобные вам создаете питательную среду для левого движения.
– Ты вполне созрела для дурдома, – произнес он с заметным облегчением в голосе после того, как я отошла в сторону от окна. – Пока ты носишь нашу фамилию, ты не будешь заниматься ни политикой, ни проституцией. Что же касается левого движения, то оно служит нам в качестве противоядия. Решено. Ты отправляешься в дурдом.
У меня все похолодело внутри. Этот мерзавец не шутил. Он выполнял свое обещание.
– И вы не дадите мне никакого выбора? Никакого?
Он смотрел на меня. Он думал.
– Возможно, у тебя есть выход. Если, конечно, тебе повезет. Пять дней назад во время делового обеда я познакомился с одним весьма достойным человеком.
– Каким человеком?
– Достойным. Это молодой, подающий надежды человек. Холостяк. Его родные погибли во время резни в Алжире. Все до одного.
– А его забыли в прихожей?
– Не надо шутить. Возможно, что этот человек – твое спасение.
– Представляю, какой он мерзкий, если понравился вам.
– Он – самая подходящая кандидатура для того, чтобы заняться изданием моей серии книг по искусству в карманном формате. Более того, он мне нужен позарез. Он подходит мне по всем статьям.
– Что вы о нем знаете? Вдруг он окажется педиком?
– Я уже закинул удочку: «У меня есть дочь на выданье…» Он не возражал.
– И конечно, вы предложили ему несколько сотен миллионов за эту сделку?
– А вот и нет. Вот такие левые, как ты, всегда готовы все опошлить, в то время как правые, вроде меня, действуют исподволь, но зато наверняка. Вам бы следовало у нас поучиться… Стреляные воробьи умеют вертеть вами…
Он подошел ко мне и сказал:
– Я приглашу его к нам. Только не вздумай его подкалывать.
Подкалывать его! Кто бы говорил. Подкалывать охотника за приданым? Еще чего!
– Если ты пошлешь его к черту, у меня больше не будет никого под рукой.
– Однако кто сказал, что ваш жалкий тип захочет жениться на мне?
Он прикоснулся к своему носу.
– Мое чутье. Когда ты с ним увидишься, попробуй вести себя как нормальный человек. У этого парня весьма твердые принципы. Его воспитали в лучших традициях. К тому же он сирота.
Я уже была на взводе:
– Несчастная сиротинушка! Надо его приласкать… Ладно, приводи его сюда… Чем мы рискуем?
– Для начала последи за своей речью. Возможно, ему не придутся по вкусу те крепкие словечки, которые так и слетают у тебя с языка.
– Хорошо, папа. Как фамилия этого кретина?
– Бремер.
– Ба! Тебе должно понравиться. Звучит совсем по-немецки… Я слышала, что после оккупации у вас возникли проблемы… Бремер, в этом есть что-то ностальгическое…
– Когда ты будешь носить фамилию Бремер, – произнес с досадой отец, – мне будет плевать на твои проделки. Мне нужно, чтобы у тебя была другая фамилия…
– Раз сделка почти заключена, я могу выйти из застенка…
И я прохожу мимо него к двери.
Похоже, что этот разговор дался ему нелегко. Он страдал оттого, что заставлял страдать меня. Несмотря на мелкую душонку, он все же любил свою дочь. Отец взял меня за плечи и произнес:
– Скажи, ты будешь вести себя с ним прилично?
– Да, папа…
– Если он тебе подойдет, ты выйдешь за него?
У него был почти умоляющий вид.
– Да, если он хорошо трахается…
Я получила две звонкие пощечины. Две увесистые затрещины, способные свалить с ног быка. Папа постарался от всей души. Мне показалось, что я наполовину оглохла. Я затрясла головой. В мои уши словно попала вода. Он склонился надо мной. Лицом к лицу. Почти с нежностью. И вдруг я с удивлением увидела, что его глаза были наполнены слезами. Самыми настоящими слезами…
– Мне в самом деле нехорошо. Маленькая мерзавка, я вовсе не хотел тебя ударить.
Он едва не плакал. Казалось, что он ударил по лицу самого себя.
Мне уже хотелось заключить перемирие. Он заслужил более покладистую дочь, чем я.
Позднее, уже в машине, перед самым въездом в город Аннаполис, Анук положила голову на руку Стива.
– Два калеки, которым вы оказываете моральную поддержку, Фред и я…
Лиловое небо. В нежной дымке догорающего дня Аннаполис предстает перед ними как прекрасный сон из далекого детства. Неясные очертания домов тонут в густом полумраке. Сумерки.
– Как бы мне хотелось жить, – произносит Анук, – здесь, в Аннаполисе.
Машина притормаживает в тихой улочке перед трехэтажным домом.
– Подождите немного в машине, – говорит Стив, – мне надо подготовить почву. Только никуда не уходите.
– Уходить? Нет, – говорит она. – Если надо, я буду ждать вас до конца своих дней…
Стив склоняется к ней. На его лицо падает последний луч заходящего солнца.
– Ждать совсем немного…
Она закрывает глаза. Неизвестно, что он имеет в виду – то ли время своего отсутствия, то ли продолжительность ее жизни… Какая разница? Ведь совсем скоро горькая печаль поселится навсегда в ее душе!
Анук размышляет над судьбами Стива и Фреда. С какой радостью она присоединилась бы к этой компании неразлучных друзей! Ее охватывает чувство, близкое к отчаянию. Словно неожиданно вскрывшаяся рана, которая причиняет ей нестерпимую боль.
На память приходят героини прочитанных книг, расставшиеся с жизнью из-за любви. Начиная от чахоточной гордячки, описанной Дюма-сыном, кончая Анной Карениной, потрясшей мир загадочным взглядом славянских глаз. Едва ли не с нежностью Анук вспоминает знаменитую леди Гамильтон, бывшую шлюху, влюбившуюся в одноглазого адмирала. Анук завидует всем этим великим женщинам, умевшим любить. В то время как другие знаменитости, такие как Скарлетт, навсегда остались на обочине большой любви… Несчастная Сафо поплатилась за любовь своей головой: в конце своего романа Доде вынес ей смертный приговор. Кто бы мог подумать, что старик может быть таким безжалостным и жестоким?
Не забыла она и руанскую узницу Эмму Бовари. Вместо того чтобы отравить мужа, думает Анук, она сама выпила яд. Отвлекшись от сентиментальных мыслей, молодая женщина зажигает сигарету и сразу же обретает свойственную ей язвительность. «Нет, – поправляет она себя, – Эмма Бовари не должна была травить мужа; иначе она превратилась бы в героиню Мориака. Тьфу! Этого старого развратника! Нет, Эмма достойна лучшей участи. По крайней мере, она дала возможность Флоберу испытать чувство глубокого удовлетворения от демонстрации своих гомосексуальных наклонностей. Под женской маской прячется сам автор. Это вовсе не Эмма, а Флобер травится ядом. Мориак, напротив, травит другого человека. Вот в чем состоит их принципиальная разница. Христианин Мориак ловко орудует с мышьяком, в то время как Флобер умирает в чепце из старых кружев».
– Пошли, – говорит Стив.
Он открывает дверцу машины.
– Осторожно, Анук! Мать Фреда говорит на языке среднего американца. Постарайтесь не употреблять столь любимых вами крепких выражений и грубых словечек. И никаких разговоров о политике. Попробуйте хотя бы раз в жизни вести себя как разумная, хорошо воспитанная молодая женщина.
– Вот только белые перчатки и букет цветов мы забыли на кровати в мотеле! – заявляет она, выходя из машины.
– Или вы слушаетесь, – говорит он, – или поедем обратно!
– Я буду паинькой!
– Что за черт! – восклицает он с досадой. – Вы так настаивали, чтобы я привез вас сюда; постарайтесь теперь вести себя прилично!
– Мне осточертело выслушивать ваши наставления, – почти кричит она.
– Других слов вы не понимаете.
– Хватит! – обрывает его Анук.
Какой смысл пререкаться с американцем, стоя посреди тихой улочки, пронизанной последними лучами заходящего солнца? К чему все это?
Она уже улыбается.
– Я сделаю усилие над собой…
– Пошли…
Она идет к широким воротам. Вслед за ней спешат наперегонки все известные литературные персонажи: Эмма, Анна, Скарлетт и даже чахоточная героиня Дюма, за которой ветер гонит по улице ворох бумажных носовых платков. Сафо тоже не отстает от этой компании. Старая карга подметает улицу. К ним присоединяются и другие знаменитости – Джюльетта, Дездемона и даже Офелия. «Каждая из них обладала даром любить, – размышляет Анук. – Они умели любить, в то время как я в самый неподходящий момент начинаю высмеивать всех и вся. У меня извращенное представление об уважении к людям».
Ворота со скрипом распахиваются. Застойный запах замкнутого пространства. В глубине небольшого зеленого дворика виднеется дом. Слабый луч заходящего солнца раскрашивает сад цветом охры. По стенам дома вьются какие-то крупные цветущие растения. В пышной зелени, возможно, прячутся таинственные ленивые птицы и затаились мелкие бесы.
– Душно, – произносит Анук. – Настоящая зеленая тюрьма.
В этом царстве буйной растительности только современная садовая мебель указывает на человеческое присутствие.
– Проходите…
Под стрельчатой аркой она видит дверь, ведущую в дом.
Анук входит в просторную комнату, обставленную дешевой мебелью. Ей достаточно одного беглого взгляда, чтобы оглядеться по сторонам. Широкий диван, кресла, низкий столик. Комнатные цветы. Окно выходит на улицу, освещенную последними лучами заходящего солнца.
– Садитесь, – говорит Стив.
Он выходит из гостиной.
Анук смотрит на часы. Уже шесть вечера.
Стив возвращается вместе с невысокой седой женщиной.
Анук встает с кресла и произносит:
– Здравствуйте, мадам.
– Здравствуйте, – отвечает пожилая женщина.
Она протягивает Анук вялую ладонь.
– Надеюсь, я не нарушила ваш покой, – говорит Анук.
Взглядом она зовет Стива на помощь: «Где Фред и что надо говорить?»
– Нет, вы ничуть не побеспокоили меня… Хотите что-нибудь выпить?
– Да, – отвечает Анук.
И, словно школьник, докладывающий учителю о положительных результатах лабораторного опыта, Стив добавляет: «Француженка всегда хочет пить».
Хозяйка дома идет к обеденному уголку, где стоит круглый стол и несколько стульев. Где-то поблизости должна располагаться и кухня. Она возвращается с подносом в руках.
Щелк. Крышка с бутылки падает на поднос. Они смотрят, как темная жидкость заполняет стакан. Неужели Анук проделала путь в две тысячи километров, чтобы наблюдать за этой простой процедурой?
– Фред? – спрашивает она.
– Я только что поговорил с ним, – произносит Стив. – Он не выйдет к нам. Не хочет.
Женщина угощает Анук разложенным на тарелке сухим печеньем:
– Хотите?
– Нет, – произносит Анук. В ее голосе слышится разочарование. – Нет, спасибо.
– Я поднимусь на второй этаж, – обращается Стив к пожилой даме.
Женщина, не отрываясь, смотрит на поднос. Она едва кивает головой.
Не успел Стив выйти из комнаты, как Анук поспешно говорит:
– Я здесь вовсе не из-за праздного любопытства, а по зову сердца…
Женщина внимательно смотрит на нее.
– Стив мне рассказал о вашем сыне…
Пожилая дама опускает руки на колени.
– Я познакомилась со Стивом в бассейне нашей гостиницы в Вашингтоне.
«Нашей». Надо сказать ей о существовании мужа. Внимание. Нельзя шокировать.
– Я – замужем.
Пауза.