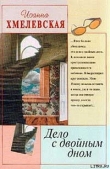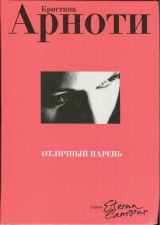
Текст книги "Отличный парень"
Автор книги: Кристина Арноти
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Немного помолчав, он добавил:
– Внученька, я всего лишь мужчина… Богатый, но все же мужчина… У тебя еще будут дети… Поверь мне…
Другие дети? Никогда. Отныне целью ее жизни будет месть. Эта разрушительная навязчивая идея уже зародилась в ее голове.
Как она может забыть странную медсестру, которая вошла к ней в палату за час до ее выписки из клиники? Женщина была похожа на спрута, оставлявшего позади себя в воде чернильное облако… От нее так и веяло неприкрытым презрением.
– Я еще не знакома с вами, – сказала Анук.
– Здесь нет времени знакомиться, – ответила медсестра.
И добавила:
– И не надо… Что бы там ни говорили те, кто хотя бы однажды здесь побывал, они этого никогда не забудут.
Женщина словно пригвоздила Анук к позорному столбу. Да, пребывание в этих стенах никогда не сотрется в ее памяти.
Медсестра тяжелым взглядом окинула Анук. Девушка видела такой взгляд на женских портретах голландской школы восемнадцатого века. Сердце Анук забило тревогу. Эта женщина пришла, чтобы принести ей несчастье.
– Мне поручили измерить напоследок вашу температуру…
Маленький термометр во рту. С привкусом льда. Почему она слушает эту ведьму?
Медсестра берет термометр, смотрит на него, встряхивает и кладет на место.
– Температура нормальная. Вы можете одеваться. На улице вас ждут…
Анук предпочла бы одеться в одиночестве. Однако женщина не уходила. Она стояла, скрестив руки.
Анук повернулась к ней спиной. Она спустила вниз шелковую ночную рубашку, которая распласталась магическим кругом на полу у ее ног. Затем она, стоя поочередно то на одной, то на другой ноге, натянула кружевные трусики. Покончив с нижней частью тела, она принялась застегивать лифчик.
– Ваш браслет…
Женщина подала ей браслет. Четыреста граммов чистого золота. Новогодний подарок.
– Какой тяжелый, – сказала медсестра. – И не забудьте ваш пояс. Какой красивый…
Еще бы ему не быть красивым! Он куплен в дорогом магазине на улице Фобур-Сент-Оноре. «Из кожи новорожденного крокодила… С крохотного крокодильчика живьем снимают кожу… Вот почему она такая нежная и мягкая на ощупь… Кто станет оплакивать новорожденного крокодильчика, с которого живьем сдирают шкуру? Ведь он же хищник. Таких полным-полно. Говорят, что они очень живучие и прожорливые… 960 франков, мадемуазель… Заплатите чеком? Ах, заплатит ваша матушка? Мадам, вот касса. Мое почтение, мадам. Мы всегда рады вас видеть у нас… (И уже кассирше) Скорее… Не заставляйте ждать мадам…»
– Вот еще шарф, – сказала медсестра.
– Не могли бы вы оставить меня одну?
Ее голос прозвучал так резко, словно с нее, как с новорожденного крокодила, снимали кожу…
– Мисс, я делаю свою работу.
Она произнесла слово «мисс» словно хотела сказать «дерьмо». Мисс Дерьмо. С вашими деньгами вы могли бы позволить себе родить хоть дюжину детей… Вы – здоровая и крепкая девица… Мисс Шлюха…
– Закрыть ваш чемодан, мисс?
В ее тяжелом взгляде легко можно было прочитать все, что она думает о богачах, у которых есть деньги на аборты, в то время как бедняки вынуждены плодить нищету.
– Ваше кольцо, мисс… Ваша сумочка, мисс… Вы не подкрасите щеки? Чуть-чуть… Все, кто выходит отсюда, почти всегда красят щеки… Потому что они слишком бледные…
Анук посмотрела на себя в зеркало. Она нарисовала помадой на щеках два розовых треугольника и размазала их по лицу. За ее спиной в зеркале отразилось лицо медсестры.
– Мисс, это был мальчик…
Анук почувствовала себя кобылой, которую четверо ковбоев едва удерживают за поводья перед тем, как заклеймить каленым железом. Животное брыкается. Запах паленой шерсти и жареной плоти.
– Это был мальчик.
– Бабская болтовня, – возмутился дед. – Они говорят все, что только взбредет им в голову. Я знаю их…
Анук во все глаза рассматривает Лондон. Мелкий дождик каплями слез стекает по стеклам «роллс-ройса». Лондон не кажется ей негостеприимным городом. Он дает временное пристанище приезжим, но остается равнодушным к их судьбам. Этот город умеет хранить свои тайны.
– Здесь имеются роскошные меховые и ювелирные магазины. Я знаком с некоторыми из их хозяев. Хочешь, я куплю тебе шикарное манто из белой норки? Тебе оно будет к лицу как блондинке. А потом ты выберешь себе дорогое украшение… Самое красивое…
– В настоящий момент я способна лишь считать, – ответила Анук. – Стоимость одного только норкового манто могла бы окупить рождение моего ребенка. Украшение? Есть драгоценности, способные обеспечить жизнь малыша до самого его совершеннолетия… Дедушка, я ничего не хочу.
Они въехали в центр города.
– Мне нравится Лондон, – сказала она. – Здесь я ощущаю себя невидимкой. Этот город лишает меня индивидуальности… Здесь можно раствориться в толпе… В Лондоне никому не интересно знать мое имя…
Затем она нечаянно произнесла фразу, которая больно задела деда:
– Мне стыдно за вас… за мою семью…
– Я думал, что ты умнее, – воскликнул дед. – Гораздо умнее. Я ошибся в тебе. Ты меня разочаровала, как и все твое поколение.
– Ты ничего не знаешь о моем поколении, – ответила она. – Ничего. Те, у кого есть деньги, живут совсем другой жизнью, чем те, у кого их нет… Можно принадлежать к одному и тому же поколению и жить в двух разных мирах, которые никогда не соприкасаются друг с другом.
– И что же? Сделай свой выбор, – закричал дед. – Чего ты ждешь, чтобы присоединиться к тем, кто, по-твоему, живет в «другом мире»? А? Ты хочешь иметь все… Сохранить для себя… Ты не можешь отказаться ни от комфорта, ни от полезных связей твоей семьи, ни от зимнего спорта в Сен-Морице… Ни от привычки разбрасывать свои вещи, потому что ты знаешь, что кто-то подберет и положит на место… Первый признак богатства – разбрасывать где попало свое нижнее белье. За свою жизнь я заработал тридцать миллиардов и до сих пор сам бросаю свои трусы в корзину для грязного белья… Я всегда оставляю после себя порядок. Тебе нравятся рабочие? Попробуй жить среди них…
– Все отворачиваются от меня… Как только я называю свою фамилию, улыбки на лицах гаснут и превращаются в гримасы… Дедушка, откуда тебе знать об этом? Ты привязан к своим деньгам. Кончится тем, что твое богатство национализируют. И все твои картины займут по праву свое место в музеях. Ты зря прячешь их в хранилищах от народа…
– Но они принадлежат мне, – возмутился дед. – Я заработал их своим трудом… Ты хочешь отнять у меня мою собственность? Ты не имеешь никакого представления о справедливости… Уйди из дома – и я стану уважать тебя; работай не покладая рук – и тогда я скажу тебе: «Вот это характер! Она – личность. И, несмотря на крайне левые политические взгляды, которые я не разделяю, она близка мне по духу…» А пока ты этого не сделаешь, не плюй в колодец, пригодится воды напиться… Черт возьми!
– Я не говорю о тебе, – произнесла она тихим голосом, предвещавшим надвигающуюся грозу. – Я говорю о моем отце и твоем сыне… Он управляет нажитым тобой состоянием и не сомневается в том, что умеет это делать; он дошел до того, что смеет критиковать тебя! Ему не нравится твоя маркетинговая политика… Согласна, ты имеешь право на собственность, поскольку ты заработал ее… Я даже признаю то, что деньги переходят по наследству. Дедушка, но я не могу согласиться с тем, когда по наследству передается власть.
И она продолжила:
– Власть, полученная по наследству, равносильна умышленному воровству… Возможно, я совершила убийство, но я не хочу быть воровкой…
Дед трясся от гнева, но еще держал себя в руках.
Она решила окончательно вывести его из себя:
– Мне кажется, что ты до сих пор тайком куришь… Несмотря на запрет врачей… Дай-ка мне косячок…
– Ты вышла из клиники, а не из исправительной колонии… – ответил разъяренный дед.
– Только один косячок, – повторила она.
Серебряной рукояткой массивной трости старик забарабанил по разделительному стеклу автомобиля. Водитель обернулся, опустил стекло и спросил:
– Что вам угодно, сэр?
– Остановитесь… Пожалуйста…
И дед добавил на своем рокочущем английском языке:
– Мадемуазель хочет выйти…
«Роллс-ройс» прижался к тротуару и остановился на красный свет. Водитель вышел из автомобиля и, обогнув его, открыл дверцу со стороны Анук.
– Выходи! – приказал дед.
Она повиновалась. И быстро опустила ноги на край тротуара. Шофер еще не прикрыл дверцу «роллс-ройса», как дед наклонился к Анук и сказал:
– Если захочешь есть, приходи в «Савойю». Там каждый скажет тебе, в каком номере остановился мистер Т. Я снимаю этот номер на целый год. Я ужинаю в восемь часов вечера. Поехали, Джеймс. Я спешу. В два часа дня начинаются торги в «Сотбис». Поторопись…
Тряпичная кукла осталась на обочине дороги… Загорелся зеленый свет. «Роллс-ройс» тронулся с места. Старик даже не обернулся, чтобы взглянуть еще раз на нее.
– Вы спите? – спросил Стив.
Анук открывает глаза и смотрит на него. Американец успел переодеться. Похоже, что джинсы и рубашку он только что купил в магазине. Девушке кажется, что молодой человек стал еще стройнее и выше ростом. В руках он держит поднос.
– Я не сплю, – отвечает она. – Я вспомнила деда…
Он улыбается.
– Деда… Почему именно деда?
Она садится в кровати и прикрывает себя простыней.
Стив ставит поднос ей на колени.
– Чая не было. Но я принес вам кофе, колу и сэндвич.
И добавляет с улыбкой:
– Не с курицей, с ветчиной. Так почему же вы вспомнили деда?
Анук жадными глотками пьет кофе. Затем принимается за сэндвич.
– Это был великий человек… Он сколотил огромное состояние…
Она тут же прикусывает язык. Вот как можно выдать себя с головой.
– А ваш папаша промотал его… Не так ли? – спрашивает Стив с легкой усмешкой. – Когда говорят о доставшихся по наследству деньгах, всегда называют того, кто разбазарил их.
– Кое-что еще осталось, – отвечает она с задумчивым видом.
– Тем лучше для вас, – говорит он.
Американец, похоже, задумался о чем-то своем.
– В джинсах вы выглядите еще моложе, – говорит Анук.
– Мне пришлось раскошелиться на новую одежду. Грязная находится в багажнике. Сдам ее в чистку в Нью-Йорке.
Ее сердце сжимается от боли, а из глаз невольно брызжут слезы. Она размазывает их по щекам тыльной стороной ладони.
– Мне неприятно думать…
– О чем?
– О том, что вы возвращаетесь в Нью-Йорк…
– Но мне надо вернуться…
– Для меня Нью-Йорк означает лишь одно – разлука.
– Уже четыре часа дня. К Фреду мы приедем в половине шестого… Если хотите, я могу отвезти вас в отель…
– Я поеду к Фреду, – отвечает она. – Со мной происходит нечто странное. Возможно, я устала. Мне совсем не хочется задираться и спорить. Хорошо тем женщинам, которые лишены всякой индивидуальности. Как бы я хотела стать такой же, как все…
– А вы и есть такая же, как все… Вы рассказали мне о том, что были вынуждены сделать аборт… Вы не первая и отнюдь не последняя в списке тех, кто прибегает к такому радикальному решению своих личных проблем.
– Вы ничего не поняли, – произносит она с горечью.
– Да нет, я понял… Мне лишь хочется немного вас подбодрить. Вы слишком драматизируете и сгущаете краски. Каждый день миллионы женщин идут на такой шаг. Вы ничем не отличаетесь от них… Это вовсе не повод впадать в истерику…
– В то время у меня не было никакой истерики, – произносит она с металлическими нотками в голосе. – Напротив, это сейчас мне хочется бросить поднос вам в лицо… До такой степени вы раздражаете меня…
– Браво, – восклицает он. – Наконец-то мне удалось вас расшевелить…
Он склоняется над ней, словно хочет поделиться каким-то секретом.
– Вы совершили убийство, подчинившись системе, которая заставила вас это сделать… Вы не убийца, а жертва…
– Как Фред? – спрашивает она.
Почему у нее слетело с языка имя совсем незнакомого ей человека? Почему у нее возникла потребность ближе узнать его?
– Да, как Фред, – отвечает Стив. – Он думал, что война – это высшее проявление патриотизма. Впоследствии он понял, что война – это всего лишь кровавая бойня.
– А вы?
– Я не задумываюсь, – говорит он. – Я просто живу… Пусть думают другие… Если пытаться решать чужие проблемы, можно свихнуться… Как только вы решите одну проблему, тут же возникнет другая… И так без конца… Я смирился. В моральном плане. Это все, что остается делать среднему американцу.
– Вы позволите задать вам один вопрос?
Теперь она говорит с ним на правильном литературном английском языке. По сравнению с речью Стива и его местным выговором изысканное произношение Анук звучит как вызов. И она это делает неслучайно.
– Валяйте.
– Почему вы так испугались на Потомаке?
– Испугался? – спрашивает он. – Я испугался?
Он повторяет вопрос как человек, не совсем понявший его суть. Затем он произносит с интонацией актера из Страфорда-на-Эйвоне:
– Неужели я ненароком напугал вас?
Он громко и заливисто хохочет.
– О, Боже! Как женщины все преувеличивают… У них такое богатое воображение! Разве я способен кого-то напугать?
Стив встает и поднимает поднос с колен Анук.
– На вашем месте, милая дама, – произносит он на самом изысканном французском языке, – я встал бы под холодный душ, чтобы успокоить нервы.
Укутавшись кое-как в простыню, она встает с постели и подходит к Стиву:
– Вы прекрасно говорите по-французски… Как вам удалось выучить французский язык так, чтобы говорить почти без акцента?
– Спасибо армии США, – отвечает он. – Нам с Фредом выпал шанс учиться на курсах специальной подготовки. Нашей великой стране порой нужны солдаты, говорящие на разных языках. После прохождения тестов нас отобрали для изучения французского языка… Многие вьетнамцы до сих пор говорят по-французски… А теперь, мадам, в душ.
Она открывает кран до упора. Ей хочется укрыться за стеной из водяных струй. Она смотрит на Стива сквозь потоки воды. Знакомая картина. Однажды она вот также смотрела на призрачный Лондон сквозь залитое дождем стекло. У нее есть еще время, чтобы задуматься над бренностью бытия. Она выходит из-под душа и вытирается банным полотенцем. Анук одевается перед зеркалом, покрытом подозрительными пятнами. Она собирает мокрые волосы на затылке в конский хвост.
Одевшись, она поворачивается к Стиву, который терпеливо ждет ее, негромко посвистывая.
– Со мной случилась ужасная история, – говорит она по-французски. – Глупее не придумаешь. Слава Богу, я могу говорить с вами на французском языке.
Он поглядывает на свою обувь, продолжая тихонько насвистывать какую-то мелодию. Похоже, что ему пришлось бросить в багажник и ботинки. Его сексуальная привлекательность бросается ей в глаза.
Она идет в атаку:
– Я не могу говорить с человеком, который свистит.
Он уже не свистит.
– Я совершила непростительную глупость, – говорит она уже не таким решительным тоном.
– И это все, что вы хотите сказать мне?
Он снова принимается насвистывать…
– Я влюбилась в вас, – говорит Анук. – И это меня бесит.
– Вольному воля… – говорит он, поднимаясь. – Влюбиться в меня – не самое лучшее, что вы могли придумать.
– Не могли бы вы хотя на секунду обнять меня, – произносит она низким голосом по-французски.
Он подходит к ней. От него исходит запах свежести.
Она прижимается к нему и шепчет:
– Я влюбилась в вас… Мне хочется жить с вами в одном доме, стричь газон, смотреть телевизор… И плевать я хотела на Дороти… Меня смущает только твой сын… Непреодолимое препятствие… Нельзя разрушить семью, в которой есть больной ребенок…
– Вот как, – произносит он.
Неожиданно он переходит на английский язык, словно хочет спрятаться за привычными словами. По-французски они звучат слишком откровенно и провокационно. Как женщина, разгуливающая нагишом перед пресыщенным любовником.
– Что? – спрашивает она. – Что?
– Вы не одна участвуете в этом деле… Вам кажется, что встретили любовь с большой буквы? На следующий день вы о ней и не вспомните. Однако вам в голову не приходит спросить меня о том, отвечаю ли я взаимностью?
– Вы никогда не полюбите меня, – с грустью отвечает она. – Я чувствую это. Вы любите Дороти, Дакки. К тому же я, как женщина, не в вашем вкусе… Вы подошли ко мне лишь потому, что надеялись на короткое любовное приключение. И вы получили все, что хотели…
Он смотрит на нее, словно размышляя о чем-то своем.
– Что вы знаете о том, какие женщины в моем вкусе?
– Ничего, – говорит она. – Ровным счетом ничего.
Она поднимает голову и произносит:
– Вы уже поддерживаете одного нравственного калеку, вашего друга Фреда. Запишите меня в список нуждающихся в вашей помощи. Вы тот человек, который мне нужен для восстановления душевного равновесия. С вами я чувствую себя в полной безопасности… Что вы на это скажете?
– Помочь вам обрести душевный покой… Однако вы должны сделать признание… Совсем маленькое… Скажите, что заставило вас сделать на шее эту татуировку?
– В знак присоединения к пацифистскому движению. Эти блаженные – единственные люди, которым я верю…
– И вы выбрали именно этот символ?
Стив легонько касается ладонью ее шеи. Какое блаженство кожей чувствовать его прикосновение!
Она смотрит ему в глаза.
– Стив?
Она чувствует, как пульсирует вена на ее шее.
– Да?
– Мне не дает покоя одна идиотская мысль… Прошу прощенья. Мне порой кажется, что вы хотите свернуть мне…
– Свернуть? Что? – спрашивает Стив.
Он изучающе смотрит на нее.
– Шею… Идиотская мысль…
Он, словно ошпаренный кипятком, разжимает ладонь.
– О! Боже! Женщины… Что только не приходит им в голову… Пошли скорее отсюда… Пока вы не придумали еще какую-нибудь глупость.
– Прости меня, Стив, – говорит она по-французски.
Она следует за ним. Улица встречает их нестерпимым зноем. Такая же духота в машине. Стив включает кондиционер.
Машина плавно трогается с места. Мужчина за стеклянной дверью бросает на них равнодушный взгляд. Он вовсе не видит их. Просто они попали в его поле зрения.
– Только не говорите Фреду о том, что только что сказали мне, – произносит Стив. – У него не такие крепкие нервы, как у меня. К тому же он совсем не знает француженок… Главное, не надо расспрашивать его о войне… Лучше расскажите ему о Париже… Возможно, ваш рассказ покажется ему интересным…
Позднее, уже на дороге, серой лентой извивающейся перед ними, он говорит:
– Моя единственная любовь – это…
– Что? – спрашивает она. – Что? Кто?
– Нью-Йорк.
И продолжает низким голосом:
– Я испытываю к Нью-Йорку особые чувства…
– Вы влюблены в этот город? – повторяет она свой вопрос.
– Для меня Нью-Йорк – единственная женщина, которая меня по-настоящему зацепила, – продолжает Стив.
Анук, словно зачарованная, вслушивается в американскую речь. Она звучит для нее как мелодия. Стив произносит нараспев слова. И она испытывает почти физическое наслаждение только от одного звука его голоса.
И, как бы рассуждая вслух, Стив продолжает:
– В Нью-Йорке жизнь бьет ключом… Огромный густонаселенный город. Вот где испытываешь подлинное одиночество. В плотной толпе ощущаешь себя более одиноким, чем Робинзон на своем острове. И никакой надежды на Пятницу… Одиночество посреди огромного города… В три часа ночи на Шестой авеню от неонового освещения светло как днем и совершенно безлюдно. И только одинокий прохожий нарушает своими шагами полную тишину… Это я…
– А что же Дороти?
Стив смеется.
– Она спит. В своем пригороде. Я же не каждый день совершаю такие прогулки… Лишь иногда… Мой глоток свободы… Нью-Йорк. Ночь. Одиночество.
Неожиданно она наклоняется и целует руку Стива. Ту, что держит руль…
– Осторожно, – говорит он сухим тоном. – Так можно попасть в аварию.
8
Пуэрториканка сверлит глазами темноту захламленного холла старого, в прошлом весьма импозантного дома, стоящего на 16-й улице. Тесное пространство, едва освещенное подслеповатой люстрой, превратилось для нее в воплощение вселенной.
Прислонившись к косяку застекленной двери, она наблюдает за молодым человеком. Квартиросъемщик названивает по телефону с такой упрямой настойчивостью, словно речь идет о его жизни и смерти. В порванных серых джинсах и мокрой от пота майке он с самым беззаботным видом беспрерывно накручивает диск телефона. Похоже, что ему совсем некуда спешить. Ему отвечают, он слушает и затем быстро вешает трубку. И все повторяется с начала. В тусклом свете телефонной кабинки силуэт молодого человека время от времени меняет свои очертания. Он то распрямляет спину, то раскачивает головой из стороны в сторону, словно находится под действием таблетки, которую он только что проглотил. Длинноволосый, с неровной кожей, он похож на падшего ангела, спустившегося в ад и устроившего там дебош.
Пуэрториканка смотрит на него тяжелым недобрым взглядом. Всей душой она ненавидит этого говнюка, сынка богатых землевладельцев из Техаса, недоумка с карманами, набитыми деньгами и наркотой. Она с удовольствием сняла бы с него живьем шкуру. И смотрела бы, как он корчился в смертных муках. Его приятели под стать ему: такие же патлатые говнюки, плюющие на всех и вся. Эти отбросы живут припеваючи. У них нет проблем. Они родились американцами. Они никогда не знали нищеты и эмиграции. Родители снимают своим дебильным отпрыскам меблированные квартиры в Вашингтоне, снабжают их деньгами, на которые те жируют, бездельничают и обкуриваются марихуаной.
И кому только может названивать этот сукин сын? Он произносит одни только междометия: «Ага, ага, ага…» И тут же заливается идиотским смехом. По какому праву он занимает телефонную кабинку, принадлежащую всем жильцам этого дома? И что будет, если вдруг ей позвонят из полиции…
Однако из полиции никогда не звонят, к великому сожалению пуэрториканки. Она побежала бы в полицию по первому же зову. Не тут-то было! «Все полицейские помешались на свободах. Взять, например, Джорджтаун, где можно брать под стражу поголовно всех молодых говнюков и посылать на принудительные общественные работы. Полиции же до них и дела нет. Полицейские спокойно проходят мимо, обращая внимания на них не больше, чем на грязь под ногами: стражи порядка вмешиваются лишь в тех случаях, когда происходит настоящее кровопролитие».
Пуэрториканка испытывает к полиции самые теплые чувства. Она практически не отходит от телефонного аппарата. Она видит в нем свою единственную защиту от этих мерзких отбросов общества. Женщина наизусть знает номер телефона полиции. Она заставляет заполнить карточку всякого, кто входит в этот дом. Ей кажется, что через эти ничего не значащие клочки бумаги она приобщается к власти над людьми. «Друг детства мадемуазель Мюллер написал “Дюпон”», – размышляет она, впившись цепким взглядом в падшего ангела, трясущегося от смеха в телефонной кабинке. Пуэрториканка настолько запугана им, что не решается прервать бесконечный телефонный разговор.
Несколько дней назад посреди ночи эти мерзавцы едва не разбудили весь дом. Они с шумным гоготом ворвались в холл. «Нельзя ли потише», – не успела крикнуть она, как они развернулись и пошли на нее стеной. Расстегнув ширинки на джинсах, со свисающими как толстые мертвые черви членами, выкрикивая грязные ругательства, они подошли вплотную к ее каморке. Пуэрториканка едва смогла захлопнуть перед ними застекленную дверь. Спрятавшись за рваной занавеской, она уже не могла разобрать бранных слов, выкрикиваемых этими выродками по другую сторону двери. «И для этого я получила американское гражданство? – задавалась она вопросом. – Для чего я работаю консьержкой в престижном доме и являюсь осведомителем в полиции, которая, увы, пренебрегает своими обязанностями?» В ужасе она смотрела на орущую толпу распоясавшихся хулиганов. Она заткнула уши, а они все продолжали бесноваться на площадке перед ее дверью.
Они видели, что она трясется от страха. Пуэрториканка прекрасно понимала, что на их стороне численное превосходство, и ей ничего не оставалось, как заткнуться. И на будущее воздерживаться от каких бы то ни было замечаний в их адрес. Эти мерзкие твари нарушают покой и подвергают опасности проживание в этом доме таких законопослушных жильцов, как мадемуазель Мюллер. Поведение последней настолько безупречно, что порой кажется, она делает это нарочно, чтобы поставить себя выше окружающих. И чем больше бесчинствует молодежь, тем корректнее ведет себя мадемуазель Мюллер. К тому же она еще делает ей маленькие подарки. Что и говорить, прекрасная женщина.
Пуэрториканка время от времени пытается затеять разговор с немкой. Все в этом городе охвачены страхом, но боятся открыто признаться в этом. Люди скрывают, что подверглись агрессии, словно речь идет о случаях заболевания оспой. «Я кого-то боюсь? Чего мне бояться? А вы боитесь? Чего же?» Все здесь играют одну и ту же комедию. «Мадемуазель Мюллер, вы не боитесь возвращаться домой в восемь часов вечера? Вам страшно, не так ли? Не показались ли вам опасными две или три минуты ходьбы от оставленной на стоянке машины до подъезда дома?» И что странно – чистоплотная до абсурда немка – с пренебрежительной улыбкой каждый раз повторяет: «В Берлине я видела кое-что и похуже… Чего мне теперь бояться в Вашингтоне? Что мне вонзят в спину нож? И что же? В моей жизни будет поставлена точка. Только и всего… У каждого своя судьба».
Пуэрториканка вспоминает, как однажды она спросила у немки: «Что вы скажете об изнасиловании? Неужели вы не боитесь насильников»? – «Мадам Ажейро, вам везде мерещатся ужасы… В Берлине все женщины боялись, что их изнасилуют… Неужели вы думаете, что я получила американское гражданство, чтобы бояться чего-то?» – «У этой чертовой немки, – думает пуэрториканка, – только Берлин на языке». Однако смерть господина О’Коннелли выбила ее из седла. Куда делось ее высокомерие и постоянные ссылки на Берлин. Несколько секунд, согнувшись пополам, немка выла, как собака по покойнику.
А говнюк-то не перестает накручивать телефонный диск. Было бы рискованно приближаться к нему. Он способен вынуть свой большой белый болт и потрясти им перед ее носом! С улицы доносится резкий вой полицейской сирены. Этот звук, бьющий по нервам словно электрический разряд, успокаивает пуэрториканку. Толстый кулек с конфетами тает на глазах. Старая треснутая пепельница наполняется разноцветными фантиками. Одну за другой она отправляет в рот и тщательно разжевывает конфеты. Ей хочется смаковать их вкус. Конфеты напоминают ей мадемуазель Мюллер: такие же гладкие и несладкие… Она заслуживает наказания. Мадемуазель Мюллер. Надо ее немного проучить… Она не имеет права ничего не бояться в этой жизни…
«Что могут сделать мне эти сопляки? – сказала она однажды. – Я выжила в условиях военного времени. Неужели меня могут испугать какие-то обкуренные марихуаной мальчишки?»
«Неужели, – спросила пуэрториканка, – вы не боитесь смерти?» Немка только рассмеялась ей в лицо: «Смерти? Вы шутите? Я видела столько трупов… В Берлине… Смерть по-немецки». – «Так что же вас может напугать, мадемуазель Мюллер? – не сдавалась консьержка. – Не может быть, чтобы вы ничего не боялись?» – «Беспорядка, – ответила немка с неожиданной тоской в голосе. – Вот чего я боюсь… Только не смерти… Я слишком часто встречалась с ней лицом к лицу…»
В холле появляется красивая молодая негритянка. Девушка прикрывает за собой дверь. Она останавливается как раз в том месте, где подслеповатая люстра слегка рассеивает мрак. Парень в телефонной кабинке складывает губы в трубочку, словно присвистывая от восхищения.
Пуэрториканка не спешит выходить из своей каморки. Она уже видела здесь однажды эту чернокожую красавицу. Это дочь врача, с которым дружит мадемуазель Мюллер. Немка поселилась на 16-й улице, где белые и черные живут вперемешку, в то время как в соседних переулках проживает исключительно чернокожее население.
– Что вам угодно? – спрашивает консьержка.
– Я иду проведать больного, который находится в квартире мадемуазель Мюллер. У меня есть ключ…
Она разжимает кулак, на ее ладони блестит ключ. Маленький ключик на розовой ладони.
– Проходите.
Девушка направляется к лестнице. Говнюк из телефонной кабинки посылает ей воздушный поцелуй. «Ты мне нравишься», – произносит он за грязным стеклом.
Терпению пуэрториканки приходит конец. Что позволяет себе этот выродок? Он изображает галантного кавалера перед этой высокомерной чернокожей девицей? «Однако и меня нельзя назвать по-настоящему белой женщиной», – бормочет пуэрториканка. Она принадлежит к той группе населения, которая называется цветной. «Ни черная, ни белая, кофе с молоком, – рассуждает она. – Когда негритосы поубивают всех белых в Вашингтоне, я останусь цела и невредима, потому что у меня не белая кожа». «Они никого не убьют, – сказал ей однажды один ирландец, хорошо разбиравшийся в этническом вопросе. – Никого. Они победят количеством. У них слишком высокая рождаемость. Наступит день, когда белый человек посторонится и уступит дорогу негру. Вот тогда Вашингтон станет городом чернокожих. Целиком и полностью. С Белым домом посреди зеленого парка». «Уже сегодня, – размышляет пуэрториканка, – президент покидает свою крепость исключительно на вертолете. Если бы я была их президентом…» Однако она и сама не знает, чтобы она предприняла, оказавшись на месте президента.
Молодой техасец, кажется, уже заснул в телефонной кабинке. Трубка висит в воздухе. «Алло, алло…» Кто-то безуспешно пытается докричаться до него.
Чернокожая красавица неторопливо поднимается по широкой лестнице этого видавшего и лучшие дни дома колониальной постройки. Девушка неторопливо переступает со ступеньки на ступеньку, как пешка, выбирающая себе место на шахматной доске.
Пуэрториканка резким движением распахивает дверь своей каморки. Она словно сорвалась с цепи. Едва не сломав дверцу телефонной кабинки, консьержка хватает за шиворот молодого человека и тащит его волоком в едва освещенный холл.
– Негодяй, мерзавец…
Парень сидит на полу перед телефонной кабинкой. Его голова раскачивается то вправо, то влево. Он летает. Проклятая пуэрториканка вторглась в его яркие, насыщенные красными, зелеными и лиловыми красками, видения. Жирная свинья разбила вдребезги его разноцветный стеклянный дворец. Подлая шлюха нарушила его прекрасный сон! Он только что парил в пустоте и мог коснуться рукой сверкающих звезд. Что она с ним сделала?
Молодой человек пытается выпрямиться. Силуэт пуэрториканки расплывается перед его глазами в одно лиловое и зеленое пятно.
– Мои друзья разорвут тебя в клочья, – произносит он заплетающимся языком. – Оставь меня в покое, толстая свинья.
Чернокожая красавица с верхней ступени лестницы с полным безразличием взирает на потасовку консьержки с белым парнем. Она презирает их всех, вместе взятых. Пожав плечами, девушка исчезает за последним поворотом лестницы, ведущей к площадке, на которой находится квартира мадемуазель Мюллер.
Молодой человек еще не пришел в себя после радужных видений. Ему кажется, что его грубо столкнули в пропасть. Он кричит как резаный.