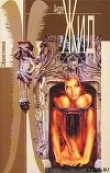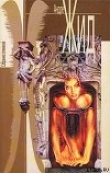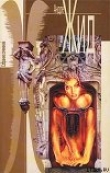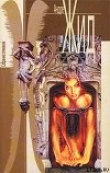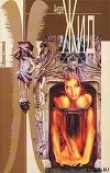Текст книги "У бирешей"
Автор книги: Клаус Хоффер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
В тетушкиной кровати
Закинув руки за голову, лежали мы рядом в супружеской кровати, каждый на своей половине. Ни один из нас ничего не говорил; затем она вынула одну руку из-под головы; ее голос звучал мягко, когда она позвала меня перебраться к ней. Я медленно переполз на ее половину и, в смущении, улегся там под тяжелым одеялом, которое едва согревало. А она только обвила рукой мою грудь и тут же, посапывая, заснула.
От пыли, скопившейся в давным-давно не проветривавшейся спальне, у меня заложило нос. Низкая луна сияла в окне, которое тетя оставила открытым. Пронизывающий стылый воздух, от которого кожа натягивалась так, что готова была лопнуть, нескончаемой волной вливался в комнату. Из-за непривычной близости женщины, которую я едва знал и властные манеры которой мне не нравились, уснуть я не мог. Я вспоминал прошедший вечер. Я думал об одной книге, которую когда-то прочитал за одну ночь, обидевшись на мать. «Неправда!» – громко произнес я. Тетушка за моей спиной пошевельнулась. И как она только могла спать? Неужели ей ни чуточку не было страшно? Я думал о Цердахеле и спрашивал себя, не было ли его опьянение притворным. У меня было ощущение, что в иные минуты он мне лгал. Я представлял себе его лицо: сначала – длинный нос с горбинкой, маленький рот с губами, сложенными трубочкой. У него была выдававшаяся вперед ороговевшая родинка, вроде маленькой круглой пуговицы, пришитой между бровями. Могло ли это лицо принадлежать лжецу? Я не знал. Так я и лежал не смыкая глаз, меж тем как тетушка у меня за спиной тихо храпела, а иногда потягивала носом, как собака. Когда явятся крестные? Который, вообще, час? Час ночи? Три? Маленький колокол, подвешенный, казалось, прямо над ухом, дал ответ: была половина второго. Ничто не шелохнулось. Значит, они не придут. Я торжествовал. Было чуть больше половины четвертого, когда я наконец уснул с открытыми глазами.
Ранним утром оказалось, что уже нет шести стульев, круглого стола, комода и моего зонтика, припрятанного тетушкой под лестницей. Содержимое комода – в основном фотографии, а также старая потрепанная кожаная сумка на ремне и ржавый дядюшкин пистолет времен службы в вермахте – все было вытряхнуто на пол. Исчезли кухонные весы, а также верхняя часть белого лакированного буфета и большая залатанная кастрюля для консервирования. Они, должно быть, являлись сюда два раза, а я ничего не слышал!
Стола нам особенно недоставало. Вчера вечером мы сидели за ним, когда тетушка пожелала снабдить меня последними инструкциями, – вскоре после того, как все гости разошлись и мы привели бальную залу в порядок. «Отныне – отметила утром тетушка, когда мы поглощали завтрак, стоя в опустевшей кухне у широкого подоконника, – нам придется довольствоваться теми временными сооружениями из досок и козел, которые вчера были расставлены для крестных в зале».
«Пат бирешей»
«Подойди-ка сюда, Ханс, – произнесла тетушка накануне вечером в качестве вступления и подвинула стул так, чтобы я сидел прямо против нее и мы почти упирались друг в друга коленками. – Сейчас я должна сказать тебе что-то очень важное». Ее голос был глухим и грубым, и что-то в ее поведении подсказывало мне: за этим последует нечто крайне неприятное. Очевидно, она опять угадала мои мысли, так как поспешно добавила: «Не бойся, для тебя ничего плохого в том нет!» – «Слушаю, тетушка», – сказал я. «Цердахель, – начала она, – сообщил тебе сегодня много такого, что очень и очень пригодится тебе в будущем, но, как сам понимаешь, он рассказал далеко не все. Он, действительно, отлично разбирается в именах, тут у него в голове все так упорядочено, как вряд ли у кого другого; вероятно, он ни слова не проронил о монотонах – но о них тебе завтра расскажет Наоборотистый; к тому же ты, определенно, еще понятия не имеешь о зеркалах. Это по части Йеля Идезё, но и мне тоже необходимо рассказать тебе о них хоть немного». Я молча кивнул, озадаченный тем, что тетушке было досконально известно содержание речей Цердахеля, как и тем, что она открыто признавала обстоятельство, до сих пор ускользавшее от моего понимания, а именно, что меня здесь, по-видимому, собирались передавать из рук в руки как ребенка, который получает один урок за другим, чтобы под конец сделаться к чему-то пригодным. «Видишь ли, – опять заговорила тетушка, – многое из того, что ты сегодня услышал от еврея, и из того, что я еще намерена тебе сказать, поначалу покажется запутанным и неясным, потому что у тебя пока еще “спящее око”, как тут у нас выражаются. Но вскоре ты освоишься чуть лучше и перестанешь так ненавидеть нас. Ты ведь ненавидишь нас, Ханс!» – с укоризной сказала тетушка. Я помотал головой, хоть это была правда. За прошедший вечер к моему горлу не раз подступала ненависть, непривычная и омерзительная, как рвотный позыв. «Учти, Ханс, – озабоченно сказала тетушка, – ты тоже должен постараться понять нас. Что нам остается делать? Над нами, с самого первого дня, тяготеет проклятие! Каждая строка, каждое отдельное слово в наших Книгах проклинает биреша. “Тоску по родине испытываешь лишь дома”, – говорим мы, потому что нам отсюда никуда не деться, потому что мы навеки заперты в лабиринте нашей злосчастной истории, истории бирешей. Наша тоска по родине – тоска по себе самим. Ведь никому у нас не дано быть таким, каков он есть; всякий лишь отражает свойства своего окружения. Наше общество не раз уподобляли пчелиным сотам, и что-то в этом сравнении есть. “Вынь хоть одну, – часто говорит Цердахель, – и ты разрушишь все искусно возведенное сооружение!” Если у вас, в вашем мире, кто-то спрашивает, кто он такой, он получает ответ, который ему причитается, пусть не всегда самый лестный. У вас больше свободы действий. Здесь все иначе: мы теснее связаны между собой, если рассуждать исторически. Стена, ограждающая тебя с внешней стороны, – это стена твоего соседа. Если она расступится, ты вовсе не станешь свободен, а только очутишься в соседнем доме. В Книгах есть место, где именно о том и говорится. Оно называется “Тот, кто задает вопросы”, или, иначе, “Взгляд в зеркало”. “Перемена, – сказано там, – в чем она заключалась? Трудно сказать. Что-то соскользнуло. Я сидел в тепле и на свету, попыхивал трубкой, смотрел на теплую освещенную стену, как вдруг где-то соскользнуло что-то крошечное, что-то совсем крошечное. Шурх – урх – урх – СТОП! Надеюсь, я ясно выражаюсь” *. Сейчас не имеет смысла пересказывать тебе весь текст. Однако главное в нем то, что некоторые вопросы никогда нельзя задавать, потому что они угрожают целостности того, что существует. Дело тут, впрочем, не в самих вопросах, а в спрашивающем. Наоборотистому, например, позволительно всегда и обо всем спрашивать. Его вопросы – в принципе безобидные. А другой и одного вопроса задать не смеет, так как вопросы его равны насилию и на корню уничтожают любые ответы. У нас здесь поддерживается хрупкое равновесие, и уже поэтому я вынуждена просить тебя: не будь несправедлив к нам. Одно-единственное твое сумасбродное, поспешное слово способно всех нас ввергнуть в несчастье, в том числе и тебя самого, потому что в течение года ты принадлежишь нам. Ты – один из нас и всегда останешься таковым. Всякий понимает, что в настоящий момент у тебя в мыслях нет и не может быть ничего другого, как желания поскорее убраться отсюда. Но ведь и со мной то же самое, каждую минуту! И с Цердахелем, и с Де Селби – то же. И мы все равно остаемся. Наверное, ты пока не в состоянии этого понять, но и с тобой едва ли произойдет иначе. Ведь одно понимаешь очень скоро, и ты сам давно уже понял это, пускай пока еще не вполне осознал. Надежды не существует. Небо над нами, бирешами, затянуто тучами. Но есть одно утешение: жизнь, которой мы здесь живем, более достойна человека, чем любая другая. Сейчас ты значительно больше похож на человека, чем шесть часов назад. Ты уже не такой жесткий и неумолимый!» – тетушка подалась вперед на своем стуле и положила руки мне на плечи. Она твердо посмотрела мне в глаза и сказала: «Мы забуксовали на дороге истории. Не существует ни “до”, ни “после”. Нет ни прогресса, ни регресса.
И никто не умеет помочь. Так сказано в Книгах, и это верно. “Тайна вашей работы, – гласит один текст, – заключается в том, что она является вашим невинным отражением, и вы в том повинны!” Это важное положение, хотя нашему с тобой пониманию оно труднодоступно. В сущности, эти слова заключают в себе то, что Лампочка называет “патом бирешей”. Что он имеет в виду? Сейчас я тебе объясню», – сказала тетушка. «Сначала выслушай текст до конца. Дальше там говорится: “Таким образом, ваша работа производит вас – вас, которые ее совершают. Сама по себе добродушная, она становится злой, потому что ее сущность перерождается в то, что вы выдаете за свою собственную сущность, хотя на деле это лишь ваша ошибка!” Звучит, пожалуй, сложновато, но это правда. Выражаясь другими словами, упрощенно, но все же не искаженно: то, что ты делаешь и как ты это делаешь, то, что все мы делаем и как мы это делаем, – все это усваивается нашими творениями, переходит в них. Подобное ощущение можно сравнить с тем, как один подает другому руку – и чувствует, что благодаря тому сделался другим. А Лампочка, что он говорит? Лампочка говорит, что рукопожатие – жест обоюдный. Ты, конечно, уже заметил, как много труда вкладываем мы даже в самые малые, порою неприметные вещицы – вспомни рукояти своей тачки, рассмотри завтра повнимательней бильярдный кий На-оборотистого! Глядя на все это, понимаешь, сколь правдиво то, что сказано в Книгах. Мы сами вкладываем себя в вещи, мы – частица нашего труда. Пускай иной раз может показаться, будто мы без малейшего почтения относимся к тому, что создано нашими предками, однако в действительности все наоборот. Когда будешь разносить почту, обрати внимание на то, с каким самозабвением биреши иногда сидят и глядят на какой-нибудь рубанок или гаечный ключ, который держат в руках. Им слышны речи вещей, их разговоры. У нас такое называется “Он слушает голос отца”. Внезапно тот, кто сию минуту сидел погруженный в себя, вскакивает, отшвыривает от себя предмет и бежит прочь. “Отец рассердился”, говорим мы в таких случаях. “Причина, что у нас отсутствует прогресс, – утверждает Лампочка, – заключается в том, что мы, созерцая вещи, сами становимся вещами, а благодаря им – самими их делателями!” Жизнь шаг за шагом обучает нас тому, чтобы превращаться в наших предков, а те, что придут после нас, будут такими же, как мы. В подобные мгновения люди соединяются братскими узами. И в этом – наше счастье. Сейчас ни о чем меня не спрашивай, спросишь позже!» – прервала тетушка свою речь, когда я чуть подвинул свой стул, чтобы сесть поудобнее.
«В таком случае вообще трудно понять, как может существовать несчастье, – продолжала она. – Но и несчастья неимоверно много. Оттого, что в наших головах все уложено рядком, одно к другому; оттого, что для нас нет ничего более естественного, чем связывать одно с другим; оттого, что чувство братского единения пробуждает кощунственное желание безраздельной гармонии! “Стало быть, работа – твое зеркало, – говорится дальше в том тексте, – а потому ты обязан дважды разбить зеркало: один раз – за его перевернутый образ, другой раз – за его блеклость!” Противоречие? Ничуть. Но так уж это место перетолковали. Виновны в том были минимы и мальхимы *. Первые на основании приведенных строк провозгласили, что избавление лежит далеко позади нас, что гибель неизбежна, что всякий взгляд, брошенный на пагубный мир, ввергает нас в еще большую пагубу; основное значение они придавали первой из двух составляющих. Другие делали противоположный вывод: надлежит все разбить, полагали они, прежде чем что-то самое малое станет способно сделаться лучше. Но ничто не становится лучше, ничто не становится хуже. То, что было, то и есть, а то, что есть, – пребудет. История – это всё и вся уравнивающая несправедливость, “пат бирешей”. “Остается-как-было” – такое имя у нас часто встречается. Так следовало бы зваться Ослипу. Моему Ослипу!» Я насторожился. Упоминание этого имени не предвещало мне ничего хорошего, и в самом деле, тетушка тут же начала как-то дергаться на стуле, тело ее сводили судороги. «Самая большая трудность для всех всегда состояла и состоит в том, – сказала она и тут же отвлеклась, заметив: – «Не смотри на меня так! Самое трудное – видеть вещи такими, как они есть, и такими их оставлять. Ну как можно хоть что-то понять в этой жизни, если постоянно норовишь всюду залезть своими руками? Выдерживать то напряжение, какое возникает между всеми вещами на свете, – большое искусство. И мы, биреши, продвинулись в этом искусстве значительно дальше других. “Твой взгляд – его магнит. Он притягивает все, что находится в пределах достижимости”, – говорится у нас, и, поскольку мы осознали эту опасность, мы научились сближать полюса, пригибать их один к другому. Наша вина – иного рода: “Пеките хлеб из зерна моих слов”, – иронически советуют Книги. Наша вина, вина таких людей, как Цердахель, была и есть в том, что они смешивают священное с нечестивым». Теперь тетушка говорила сбивчиво и неясно. При этом она качала головой из стороны в сторону, и создавалось впечатление, будто причиной тому была некая не поддающаяся контролю сила, идущая изнутри нее, будто в ее голове перекатывался туда-сюда большой тяжелый металлический шар, соскочивший с опоры. «Ты только представь себе: в Цагерсдорфе – он прежде назывался “Тюкёрсабо”9 (то есть “Резчик по зеркалу”) – и в Траусдорфе, который в действительности зовется Тругсдорф 10, – почти кричала тетя, – на имена наброшены покровы лжи! Так вот, биреши соорудили в этих местах огромные мастерские по изготовлению зеркал. До чего же это отвратительно, пошло!» – тетушка будто выплевывала слова, и вместе с ними изо рта вылетали брызги слюны. Она говорила с таким пылом, что можно было подумать: упомянутое беззаконие совершается в данную минуту, в нашем присутствии. «Мы предавались запретным экспериментам. Мы изготовляли зеркала, с помощью которых производились самые нечестивые фокусы, какие ты только можешь себе вообразить. Мы изобрели средства, позволявшие делать зеркала, которые никогда не тускнели и в которых все отражалось не перевернутое справа налево, а так, как оно есть на самом деле. Были и такие зеркала, которые подмигивали, когда в них смотрели. Или зеркала, которые днем оставались чернехоньки, а ночью отображали картины, сияющие яркими красками! Бирешские зеркала! Зеркала, которые пропускали образ сквозь себя и показывали его только с тыльной стороны. Мы обратили чистейшие тексты в грязные деньги. А все отчего? Оттого, что желали найти утешение, награду за наши лбы, в кровь разбитые о стены Книг. “Тексты суть лабиринты, – говорил Гикатилла, – сначала – ровный, искрящийся поток со спокойной водою, спокойным течением. Но будь осторожен! Не заблудись в колеблющихся тростниках знаков препинания! Опасайся расставленного силка запятых! Бесконечные переходы ведут от точки до точки. Тонкому льду подобно каждое тире – через его зеркало ты смотришь в темноту!” Слова – это зеркала, а предложение – зеркальная комната. Пожелай мы действительно познать мир, наши головы должны были бы стать огромными, под стать самому миру! А на самом деле размер головы – смехотворно маленький в сравнении с ним!» – тетушка поднялась с места и в такт своим словам яростно забегала туда-сюда, словно обнаружив, что находится взаперти. Но понемногу она снова начала успокаиваться. «Наоборотистый все-таки прав! – сказала она. – Пойдем спать».
Йель Идезё
Воспоминания прошедшего вечера стояли передо мной отчетливо и ясно, как сон наяву, когда я пытался нагнать Де Селби, который, значительно опередив меня, шагал к дому шкуродера. В пространстве воспоминаний я передвигался легко и просто. Казалось, кто-то приоткрыл во мне некое окошко – окно, через которое я не только мог все видеть, но и по собственному желанию подтаскивать вещи поближе, чтобы лучше их разглядеть.
Вдали передо мной, пока я предавался мечтаниям, ныряла какая-то маленькая черная точка, но мне трудно было разобрать, действительно ли это был служка. Догнать его не представлялось возможным из-за того, что я делал остановки у домов бирешей, и на это неизбежно растрачивалось время, часть которого я умудрялся отыграть на прямом участке пути. Я звал служку, выкрикивал его имя так часто и громко, как только мог, но, видимо, ветер уносил мой зов; во всяком случае, даже в домах, до которых мой голос определенно должен был долетать, никто и ухом не повел. В итоге я перестал думать о черном пятнышке, списав его на обман зрения. Когда я наконец достиг дома Йеля Идезё, стоящего поодаль от деревни в маленькой котловине, я заметил голову Де Селби, как раз исчезавшую в низинке передо мной. Выходит, это все же был он и, конечно же, он слышал мои крики, но все-таки упрямо, как обиженный ребенок, шагал по дороге дальше, будто тем самым желая меня наказать.
Йель Идезё числился у бирешей, обитателей Цика, шкуродером * и заодно могильщиком. Его жалкая сырая лачуга совершенно отвечала тем понятиям и предрассудкам, какие для большинства связываются с его профессией. Это была тесная хибарка, сколоченная из грубых досок, снаружи кое-как обляпанных глиной. В проеме двери, открывавшейся наружу за недостатком места внутри, стояла жена шкуродера; она только что пригласила Де Селби пройти в дом. За нею, в тени, стоял сам шкуродер. Женщина была маленького роста, а он был еще на голову ниже и, в отличие от нее, выглядел вконец изможденным. Его лоб наискось пересекал красноватый шрам от стреляной раны, кончавшийся у переносицы. «Входите, входите!» – произнес он, вцепился обеими руками в мою правую руку и не выпускал ее, пока не привел меня в комнату, служившую гостиной и спальней, – там за откидным обеденным столом у стены уже сидел Де Селби.
Руки у могильщика были длинные, тощие, но очень сильные. Они производили впечатление протезов. Комната была пропитана устоявшимся сладковатым запахом ароматических палочек, изготовлением которых Йель Идезё занимался в порядке хобби. На столе лежала вещественная улика Де Селби – мертвый пес. Мне уже через считанные мгновения стало тяжело дышать, и я начал искать взглядом окно, которое можно было бы приоткрыть. Но единственное имевшееся в комнате отверстие – маленький, почти квадратный четырехугольник – было заделано неподвижной застекленной рамой. Стекло было толстое, рифленое; оно хоть и пропускало свет, но исключало возможность выглянуть на улицу. Уже в магазине Наоборотистого я обратил внимание на такие же крохотные окна. Вероятно, они были сделаны такими, чтобы воспрепятствовать мечтаниям, которым способствует взгляд из окна наружу. Я сидел, зажав руки между коленей, на неудобном деревянном стуле, похожем на табуретку, и продолжал оглядывать помещение, все четыре стены которого были от пола до низкого потолка покрыты фотографиями, державшимися на булавках. Каждое фото казалось окном в унылую окружающую действительность и унылое прошлое. «Мы уже слышали о вашей беде», – прервал мои размышления Йель Идезё, причем я сразу отметил для себя, до чего ловко удалось ему одной-единственной фразой провести разграничение между переговаривающимися сторонами. Он продолжал свою речь, часто сбиваясь и путаясь, – так, будто у него было крайне мало времени. Попутно он то и дело хватался за разные предметы, стоявшие на столе. Мы едва умещались в маленькой комнате, а потому жена шкуродера сидела на низкой кухонной табуретке в узкой прихожей, которая вела от комнаты к входной двери. «У нас тут малость тесновато, – сказал Йель Идезё, – но это ничего, не беда!»
Четвертый продолжительный разговор
В продолжение всей нашей беседы (впрочем, говорил почти исключительно могильщик) Де Селби не произнес ни слова; что же касается меня, я лишь изредка перебивал говорившего отдельными вопросами. Йель Идезё то и дело почесывал шерсть пса своими короткими, напоминавшими когти пальцами, движения которых выглядели мягкими и уверенными, вероятно, из-за гладкости его кожи. При виде этих непроизвольных движений на глазах у служки навертывались слезы. Когда шкуродер это заметил, он сказал с таким видом, будто не желал упустить хорошее дельце: «Мы вам, почтеннейший, другого раздобудем! Если хотите». Де Селби только покачал головой и тоже прикоснулся рукой к животному и погладил его. Во время всего дальнейшего разговора его рука, мертвенно неподвижная, покоилась все на том же месте. «Я его еще сегодня схороню, – произнес шкуродер в качестве вступления, – на заходе солнца, самое время».
Дальше он разговаривал исключительно со мной, хоть и не обращался ко мне прямо; и в продолжение двух с половиной часов ни на секунду не сводил с меня глаз. После тетушкиных разъяснений я этому больше не удивлялся: он ведь выступал в роли учителя, с особой ответственностью относившегося к своей задаче, но тем большее сопротивление вызывало у меня все, что он говорил.
Шкуродер начал издалека. Он рассказал нам о том, что раньше в этой местности для мертвой домашней скотины сооружали особые деревянные помосты, наподобие охотничьих лабазов. А человечьи тела хоронили в сидячем или стоячем положении в подземных нишах, специально устраиваемых в глине и имеющих наверху отверстия вроде каминных выходов – эти дыры предназначались для душ. Меня раздражало, что он вот так бесцеремонно в присутствии Де Селби повествует о каких-то давнишних похоронных ритуалах, нимало не заботясь о состоянии служки. Оттого каждый раз, когда он делал короткую паузу, наступало неприятное, тягостное молчание, нарушавшееся лишь теми шорохами, какие издавал Де Селби, то складывавший, то распрямлявший руки. «По моему мнению, это были очень разумные установления, – продолжал Йель Идезё, не обращая внимания на все эти сигналы. – Трупы животных, по-видимому, хотели таким образом предохранить от разносчиков заразы и падальщиков, а что касается людей, то для их трупов подобное захоронение в воздухе, к сожалению, не годилось – больно уж сильный запах издают они при разложении, если их не набальзамировать». Вслед за тем он пояснил, что люди, сведущие в Книгах, издавна толковали подобные формы погребения в согласии с распространенной легендарной схемой «верх – низ». Для бирешей, дескать, такое истолкование характерно – они ведь всегда непроизвольно заполняют абсурдными домыслами те пробелы, что возникли из-за утраты рациональных обоснований. «Чтоб добрый урожай собрать, скотину с людьми не смей погребать», – гласит одна известная народная поговорка, смешивающая в одну кучу совершенно разные явления.
Рифма тут заменяет смысл, потерявшийся в ходе долгого исторического существования.
«Кстати, о том, как звали отца Цердахеля, – продолжал могильщик, встав с места. Близоруким взглядом он отыскал среди висевших на стене фотографий одну, бережно снял ее с булавки и принес нам. – Вот он». С этими словами он протянул мне снимок. На фотографии был запечатлен маленький толстый человечек, который, стоя в ярмарочном домике, из каких продают сахарную вату и турецкую нугу, разговаривал с кем-то не уместившимся в кадр. Рот человечка был приоткрыт, на голове была шляпа, которую я вчера видел у Цердахеля. За лентой шляпы торчал “моньо-рокерек”. «Он был ашкеназ, а жена у него была из сефардов *, – сказал шкуродер. – Его звали “Потерявшийся-по-дороге”. А вам, кстати, известно, как звали вашего батюшку? “Пришивай-двойной-нитью” – чтобы крепче держалось», – сказал Йель Идезё, усмехнувшись. «Тоже очень типично для бирешей, – вновь продолжал он серьезным тоном, заметив, что мне мало нравятся его шуточки. – Ох уж эти мне имена! С их помощью они, верно, хотят взять на заметку то, что сами сделали неправильно: у всякого имени своя легенда. “Если стоишь чересчур близко к тексту, видишь его нечетко. Будь осторожен! За словом готова разверзнуться бездна!” – говорится в Книгах бирешей. И чтобы не забыть предостережение, кто-то извлекает из текста соответствующий оборот, например “видит нечетко”, и превращает его в имя. И тем самым совершает громадную ошибку! Если я непременно желаю о чем-то забыть, я долго повторяю это сам себе, пока не перестану что-либо чувствовать. Тогда я знаю наверное, что я забуду. “А он так любезен, / Она так форсит… – запел он, – Недолго жеманясь, / Минет совершит!” Есть у нас, у могильщиков, такая песня. Как у нас принято говорить, мертвецы “делают минет”. И это выражение тоже из числа тех, которые никто толком не понимает!» – произнес он задумчиво, опять свернув на свою любимую тему. «Почему “минет”? В обязанности могильщиков входило вкладывать камень в рот покойного. Зачем? Чтобы отсрочить начало разложения? Или по тем же причинам, по которым нам приносили фотографии усопших, на выбор? У меня и фотография вашего отца имеется, – сказал он, – он относился ко мне очень по-дружески». Шкуродер встал и подошел к одной из двух кроватей, что стояли у противоположной стены изголовьями друг к другу. Он приподнял покрывало – на котором, словно на занавеске в детской комнате, были изображены тюлени, играющие в мячик, волшебные остроконечные шляпы, летающие по воздуху прогулочные трости, слоны и толстые негритята, – извлек из-под него черную, расписанную красными цветами деревянную шкатулку и принялся в ней рыться, однако безрезультатно. «Не знаю, куда она подевалась, сейчас не найти… А кстати, что по-настоящему означает “делать минет”? – опять принялся он за прерванную тему. – “Minette” – кельтское слово, и значит оно “рудная жила”. Где связь? Каменная облатка? Инверсия христианского причастия? Чрезвычайно типично для бирешей: самый живой из всех ритуалов они обращают в полную противоположность, приберегая его для поминок по усопшим. И откуда нам, в конце концов, знать, что там такое происходило в головах наших предков! Ничегошеньки мы не знаем или, во всяком случае, знаем недостаточно для того, чтобы считать себя вправе бездумно повторять их формулы, ныне утратившие свой смысл. Оттого-то я и погребаю мертвецов в лежачем положении, и животные теперь тоже отправляются в лоно матери-земли. Для них я даже специально выписываю пластиковые мешки из столицы».
«У нас слишком мало сведений! – театрально воскликнул он. – Наше знание – всего лишь фрагменты, осколки! Мы больше не постигаем великих взаимосвязей, ибо традиция утрачена! Рассказывают, будто наши отцы намеренно вставляли в Книги слова, обладающие свойством зеркал, – для того, чтобы сделать тексты непереводимыми и тем самым исключить возможность фальсификаций. Уверяю вас, при чтении иных предложений так и осязаешь их хрупкость и думаешь: если произнести их вслух, они разобьются. И даже некоторые буквы в отдельных словах: если прикоснуться к ним пальцами, возникает ощущение, будто звуки улетают – и в то же время остаются на месте. В определенные эпохи все эти слова и предложения становятся невероятно чувствительными – одно-единственное неправильное ударение способно разрушить их смысл. Существует детская считалка, которая именно о том и говорит: “Если слова обратить в зеркала, / то превращаются тени в слова”. Говоря иначе: если кто-то, пренебрегая смыслом Книг, влагает в них свой собственный смысл, текст превращается в фантом, а падающая на него тень читателя становится посланием этого текста. Как я уже сказал: сила традиции утрачена. Нам в наследство оставили Книги, однако не оставили руководства, которое помогло бы в них разобраться. Нам даны разгадки, но путь к разгадкам утрачен. Если бы этот путь был нам известен, мы бы далеко обогнали всех в любой области науки – уж поверьте! Но сейчас в руках у нас всего лишь дурацкая деревяшка, которая ровно ничего не способна поведать о волшебной пляске вращающегося волчка. Лучше всего последовать примеру Гикатиллы – отбросить мертвую деревяшку и уйти прочь. Лично я так и поступаю: мертвецов я, стало быть, хороню в лежачем положении, как оно и принято почти во всем мире, – так они по крайней мере пребывают в покое. Вдобавок я добился того, чтобы кладбище перенесли подальше от колодца!» – самодовольно заметил Йель Идезё.
Подобное начинание (усердно разъяснял он дальше) было чрезвычайно трудно осуществить, имея дело с таким неподатливым и упрямым народцем, как биреши, и ему стоило величайших усилий провести свой замысел в жизнь. В легендах колодцы иногда именуются «очами Ахуры» *; воду в здешних краях – из-за необыкновенно высокого содержания соли – почитают как слезы самого Бога. Покойников раньше хоронили как можно ближе к «божьим очам», тем самым вверяя их божьему покровительству. Но, невзирая на всевозможные суеверия, глубоко укоренившиеся в душе бирешей, Йелю Идезё все-таки удалось добиться своего, так как он использовал против своих сограждан их собственное любимое оружие.
«Вам ведь уже известна легенда об Иглемече и Таме, – продолжал он. – Иглемеч – или, точнее, Иглемееч – это географическое название, Ильмюц. А Там – это искаженное слово “Штрем”, так называется городок, находящийся дальше к югу. Легенда о встрече Иглемеча и Тама основывается на доподлинном историческом событии, имевшем место в 1360-х годах. В ту пору обитатели Ильмюца, по совету одного из бирешей, оставили свою деревню. Все колодцы были заражены. Выходившая из трупов влага и ядовитые газы превратили всю местность в одно огромное болото!» Пригоршня земли, которую зачерпнул Иглемеч и которая обратилась в пламя, символизирует болотную почву, перенасыщенную газами, – объяснял мне шкуродер. А то, что вода из колодца запеклась кровавой коркой на ладони анохи, означает, как далеко зашел процесс смешения грунтовых вод с кладбищенскими стоками. Таким образом, легенду следует воспринимать как настойчивое предостережение о пагубных последствиях традиционного способа погребения. Анохи Ильмюца адресовал это предостережение анохи Штрема и его соседям по городку, однако те не последовали совету. Потому они и погибли. Повторяющееся указание на то, что время для Иглемеча остановилось, следует понимать как предостережение о близости смерти. Что же касается выражения: «Здесь – понедельник. Громыхания исполнена его вечность!», то в нем символизировано зрелище разверзающихся могил, чьи ядовитые исторжения грозили убить все живое. «Предостережение пришло вовремя!» – воскликнул Йель Идезё. Мне опять бросилось в глаза, что о давным-давно прошедшем здесь говорили так, будто оно совершается прямо сейчас. «О, если бы обитатели Штрема верно истолковали послание! – сетовал он. – Однако в слепоте своей биреши выбросили “е” из “emeth” (истина) и тем самым сами на себя накликали “meth” (смерть)!»