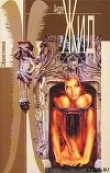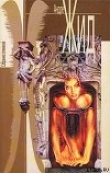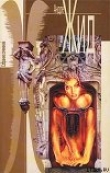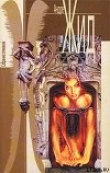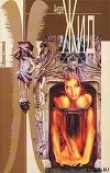Текст книги "У бирешей"
Автор книги: Клаус Хоффер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
«Вернись, Ханс!» – тихо позвал он, и в его призыве было что-то до странности торжественное.
«Что вам еще нужно?» – отвечал я, так же тихо и смущенно из-за его странного поведения.
«Я должен кое-что тебе дать!» – прошептал он.
«Мне ничего не нужно», – возразил я.
«Это не для тебя, – отвечал он. – Для Анны. Ты ведь идешь к ней, разве не так?»
«Почему бы вам не вручить ей это самому?» – ответил я вопросом на вопрос.
«От меня она ничего не примет».
Я стоял в замешательстве. «Хорошо», – согласился я наконец, не в последнюю очередь потому, что хотел покончить с дурацким спектаклем. Я опять опустил тачку и подошел к нему, чтобы взять то, что он намеревался мне вручить. Однако с собой у него ничего не было.
«Внутри», – шепотом пояснил он.
Он завернул за угол магазина и, оказавшись у маленькой деревянной двери запасного входа, поманил меня пальцем. Проследовав за ним, я остановился было у низкого, в две ступени, крыльца, намереваясь подождать его там, но он жестом потребовал, чтобы я подошел ближе. Когда я оказался в магазине (вместо того чтобы спокойно подняться, я опрометью влетел в дом), он запер за мною дверь.
Я ничего не говорил, но он с таким видом, будто я требовал объяснений его действиям, воскликнул с укоризной: «Никто не должен знать, что ты здесь, а ты подымаешь такой шум!»
Я и с этим безропотно согласился. «Ну и где же ваш подарок?» – спросил я.
«Ш-ш, тише!» – он поднял указательный палец, а затем стукнул ладонью по выдвижному ящику под прилавком, на который он в ту минуту опирался задом; по-видимому, он хотел дать понять, что вещица находится в ящике. Однорукий доверительно подмигнул мне. «Я, впрочем, не говорил, что это подарок», – поправил он меня.
С меня было довольно. «Ну хватит, давайте, в конце концов!»
Литфас опять приложил палец к губам и сделал рукой успокаивающий жест, по-видимому, означавший, что мне не мешало бы проявить чуточку терпения. Затем он со всей возможной осторожностью наполнил мой бокал.
«Вот, выпей!» – сказал он ободряюще и подвинул бокал ко мне. Затем наполнил свой собственный. Какое-то время он держал бокал в руках и задумчиво меня разглядывал.
«Хочу выпить с тобой на брудершафт!» – решительно объявил он наконец.
Слово было произнесено, и он, с таким видом, будто между нами ничего больше не стояло, подвинулся ко мне ближе и пообещал: «Теперь я скажу тебе все, что знаю!»
Это звучало окончательно и бесповоротно.
Еще раз Анна
«Знаешь, – сказал он, глядя мне в глаза, – ухватиться за воду нельзя – у нее нет волос! Есть у нас такая поговорка. Поговорка для обезьян».
Он откашлялся. Изо рта у него пахло чесноком. «И все же, – сказал он, – за что-то ведь нужно держаться».
Он положил мне руку на плечо и крепко его стиснул. У меня за спиной стоял его стул, сиденье которого упиралось мне под коленки, и я осторожно на него опустился. Литфас остался стоять.
«Когда я расспрашивал о тебе других, – удовлетворенно продолжал он, – я все время получал в ответ одни и те же три слова. Каждый раз мне говорили: “У него нет волос. У него нет волос”, – он бросил на меня испытующий взгляд. – Но мне было лучше знать, – сказал он. – Ведь я тебя уже видел однажды, и я знал: нет, ты не плохой человек! – он немного помолчал, потом тихо добавил: – Только чересчур наивный. Заячья голова!» – воскликнул он. Его лицо склонилось ко мне так близко, что меня снова коснулось его дыхание.
Я, отстраняясь, повернул голову в сторону. «Ну и что?» – спросил я.
«Берегись женщин, заячья голова!» – выразительно произнес однорукий и снова стиснул мне плечо.
Я посмотрел на него. Я не понимал, что ему от меня было нужно.
«Я видел тебя тогда, в бальной зале, – пояснил он. – Я стоял снаружи, в темноте, немного в отдалении, и наблюдал за вами в окно. Вы пили и танцевали. Ты сидел за столом Цердахеля, спиной ко мне, – я все снова и снова звал тебя по имени, но ты меня не слышал. Только раз, когда еврей встал и вышел, ты ненадолго отошел к окну и посмотрел в мою сторону. Ты меня видел. Ты должен был меня видеть, – уверенно сказал однорукий, – потому что ты смотрел мне в глаза. Но потом что-то произошло, и ты опять ушел, будто меня там вовсе и не было. И ты весь вечер слушал еврея так, будто он открывал перед тобой тайну вселенной. А я тем временем стоял снаружи и не знал, куда мне податься и что мне делать, – ведь я непременно хотел помешать тому, чтобы он рассказывал тебе свои истории».
«Но почему?» – спросил я с пробудившимся интересом.
«Потому что он ничего не знает! – воскликнул однорукий. – Потому что он не знает и половины того, что знаю я!»
Я вновь вспомнил тот первый вечер. Да, я помнил в точности: тогда я вдруг, посреди объяснений Цердахеля, почувствовал острую, ноющую боль в груди – словно кто-то сзади просунул руки мне под мышки, сцепил их на груди и изо всех сил, как мог, сдавил мне ребра. Я вскочил и метнулся к окну, надеясь стряхнуть с себя эту боль. Задыхаясь, я оперся о подоконник, уставился взглядом в темноту и ждал только того, чтобы внезапный прилив крови и давящая боль в груди отпустили. Еврей же использовал момент, чтобы отойти и принести себе следующую бутылку пива. Наконец я вновь был в состоянии вздохнуть – тогда-то я и различил сквозь гудение, наполнявшее мою голову, тот высокий, томно вскрикивающий звук, смутно напоминавший пожарную сирену: это Анна проводила указательным пальцем по краю бокала. Литфас был прав, я действительно подходил к окну, только не потому, что я (как думал он) откликнулся на его зов, а оттого, что у меня мутилось в голове и перехватывало дыхание от всего чуждого и непонятного, что пережил я в тот день; вдобавок моя душа была словно иссечена долгими рассказами еврея, никак не желавшими кончаться. И я вернулся к столу – однако не потому, что мне хотелось как-то унизить Литфаса (я ведь его вообще не видел!), а из упрямства: потому что не хотел вот так сразу признавать свое поражение. Но тот, словно все это были пустые отговорки, словно он все знал гораздо лучше меня и не желал, чтобы я вводил его в заблуждение относительно истинных взаимосвязей явлений, отрицательно покачал головой и сказал:
«Анна отняла тебя у меня».
Он поставил бокал на прилавок, подле себя. И с таким видом, будто это были единственные слова, какие еще оставалось сказать, и будто ими все было сказано, он тоном, не терпящим возражений, добавил: «Ты очутился в ее власти – с первого взгляда!»
Я взглянул на него. Он грезил. Я покачал головой: вероятно, это было его привычное состояние. В каждом, кто встречался ему на пути, он сразу предполагал соперника в борьбе за свою Анну – в борьбе, которую давно проиграл. Очевидно, все для него вращалось исключительно вокруг нее, и мысль о том, что кто-то другой, быть может, не подвержен обуревающей его страсти, просто не умещалась в его голове. С безошибочностью сумасшедшего, который с легкостью выстраивает цепь доказательств именно так, как ему нужно, он продолжал.
«Ты же уставился на нее как на привидение, и оттого, что она разок провела по бокалу вот так, – сказал он, сделав пальцем то самое движение по краю бокала, стоявшего перед ним, – ты уже вообразил, будто она уже твоя». Я хотел перебить его, но он не дал мне и слова произнести. «Да, ты так подумал, – повторил он. – Но это еще ничего не значит. Она хочет тебя заполучить и получит. Так или иначе. Иначе с чего бы она тогда сама вышла из дома, чтобы забрать у тебя почту, хотя у нее тогда был Надь-Ваг? Только затем, чтобы показать тебе свою грудь! А ты тогда отчего так набросился на служку? Ты ведь был вне себя! – воскликнул однорукий, словно видел все собственными глазами. – Он тебе помешал! В том-то все и дело, – он грустно рассмеялся и посмотрел на меня. – Вот так-то», – кивнул он.
Во мне нарастала затаенная ярость, вызванная подобными обвинениями, и я бросил ему, резче, чем хотелось: «Вы что, только затем затащили меня назад, чтобы сообщить мне это?»
Он покачал головой. «Ну вот, пожалуйста!» – он ткнул в меня пальцем и снова рассмеялся.
Потом он сделал рукой движение, словно отбрасывал что-то. «Нет, не затем, – серьезно сказал он. – Меня все это уже не касается».
Трубка Литфаса
«Существует, – опять начал говорить однорукий, наморщив лоб (он крепко обхватил пальцами ножку бокала, словно желал дать мне знак, что теперь-то и начинается главная часть нашего вечернего мероприятия), – существует дополнение к легенде об именах. Ты уже слышал эту легенду от Цердахеля. А о дополнении расскажу тебе я». Он снова разжал кулак и стал вертеть бокал между большим и указательным пальцами.
«Дополнение присутствует в одной-единственной рукописи, – сказал он, – и даже там оно едва поддается прочтению, потому что писавший небрежно нацарапал эти строки на полях соответствующего листа, как внезапно мелькнувшую мысль. Вероятно, именно поэтому дополнение никогда не воспринимали по-настоящему серьезно, хотя смелой образностью и самим своим высказыванием оно никак не уступает самым значительным из наших Книг и вдобавок представляет собой прямо-таки идеальное продолжение рукописи из Хетфёхея. Однако возможно, в том-то все и дело, – заметил он, – возможно, именно властная сила этих образов, их не подлежащая сомнению достоверность как раз и внушали недоверие нашим книжникам! – он задумался. – К тому же дополнение изложено в форме вопросов, обращенных к читателю; уже одно это обстоятельство отпугивает большинство из нас в самом начале – ведь вопросов у нас у самих более чем достаточно и от наших Книг мы ждем ответов!»
«Так значит, это дополнение, – не глядя на меня, продолжал однорукий свои объяснения, – это дополнение, или, лучше сказать, этот текст, имеет два заглавия. Они начертаны рядом, на одном уровне, на одной строке, без знаков препинания и разделены только большим пробелом. Они звучат: “Но что если” и “Как всегда”. Первый заголовок совпадает с вводными формулами, повторяющимися в каждом предложении, то есть эти слова вряд ли можно считать настоящим заглавием; и то же самое касается второго заголовка. “Как всегда” – древнейшее из известных нам обозначений бирешей, причем обозначение оскорбительное».
Он снова умолк и задумался. «Отсюда можно сделать вывод, – произнес он затем со значительным видом, – что в названных двух формулах сведено воедино все, о чем мы вообще в состоянии спросить. Ведь, как дают понять слова “Но что если”, все прежние ответы уже приняты к сведению, их содержание подытожено и резюмировано в новой формуле: “Но что если”. В свою очередь, почти автоматическое речение “Как всегда” делает очевидным, что и этот вопрос, как всякий другой в том же роде, поставлен неверно и что тот или иной полученный ответ побуждает спрашивающего еще раз продумать свой вопрос, а затем сформулировать его по-новому. Стоп!»
Литфас потер ладонью лицо и кожу на голове. Он выглядел вконец вымотанным.
«Если верить этому тексту, – устало продолжал он, – наша задача заключается в том, чтобы выяснить, каким был порядок вещей прежде – до появления бирешей и до того, как они взялись за свое дело. Тяжелая, прямо-таки неразрешимая задача, – произнес он усталым голосом. – Ведь мир приходит в упадок очень медленно, так что при непрерывном наблюдении этот процесс не сможет различить даже самое зоркое око, – однако в целом отрицать упадок, конечно, невозможно и никто в нем по-настоящему не сомневается. Ибо даже последнему глупцу ясно одно: так, как оно есть сейчас, не могло быть всегда. Такого просто не вынесло бы человечество! Упадок, стало быть, имеет место, и мир действительно оскудевает», – сказал он. Однако слова его прозвучали так, что казалось: он боязливо спрашивает кого-то, – и совершенно не верилось, что он излагает последние и решительные выводы из своих размышлений.
«Пусть мы и не можем доказать совершающийся упадок, как желал бы того Инга, однако мы его чувствуем. Мы фиксируем небольшие изменения в реестре существующего! – подчеркнул он и, словно желая придать своим словам как можно больше веса, постучал рукой со скрюченными когтями по доске прилавка. – Возникает ощущение, будто у нас в животах имеется шестой, еще не открытый орган чувств, который постоянно сообщает нам о таких изменениях. Вот здесь, – сказал он, указывая – как делал уже раньше – пальцем немного выше пупка, который выделялся как круглая, неглубокая впадина под тканью ночной рубашки. – Печать Иова! Как говорят, “обезьяны думают животом”, и эта мысль справедлива». Однорукий, казалось, вновь сбросил с себя усталость; он опять взбудораженно принялся расхаживать туда-сюда по другую сторону прилавка.
«Послушай! – обратился он ко мне. – Однажды я сидел в трактире в Андау за кружкой пива. Это было воскресным вечером в один необычайно сухой год, и от зноя земля потрескивала, будто по ней пробегали миллионы маленьких язычков пламени. За стол рядом с моим сел незнакомец, который сразу привлек мое внимание тем, что на голове у него, несмотря на жару, была серая фетровая шляпа, а на руках – кожаные перчатки. Когда он снял шляпу, под ней оказались огненно-рыжие волосы, прекраснейшие волосы, какие мне только доводилось видеть. Мы разговорились, и он, все время поигрывая шляпой, лежавшей перед ним на столе, словно то была подставка для пива, рассказал мне, что долгое время жил в Африке, но вынужден был покинуть те края, потому что дом, где он жил, каждое лето заполоняли полчища муравьев (видимо, дом стоял на их тропе), и они сжирали все подчистую. Вместе с женой, которая не могла выносить такую обстановку, он каждый раз вынужден был на три дня и три ночи перебираться в запасное убежище в джунглях, а потом напасть столь же внезапно кончалась. Немилосердная регулярность, с которою повторялось это событие (его всегда можно было предсказать заранее, с точностью до дня), как раз и была всего ужаснее для его жены – при том, что в ситуациях непредсказуемых она всегда умела найти выход из положения. Но это ежегодное, казалось бы, рутинное нашествие муравьев разрушило ее внутренне, изменило до глубины души.
Прошло два года (рассказывал тот человек) с тех пор, как он вернулся на родину, однако прошлым летом с ним произошло нечто еще более ужасное, чем та история с муравьями, а потому он всерьез подумывает, не лучше ли ему расстаться с женой, так как ему кажется, что именно он приносит ей несчастье. Однажды вечером они с женой через окно своего дома разговаривали с соседкой, стоявшей внизу в маленьком палисаднике. Он рассказывал ей об Африке и муравьях. Уже почти стемнело, и он, во время своего рассказа, вдруг ощутил непонятное беспокойство. Человек отчаянно пытался его побороть, повествуя своей слушательнице о все новых и новых удивительных приключениях в той части света. “Еще ни разу в жизни у меня не получалось так рассказывать, – воскликнул он, – повествовал однорукий. – При этом меня все время не покидало чувство, будто кто-то несильно, но настойчиво постукивает меня пальцем по затылку. Наконец я не выдержал. А нужно было бы выдержать! Потому что если выдержишь, то все пройдет стороной!” – опять воскликнул он. Так или иначе, он обернулся – и убедился, что странное постукивание не было обманом чувств. Пусть оно звучало тихо и отдаленно, как шум падающих капель, которые в соседнем помещении ударяются о что-то мягкое, – но, когда он включил свет, он обнаружил, что с потолка комнаты, подобно тонким, вьющимся волосам, свисают тысячи тонких червей, длиной с палец, – живой колышущийся газон вверх ногами, из которого с размеренными промежутками отделялся один кусочек за другим и тихо, с легким шлепком, падал на пол. Он, дескать, притягивает к себе подобную нечисть, кричал незнакомец», – так рассказывал Литфас, хотя слова незнакомца его явно уже не интересовали, а внимание его было приковано к тому, что не имело прямого касательства к повествуемой истории.
«В продолжение рассказа, пока он говорил об этих своих червяках, не переставая вертеть на столе свою шляпу, – восклицал однорукий, – я вдруг заметил: его длинные, вьющиеся рыжие волосы сами собой колыхались туда-сюда, совсем как заросли травы, – и всякий раз, когда он издавал стон и откидывал голову назад, казалось, будто над его волосами вспыхивает огонь и облизывает небо у него за спиной – пока наконец весь горизонт не заполыхал одним огромным пожаром. И вообрази себе: на другой день я узнал, что Америка накануне объявила очередную войну».
Откинувшись назад, он просунул левую руку под свою правую культю. «Рассказывая обо всем этом, я не хочу утверждать, будто способен предвидеть будущее, – сказал он, склонившись вперед. – Будущее не имеет значения. Заглянуть в него – всего лишь арифметическая задача, которая когда-нибудь, пожалуй, будет разрешена. Меня интересует исключительно настоящее и прошлое – то быстрое, едва заметное движение, каким каждое мгновение настоящего, едва успев наступить, возвращается в прошедшее, но все-таки оставляет свои следы здесь, в настоящем. О, это движение во времени! – снова воскликнул однорукий. – След червя, который ползет где-то там, по другую сторону, однако след его остается здесь, – он опять постучал указательным пальцем по животу. – Световой отпечаток лампочки, мерцающий здесь на стене, когда я вновь открываю глаза. Знание о том, что происходит сейчас – однако не здесь, а где-то там!» – он кивнул в сторону входной двери, в сгустившийся за ней мрак.
«“Все, что существенно для нашей жизни, совершается во время нашего отсутствия”, – сказал я… сказано в Книгах! – поправил он сам себя. – И это хорошо. Само по себе событие, мошка мгновения (как мы выражаемся), не имеет ни малейшего значения. Оно не хорошо и не плохо, потому что в нем, как говорится, все силы жизни выпущены на волю и не несут на себе вины. То, что по-настоящему любопытно, – это мокрый, тянущийся след из крови и слизи, который остается, когда останки самой мошки давно сметены со стола».
Он хлопнул себя левой рукой по чуть торчащей из-под рубашки культе.
«От странствующих муравьев и червей, о которых повествовал тот человек, давно уже ничего не осталось (даже в его рассказе!) – и все же след присутствовал в его волосах! Решающим было именно это. В тех рыжих волосах и воплотилось для меня объявление войны. Моя печать Иова! – возгласил Литфас. – Трубка Литфаса!»
«Стоп!» – воскликнул он снова.
«Во всяком случае, то дополнение к рукописи из Хетфёхея, о котором я говорил, требует от нас невозможного. Мы ведь не способны помыслить себе, каким был мир без нас! Но это не самое главное, потому что здесь, как всегда, следует для начала обратить внимание на второстепенное, на то, что неприметно ускользает от твоего взгляда, как только посмотришь на него прямо.
Вот тогда, исходя из второстепенного, пожалуй, и можно будет постигнуть главное. Как намекают нам наскоро набросанные пассажи этого текста, за старым обетованием, согласно которому община бирешей, сумевшая записать свою историю, сможет спокойно разойтись в разные стороны, скрывается нечто гораздо большее. Текст подводит нас к мысли: удайся однажды такая запись – и мы благодаря ей постигли бы не больше истины, чем умещается солнечного света в ладони.
“Но что если – начинается добавление, относящееся к изложенному выше обетованию, – если она (то есть запись, созданная усилиями общины) окажется не более чем шагом на первую ступень лестницы – шагом таким тяжелым и таким легким?” На этом месте текст в первый раз обрывается и таким образом побуждает читателя самому размышлять дальше, так как здесь уже намечаются разные пути толкования. Ведь сказанное может означать либо то, что удавшаяся запись была бы не более чем шагом на первую ступень той лестницы, что в действительности не имеет конца, – тогда этот шаг был бы относительно легким (хоть, впрочем, никому еще не удавалось его совершить, в том числе жителям Ильмюца!), – однако, если взглянуть на дело иначе, захочет ли кто-то вообще подниматься на первую ступеньку, знай он, как мало тем самым будет достигнуто? – заметил Литфас. – Какой в том был бы прок и кто бы тогда не догадался, что мы вечно медлим в нерешительности? Либо же, – продолжал он, – существует одна только эта, единственная ступень, и в таком случае записанные слова подразумевают, что, преодолев ее, мы бы тем самым преодолели и все остальное, что мы, так сказать, вместе с краешком истины заполучили бы и саму истину – в качестве знамени, если угодно… Но если дело обстоит так, тогда эта ступень находится слишком высоко, тогда она абсолютно недостижима для наших коротких ног. А между тем мы, невзирая на все наши колебания и нерешительность, по праву можем утверждать о себе хотя бы то, что вся наша жизнь – не что иное, как непрекращающаяся попытка вскарабкаться на одну эту ступеньку. Но как бы то ни было», – оборвал однорукий свои размышления. Он отпил глоток из своего бокала и, глубоко задумавшись, долго не отнимал его от нижней губы.
«Вторая строчка повторяет формулу вопроса первой, – пояснил он. – “Но что, если… – гласит она, – если бы это означало всего-навсего возвращение на место деяния, о котором сказано, что его не существует?”»
Однорукий бросил на меня быстрый взгляд. «Что здесь подразумевается? – спросил он. – По моему убеждению, приблизительно следующее: подобно тому, как не можем мы взойти на первую ступень лестницы, не можем мы и вернуться к той точке, с которой начались все наши попытки и поиски! Мы, так сказать, навеки остаемся подвешенными между небом и землей, на посмешище миру: толчковая нога на земле, маховая нога зависла в воздухе».
Его взгляд был по-прежнему устремлен на меня, и я, сам не знаю отчего, молчаливо смирился с тем, что должен остаться здесь – быть может, навсегда. Я сидел на его стуле, вполоборота, сложив руки на спинке стула и оперевшись правой щекой о тыльную сторону ладони, полусонный и в полусне соглашающийся со всем, что он говорил.
Иногда, когда у меня затекала рука, я менял положение тела, принимал позу кучера и, уперев руки в бедра, раскачивал между лопаток головой, как чем-то тяжелым, – и все слушал его, а он все продолжал говорить.
Его слова изливались с тихим журчанием; мои глаза, остававшиеся открытыми, следили за плавно колыхавшимся подолом его ночной рубашки, подчинявшимся тем движениям, какими он сопровождал свою речь. Это зрелище напоминало ритмичное набегание волн на пустынный берег, и во время его объяснений, которые казались мне повторением чего-то давно знакомого, а потому прямо-таки приглашали немного поспать, я, очевидно, в самом деле несколько раз вздремнул, потому что время от времени у меня возникало чувство, будто Литфас произносил некоторые предложения по два раза и больше – так усердно, что они в конце концов превращались в моей голове в образы, которые довольно долго оставались стоять один подле другого и лишь постепенно тускнели – как световой отпечаток той лампочки, о которой он только что упоминал.
Из истории меновой торговли
«Стоп! Ты, наверное, помнишь легенду о праотцах-основателях, – сказал он вдруг без всякого перехода и так громко, что я сразу очнулся от дремы и кивнул с таким видом, будто безоговорочно признавал свою вину. – В ней рассказывается о том, как Эг наступил на лик Божий, после того как праотцы поделили между собой землю. Правильно», – подтвердил он. Можно было подумать, я только что решил трудную экзаменационную задачу. Однако Литфас, словно ему необходимо было продемонстрировать, что от него не укрылась моя невнимательность и что я здесь всего-навсего ученик, притом неважный, а он – учитель, тут же счел нужным ограничить свою похвалу оговоркой.
«Правильно, – повторил он, – и в то же время ошибочно». Он выглядел удовлетворенным. «Ошибочно по той причине, что настоящее святотатство совершилось еще прежде того, и деяние Эга может быть истолковано как последовавшая за тем реакция, как попытка – конечно, преступная и своей бессмысленностью только усугубившая святотатство, однако в сущности невинная попытка поправить только что совершенное нечестивое дело. Как это объяснить?» – спросил Литфас. И опять его слова не были вопросом, обращенным к кому-либо; они звучали, скорее, как пустая фраза, заготовленная им для такого случая, или как предлог для того, чтобы пуститься в новые объяснения.
«Подлинно нечестивым делом, – пояснил он, – был раздел земель. Древнейший и высочайший закон запрещает нам, бирешам, владение землей – как, впрочем, и обладание любым другим имуществом. “Есть ничто, было ничем, станет ничем”, – гласит последнее предложение легенды о праотцах-основателях. И этим сказано все! – воскликнул он. – Разве не дано нам тем самым понять, что мы обречены на поражение – раз и навсегда?» – он посмотрел на меня со значительным видом и, будто адресуя мне эту фразу в качестве предостережения, повторил: – “Есть ничто, было ничем, станет ничем”. А помнишь, с чего начинается легенда об основателях? – спросил он затем. – Она начинается с картинки, создающей настроение. “Покоятся руки усердного”, – говорится там, – цитировал он, и я вздрогнул от страха, потому что (сам не зная, откуда они происходят) уже слышал эти слова здесь, в Цике, или читал их и выучил наизусть, оттого что они странным образом затронули меня за живое. “Ничто не шелохнется, – продолжал однорукий, не обращая внимания на мою реакцию, устремив неподвижный взгляд на шкаф за моей спиной, так, словно он извлекал слова из его ящиков. – Воздух недвижен, как зеркало. Возможно, где-то далеко отсюда сейчас совершается преступление: до того безымянным, бессильным выглядит все кругом”. Эти слова звучат подобно шепоту во время любовных объятий, и тем не менее речь в них идет о мгновении, когда зло удушает добро в своем объятии». Литфас опять прервал свою речь.
«“Когда Ахура спит, происходит раздел мира”, – говорят у нас, – он возвысил голос. – Именно безымянная тишина полудня, именно это ужасное, уничтожающее всякую надежду молчание солнца побуждает нас к тому, чтобы задавать запретный вопрос, ответ на который дан нам в сей легенде – и ответ этот каждое поколение заново оплачивает кровью и слезами. Эг, Халь, Яр, Сель, – пересчитал он. – Своим запретным вопросом четверо мужей некогда нарушили сон Святого Старца, нарушили у источника, который мы называем оком Ахуры: о нем говорят, что оно никогда не смыкается. В этом вопросе – начало всех зол, так как он требует отчета. “Откуда мы происходим, кто мы такие, куда мы уходим?” Тот, кто так спрашивает, получает ответ. Они просили Ахуру о знамении – и он им его подал. На мгновение облака расступились, повествует легенда, и свет солнца упал на руки мужей, скрещенные в клятве над водою, так что тень рук и круглое отверстие источника явили собой образ колеса.
Малый свидетель! “Тень, что становится зримой”! – воскликнул однорукий. – Они повергли колесо ниц перед крестом!»
Теперь он почти орал.
«И они поделили землю так, как указывала им тень от скрещенных рук! – Литфас воспроизвел рукой соответствующее движение. – То, что Эг вдобавок ступил ногой в лужу, – воскликнул он опять, – было только следствием – поспешной ретирадой того, кто первым понял, что там совершилось; он осознал ужас совершенного деяния и пытался стереть оставленные следы».
Будто решив отдохнуть от своих объяснений, которые очевидным образом захватили его в свою власть, Литфас снова ухватил свой бокал – однако и бокал, и бутылка, стоявшая за ним на прилавке, были пусты. Возбуждение, охватившее его необычайно быстро и до крайней степени измучившее (лицо его стало багровым, руки дрожали, а с лысины потоками струился пот), столь же быстро улеглось опять. Он снова овладел собой, и я заметил быстрый взгляд, какой он украдкой бросил на мой бокал – словно раздумывал, каким бы образом его заполучить. Я обхватил бокал пальцами, чтобы он не мог в него заглянуть. Он быстро выпрямился. «Извини», – сказал он, задев мой затылок рукавом ночной рубашки, когда доставал из шкафа за моей спиной один за другим четыре полных графина с вином. Как и из первой бутылки, он опять извлек зубами бумажную затычку; только теперь не выплюнул ее на пол, а положил, почти бережно, рядом с графином на стол и наполнил свой бокал.
«Ничто нельзя поворотить вспять, – опять заговорил он. – Всякая попытка сделать бывшее небывшим делает все только хуже, замутняет ясное. Тебе светлое, – произнес он значительно, – а мне мутное! Важны не наши поступки, а то, что скрывается за ними, умолчанное. Ну, да неважно. Сколько ни старались наши праотцы – а за ними и мы – исправить прежнее нечестивое деяние, от этого только усугублялась наша старая вина. Земля, однажды поделенная на части, остается разделенной. Ахура не принимает назад того, что у него похитили!» – он одним глотком опустошил бокал и покачал его в руке.
«Дело в том, что в то время, – сказал он и посмотрел вниз, на свою левую руку, будто она была камнем, лежащим на дне глубокого озера, – примерно поколение спустя после святотатства и после того, как наши праотцы-основатели были – каждый по-своему – наказаны за то, – тогда-то и появляются первые сообщения о потлаше. О большом размене, “надь-потлаше”! – подчеркнул он. – Как я уже говорил, “потлаш” по-немецки означает “замена”; и все дело первоначально вращалось вокруг замены, причем в двояком смысле. С одной стороны, потлач наши предки мыслили себе как искупительную жертву Ахуре, с помощью которой хотели умолить о прощении нашей вины; но, с другой стороны, изощренно продуманный, двойственный механизм потлача способствовал тому, чтобы все последующие поколения, по крайней мере символически, в малом размере повторяли преступление наших праотцов, а именно: похищали то, что было им подарено. Размен! – воскликнул однорукий, крепко стукнув кулаком левой руки по краю прилавка. – “Наносить визит”! Делить добычу! Ты это уже изведал на собственной шкуре!» – сказал он, и я почувствовал на себе его взгляд, однако не поднял глаз.
«В одной, ныне, к сожалению, утерянной рукописи, – продолжал он, опять успокоившись, – нам повествуют, что Ода Вишса, сын Селя, в качестве покаяния за отцеубийство и во искупление совершенных отцом преступлений уступил жене все свое имущество в тот день, когда их первый сын достиг совершеннолетия. Рассказывают, что жена Оды, в свою очередь, желая омыть себя от вины и по мере сил загладить нечестивые дела мужа и свекра, пригласила к себе в гости семейства троих остальных праотцов-основателей и в ходе празднества, длившегося три дня, поделила доставшееся ей наследство между всеми прочими – а Ода, помешавшийся от такого разбазаривания, заколол ее ножницами и за то, в свой черед, был заколот собственным сыном. Примеру семьи Оды последовали и другие три клана, хоть, впрочем, до отцеубийства там не дошло. И всякая женщина после смерти мужа стала раздавать членам трех других кланов ту часть наследства, которую она получила в день совершеннолетия первенца, – плоды трудов целого поколения. И это было нарушением второй нашей заповеди, которая наряду с запретом принимать подарки запрещает и передавать их третьим лицам. Так женщина раздаривала дальше все, что досталось ее семье от предыдущих потлачей. Стоп», – однорукий задумался.