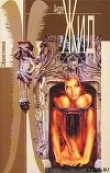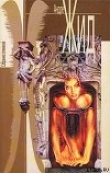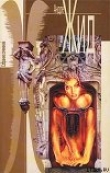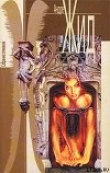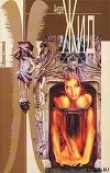Текст книги "У бирешей"
Автор книги: Клаус Хоффер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
«В конце концов у меня возникло ощущение, что я сейчас разорвусь! – воскликнул он. – В той напряженной тишине, в какой нам приходилось стоять и ждать, мне чудилось, будто все камни вдруг ожили и стали отползать подальше от телеги в траву на обочинах, будто рожь на поле металась туда-сюда, избиваемая взорами моих глаз и плетью Надь-Вага. В воздухе раздавался скрежет, словно кто-то истирал огромные куски металла между двумя жерновами. Время остановилось. Прямо перед собой в воздухе я увидел отражение гор, возвышавшихся далеко за нашими спинами, – гряды Дьёр!» – Литфас прервался. «Все было как заколдовано! – воскликнул он снова. – Все непереносимее становился этот перемалывающий звук; казалось, он приближается к нам. Я взглянул на солнце: поблескивая желтым, слабо покачиваясь из стороны в сторону, висело оно высоко в небе – злое око, посаженное туда злой рукою. Стоп! “Оно косит!” – крикнул я».
Однорукий нагнулся вперед и так и остался сидеть в этой позе, словно изготовившись к прыжку.
«Я еще не успел выкрикнуть этих слов, – сказал он и опять откинулся назад, – как вдруг увидал: второе, более слабое и блеклое солнце, которое, как раскрашенный пузырь, выпирало из первого, выкатывалось в небо, – оно постояло несколько мгновений на одной с ним высоте, а потом медленно покатилось вниз. Сизигия! Время и противовремя. Это было крайне гадкое зрелище, от него все на свете начинало внушать отвращение – меня в ту же минуту стошнило через край телеги, – сказал он, потом немного помолчал и жестко прибавил: – Стал виновным задним числом!»
«Утверждают, – пояснил он, – что вещи иногда сами по себе, задним числом выстраиваются в такой порядок, который противоречит исходной последовательности событий. Причина и следствие меняются местами, вступает в силу обратный приговор, – Литфас провел рукой по воздуху, причем она на секунду зависла там, как что-то тяжелое. – Жертву изобличают как преступника».
«Я сказал: “Оно косит!”, – сказал Литфас, глядя на свою руку, которая, как что-то ему не принадлежавшее, лежала перед ним на столе и подрагивала. – Я услышал легкое похрустывание, раскалывание скорлупы, солнце лопнуло, и я увидал: из скорлупы этого яйца выдувается, как пузырь, желток второго солнца. Он медленно отделялся от первого, улетал прочь, скатывался к горизонту». В рассеянности он притронулся к переносице и стал тереть ее большим и указательным пальцами.
«Око Ахуры! – Литфас опять опустил руку. – “Оно сумрачно, как глаз собаки”, – гласит легенда». Он прикрыл глаза. Левая рука тяжело упала со стола ему на колени.
«Литфас устал», – пробормотал он. Его голова, как будто непроизвольно, склонилась на высоко поднятое плечо, и минутой позже он уже спал.
Лик ужаса
Я обождал несколько минут, и, так как он оставался недвижен, я тихо встал. Свеча почти догорела, и в тесном помещении магазина было жарко и душно. Я собирался уйти. Одна из половиц скрипнула под моей ногой. Я обернулся. Литфас сидел, широко раскрыв рот и откинув голову на спинку стула, будто умер, – но стоило мне потянуть вверх дверной засов, и я услышал, что он снова зашевелился. «Вы уже уходите?» – спросил он, еще не очнувшись от оцепенения. В его словах звучало разочарование. Я остановился. «После происшествия в Варбалоге мне по ночам не спится», – он произнес эту фразу не в качестве оправдания, напротив: в его словах звучала гордость, как если бы речь шла о ранении, полученном на войне: пусть контузия тягостна для него и его близких, однако стыдиться ее нет оснований. «Так что приходится наверстывать сон, когда получится, – пояснил он, не жалуясь, и скромно добавил: – Я уже старик, и много сна мне не требуется».
Он бросил это замечание как бы походя. Казалось, он безуспешно чего-то искал, только, наверное, сам не знал, чего именно. «Выпейте еще глоток!» – предложил он мне и высоко поднял бутылку – с таким видом, будто ее-то он и разыскивал. Он покачал бутылкой туда-сюда, предлагая мне выпить, но потом наконец заметил, что в ней осталось совсем немного, и, не дождавшись моего ответа, вылил остатки в свой бокал. «Я, так сказать, сплю стоя, – отвлекся он от предмета разговора. – Лось Литфас!» – он рассмеялся. Он снова был совершенно бодр.
«Знаете, – продолжал он со значительным видом, допив вино, – мое внимание направлено иначе, чем у большинства других людей. Ныне мне известно, что взирать на жизнь следует холодным, беспристрастным оком, если желаешь от нее чему-то научиться. Кто так не поступает, тот ничему не выучится. “Он страдает, не зная того, – сказано в Книгах. – Он не живет, он по складам читает буквы жизни. Он ничего не может прочесть, потому что стоит слишком близко к написанному”», – однорукий прищелкнул языком.
«В ту минуту, – продолжал он, – моя жизнь переменилась на корню. Когда я, широко распахнув глаза, стоял в телеге и вдруг увидел, как из солнца вылупляется второе солнце-близнец, как оно соскальзывает вниз, закатывается, чтобы появиться снова на другом конце мира, – я еще не понимал, что сулило мне сие невиданное раздвоение. Тогда я сознавал одно-единственное: это ты. О, этот миг! Именно его-то и ждал я всю жизнь. Всю свою жизнь я провел зарытым в песок, и только теперь мне дано было выбраться на поверхность! Этот миг был средоточием всех моих надежд! Прежде я был ничем, но теперь я знал: отныне я стану всем! И я приготовился к заветному мигу, наполнил легкие воздухом; словно выбираясь из-под толщи воды, дал потоку нести себя вверх и отворил все свои чувства, как шлюзы. “Только так и можно пережить что-либо, – сказано в одном месте наших Книг, – при условии, что ты готов забыть все прошедшее!” И что же потом?» – Литфас смотрел на меня вопросительно. Его левая рука, лежавшая на столе, как будто отдельно от него, опять начала вздрагивать, как некое животное.
«Я стоял там и ждал, когда же двери этого мгновения откроются, распахнутся передо мной, чтобы впустить меня. Мнилось, я дни и недели скитался по небу вместе со вторым солнцем – и в то же время терпеливо стоял внизу, в нашей повозке, со шляпой в руке, и ждал, склонив голову, как на молитве. Еще и по сей день, – воскликнул однорукий, – моя голова сама собою норовит опуститься в то самое положение. И что же?» – спросил он.
«Ничего. Семь озер, а воды нет! Мир, в котором я очнулся, когда открыл глаза, был мертв, пуст, – он покачал головой. – Я был один, как будто попал, проснувшись, в какой-то неправильный день. Горячий ветер несся по земле, распластавшейся под свинцовым небом, как будто приготовившейся к смерти. Падали тяжелые, первые дождевые капли, но едва они касались земли, как сразу же испарялись. Меня обступило такое безмолвие, что мне казалось: сейчас я умру. Немо кружила во мне кровь. Я взглянул вверх, мои глаза проникли вглубь небесной пустыни дальше, чем проникал до сих пор взгляд человека. Все было поразительно прозрачным, поразительно чуждым и все-таки до боли близким: я был первым человеком на нашей планете и создан я был для того, чтобы вызволить мертвые вещи из пут смерти. Каждый мой вздох был немым стоном, с каким окружающие вещи обступали меня все ближе. Казалось, они что-то шептали мне, желали о меня опереться. Мне хотелось опять закричать, потому что подобной близости с вещами я страшился, – но издать звук я не смог. Я смотрел на кисть своей руки: она торчала из рукава, как маленький куст, и ветви ее были обтянуты онемевшей серебристой кожей, кожей смерти».
«Стоп! – воскликнул однорукий. Он опять сверлил меня взглядом. – Лик ужаса». Я отвел глаза. Я ему не верил. Последние его слова напомнили мне что-то такое, что я уже слышал. Мне вспомнился Цердахель, но дальше мне пробиться не удалось.
«“Гляди! – говорится в легенде, – сказал Литфас. – Подъятая рука указывает вниз!” Ужаснее всего было именно это: доверительная близость с миром мертвых предметов. Я чувствовал, как в некой точке моего тела – вот тут! – он указал пальцем на верх живота, как человек, не желающий прикасаться к открытой ране, – как вот тут, под грудиной, что-то натянулось до такой степени, будто готово было разорваться, – какой-то нерв или орган, присутствия которого я раньше не ощущал. Затем что-то во мне действительно разорвалось, и в то же мгновение я ощутил страшное натяжение в руке и в груди – будто у меня вырастали летательные перепонки. Тогда я еще не сообразил, что это значило, только позже, в трактире, я начал постепенно понимать. Нет, даже не там, а еще позже, по кусочку, медленно, будто кто-то гаечным ключом – рывок, еще рывок – закручивал гайку познания. И все-таки уже в тот первый, страшный миг из моего горла вырвался хрип – то был знак узнавания. Как-то раз мне уже довелось изведать подобное: мертвую землю, мертвую страну. И я подумал: только затем, чтобы увидеть это, я и поднялся наверх из глубины песка. Когда я рухнул с ног и во весь рост растянулся на дне нашей повозки, из меня вырвалось что-то, как из ущелья, и взмыло в высоту: птица покружила над выжженной землей – и одним ударом крыл умчалась прочь».
«Когда я очнулся, – продолжил однорукий, обхватив край стола, словно ища опоры, – я чувствовал себя так, будто меня грубо пробудили от сна, и в то же время сознавал, что пробуждение мне только приснилось. Я уселся на сиденье с краю телеги, я был очень слаб. Остальные приписали мое падение тряске нашего экипажа и ни о чем таком не догадывались. Де Селби, сидевший рядом, обнял меня за плечи, плечи утопающего. Я весь дрожал. В правой руке, ниже локтя, свербила жестокая боль. Рука кровоточила. Я знал, что ее потеряю. Маленькая темная лужица образовалась на дне телеги под моим сиденьем, и, подобно некоему лицу, неудержимо поднимавшемуся из глубины лужицы к ее поверхности, в моей душе подымалось давнее воспоминание. “Семь озер, а воды нет!” То было осознание: теперь я потерял все, теперь все перевернется, отныне моя жизнь будет повторением того, что уже было когда-то, – осознание того, что жизнь моя потекла в обратную сторону», – Литфас опять встал, чтобы открыть дверь и опорожнить мочевой пузырь. Звук был такой, будто его покидала влага жизни.
В харчевне
«Я был один на свете, – он посмотрел в потолок, словно то было серое, немилосердное небо, навеки для него закрывшееся. – Был узником одной-единственной капли времени, крохотной допотопной тварью, которая – с одной рукой – все плавала взад-вперед, перемещаясь в пределах уже размеченной дистанции своей жизни. Все на меня смотрели, но ни один из попутчиков меня не понимал. Для них, когда телега вновь загромыхала, исчезло то наваждение, что разливалось над всем и вся; а для меня каждый новый оборот колес означал очередную милю пути, отделявшую меня от них. И тут мы прибыли в Тадтен. Харчевня зазывала нас уже издали, добродушно, как друг, готовый простить нам любые промахи. Стоп!»
Литфас оттолкнулся рукою от прилавка, будто желал таким образом прогнать воспоминания.
«В трактирный зал я вошел первым, – сказал он. – И замер на месте, будто получил удар кулаком в лицо. Я вдруг увидел и без дальних размышлений понял, что Анна была следующей вещью, с которой мне надлежало расстаться. Она сидела на коленях у Люмьера, обвив руками его шею, и целовала его так, будто намерена была высосать жизнь через рот. Люмьер! – воскликнул однорукий и засмеялся. – “Меня она так никогда не целовала!” – подумал я. Тогда мне не было смешно. Потрясение пронзило все мое тело. Я стоял как окаменелый; мои руки раскачивались в плечах, будто не связанные с туловищем, будто веревки от колокола: они тихо похлопали в ладоши. Рядом со мной стоял Инга, неподвижно, будто рядом с гробом. Я искал его руку, искал за что схватиться, искал опоры – но в такие минуты опоры не находят, а вместо того хватают руками пустоту. Я опять потерял сознание. Сильно ударившись о стену, я упал на колени. Когда я очнулся, во рту у меня лежало что-то незнакомое; вкус у него был как у железа и соли, – то был мой язык. Я прикусил его, когда падал, и мне хотелось его выплюнуть. Из языка сочилась кровь; она смешивалась с кровью, текшей у меня из носа. Я увидел черный след на тыльной стороне ладони, взглянул опять и опять увидел: Анна на коленях у Люмьера, его голова между ее рук, ее язык, быстрый как змея, у него в устах. Я привстал на колени и пополз к ним; мои лопатки, как настоящие лопаты, прокапывались сзади сквозь мою кожу, толкая меня вперед и вверх; они с грохотом стучали одна о другую, срастались в один большой гребень; соски выступали из моей груди как пуговицы; вокруг глаз образовывались складки, кожа роговела. Я покрывался панцирем, и полз вперед – допотопная ящерица, вспугнутая из своего убежища, где она покоилась тысячи лет. Анна, заметив мое приближение, одним прыжком соскочила с колен Люмьера и убежала в задний, дальний угол трактирного зала».
Литфас закрыл глаза. «Все, что произошло потом, – сказал он, – произошло словно по плану, словно я все это наметил заранее; за исполнением злосчастного плана я наблюдал без малейшего участия, потому что больше не имел к этому никакого отношения. Анна с того момента, понятное дело, держалась от меня подальше. Она выбрала себе местечко рядом с вашей госпожой тетушкой и Ослипом, недалеко от дверей, и сидела там так, как она всегда делала, если чего-то боялась, – подпихнув ладони тыльными сторонами себе под бедра. Сидя в такой позе, она покачивалась взад-вперед.
Люмьер поднялся, а на его место сел еврей. Рядом с ним устроился Рак. Я был третьим за тем столом, но просидел с ними всего-то минуту. Потом я вышел вместе со Штицем, он дал мне свой носовой платок. У меня все еще текла кровь из носу. Никогда не забуду белую стену, перед которой я стоял, утирая платком кровь и разговаривая со Штицем! – прибавил он. – Штиц не видал того, что произошло, потому что вошел в трактир последним. А я все говорил и говорил. Я предрек ему, что всем нам предстоит увидать нечто удивительное, еще в тот самый день! Но он только смеялся, потому что думал: я еще не оправился от того падения в телеге. Я пытался что-то ему объяснить; пауки-сенокосцы покачивались у самой стены на своих паутинах, то взлетая выше, то опять опускаясь, – так, словно они, раскачиваясь, записывали мои слова невидимым письмом на стене, меж тем как я ставил заключительную точку в записанных ими фразах, тыча окровавленным пальцем в одно и то же место. Штиц ничего не понимал, и я много раз начинал объяснять ему сначала, только к моим объяснениям все время примешивалось урчание сливного бачка, доносившееся из женского туалета за стенкой. Оно звучало, как чьи-то судорожные всхлипы, будто там плакал кто-то, кто решил не выходить больше из этой маленькой, холодной, запертой кабинки, лишь бы остаться одному со своей болью».
«Возможно, виновата была журчавшая вода, – сказал однорукий, – возможно, причина была в том, что я все время выбирал для своих объяснений одни и те же слова. Объяснения мои были обращены не к Штицу или еще кому-то конкретно, а к целому миру, – так сказать, моя прощальная речь, речь мертвого матроса, перед незрячими очами которого вся команда салютует в последний раз, прежде чем он соскользнет в свою соленую могилу. Во всяком случае, я вдруг заметил, что Штица рядом со мною нет. Я повернулся, пошел обратно в трактирный зал и, проходя, услыхал, как он хохочет на кухне с хозяйской женой. Ну, да не важно», – добавил Литфас.
«Я вернулся к столу и сел рядом с Цердахелем и Раком. Позади, справа в уголке, подальше от остальных, сидел Де Селби. Он был один. Инга играл на игровом автомате. Совершенно забыв обо мне, он полностью погрузился в свою игру и шепотом вычислял, какая следующая картинка появится в окошке».
Литфас подпер рукой голову и закрыл глаза, словно пытался во всех подробностях воскресить перед собой ту сцену. «Ваша госпожа тетушка крепко прижимала к себе Ослипа и через его голову беседовала с Анной. Люмьер бесцельно слонялся по комнате, будто ума лишился. Надь что-то настойчиво говорил хозяину. Тут из кухни явился Штиц, и ни с того ни с сего все пришло в движение. Он подсел за стол к вашей тетушке; таким образом, она и Ослип теперь оказались между Штицем и Анной. Рак встал и попросил, чтобы ему принесли пилу. Он тоже подсел к Анне и принялся выводить музыку на пиле. Анна пела под аккомпанемент. У нее удивительный голос», – заявил однорукий.
«Цердахель заговорил со мною, чего он прежде никогда не делал. Надь присоединился к нам и сообщил, что хозяин сготовит нам уху. Люмьер, похоже, только теперь заметил появление Штица. С таким выражением на лице, будто он наконец-то узрел потерянную родину, он взял стул из-за стола, где сидел Де Селби, и уселся напротив Штица, за тот их большой стол. Де Селби сидел не подымая глаз, – Литфас провел рукой по своей лысине. – Перед ним на столе стоял графин с вином, маленький белый кувшинчик и блюдце, на котором лежали два неочищенных вареных яйца. Я слушал Цердахеля, который опять пустился говорить о том, как выиграл у своего дядюшки лестницу. Он рассказывал свою историю Надь-Вагу, который не проявлял к ней ни малейшего интереса и даже не пытался сделать вид, будто слушает. Да впрочем, он ведь эту историю и так уже слышал. А у меня в руках вдруг очутился стакан для игральных костей. Откуда он взялся – для меня по сей день загадка».
«Я посмотрел на Анну; она сидела рядом с Раком и пела. Заметив, что я за ней наблюдаю, она тут же замолкла. Меня это почему-то разозлило, и я принялся трясти стакан обеими руками, чтобы кубики падали на стол. Сначала я даже внимания не обращал на выпадавшие очки. Я смотрел на Ингу, наблюдал, как он дергает ручку игрового автомата, и чувствовал, что что-то тут не так и не то. “Когда ты не думаешь, – говорится в одном месте в наших Книгах, – тогда-то и думаешь ты сам!” – воскликнул Литфас. – И в самом деле: я бросал кости и вдруг заметил, что в результате каждого моего броска выходит одна и та же комбинация – кубики выстраивались на столе в правильном порядке, как по линейке. Письмо пауков-сенокосцев на белой стене клозета! То было сообщение, фраза, записанная на непонятном мне языке, и, по-видимому, она должна была открыть мне то, о чем я и так уже догадывался… Стоп! – однорукий выпрямился на стуле, – …открыть мне, что отныне жизнь моя течет вспять. Цердахель, очевидно, тоже наблюдал за моими бросками; во всяком случае, он вдруг прервал свой рассказ, какое-то время смотрел на меня, не говоря ни слова, а затем, словно издеваясь надо мной, начал рассказывать историю одного человека, с которым однажды познакомился на кирмесе: тот обладал способностью на расстоянии, одной силой своего взгляда, заставлять кубики на столе перекатываться так или сяк, как ему захочется, – и даже изменять значившееся на них число очков, при том что сами кубики оставались неподвижными. Рак, похоже, прислушивался к тому, что говорил еврей, и, заинтригованный его историей, отставил пилу в угол. Он вернулся за наш стол – второй поворот гаечного ключа», – многозначительно произнес однорукий.
Я посмотрел на него вопросительно, так как не сообразил, что он желает этим сказать, однако он, не заботясь о том, продолжал свой рассказ: «Анна на меня злилась: ведь это я спугнул Люмьера и испортил ей все развлечение, – сказал он. – Она повернулась к вашей тетушке, но та была занята Ослипом. Люмьер все это время сидел молча; он ревниво поглядывал то на Рака, то на Анну; Штиц тем временем что-то ему говорил, но ответа не получал. Люмьер лишь изредка сердито теребил рукой левое ухо, оттягивая его мочку, – так, словно старался защититься от назойливости Штица. Однако стоило Раку пересесть к нам, он с облегчением откинулся назад на своем стуле и начал, расслабившись, небрежно расставлять фигуры на шахматной доске. И когда Штиц опять спросил его, не согласится ли он с ним сыграть (спросил так громко, что и за нашим столом слышно было!), Люмьер и в самом деле согласился. Должен признаться, меня это порадовало», – сказал Литфас. Он прищелкнул языком.
«Намечался потлач, – сказал он. – “Мул роет копытом землю”, – так у нас принято говорить, если кто-то переступает неписаный закон, а Люмьер в ту минуту именно так и сделал. Существует негласный запрет на то, чтобы сильный игрок садился играть со слабым. Это считается нарушением хорошего тона, – пояснил он. – В такой игре нет смысла. Ну и в результате, не успели они и десяти ходов сделать, а партия уже близилась к концу. Стоп!
И тут прозвучал чей-то выкрик, сигнал к началу потлача. Гробовое молчание, с каким все смотрели на тех двоих, игравших в шахматы, вдруг было нарушено возгласом: “Чур, мне светлое!” – на что Штиц, уже занесший в руке фигуру, чтобы шмякнуть ее на какое-нибудь поле, моментально откликнулся: “А мне мутное!” – Литфас встал. – Все шло как по заранее намеченному плану. Некоторые из нас тут же последовали призыву и обменялись бокалами. Ваша тетушка по неосторожности далеко отодвинула локтем свой бокал, так что он оказался рядом с бокалом Люмьера. Тот как раз держал в руке уже съеденную шахматную фигуру, перевернув ее головой вниз, словно желал что-то кому-то доказать этим жестом.
В то самое мгновение Де Селби, не обращавший ни малейшего внимания на происходившее кругом, вдруг хлопнул в ладоши. “Яйцо!” – воскликнул он. “Яйцо!” – все остальные, занятые разменом, однако не желавшие пропустить что-то новенькое, невиданное, повернули головы и посмотрели на служку. Де Селби очистил одно из яиц и положил на горлышко своего графина, в котором горел маленький огонек. То было голубоватое, таинственное мерцание, и на секунду возникло такое чувство, будто сердце времени остановилось. Между тем яйцо становилось все тоньше, вытягивалось все сильнее, все ниже провисало в стеклянное отверстие, пока наконец не шлепнулось с тихим, приглушенным звуком на дно графина и не лопнуло от удара».
Однорукий приподнял голову, словно он и сейчас прислушивался к тому звуку.
«Происходило нечто вроде рождения, – сказал он, – и, когда оно совершилось, все почувствовали столь сильное облегчение, будто это они сами рождались на свет и, слава Богу, благополучно пережили весь процесс. Штиц хотел пропустить глоток и ухватил – не знаю, случайно или намеренно, – бокал Люмьера, тем временем как тот, погруженный в размышления об игре, схватился за бокал вашей тетушки, оттого что своего бокала не нашел. То есть, все произошло машинально, – пояснил Литфас, – и я даже задним числом не могу не испытывать определенного злорадства, хотя именно я в тот день был сражен безжалостнее всех прочих. Сначала я лишился руки, а затем, во время всей этой чехарды со стаканами, окончательно потерял Анну. Вероятно, оттого, что она заметила подмену бокалов (так же, как заметил это я), она вскрикнула, чтобы помешать Люмьеру допить вино, и едва не упала со стула, тем временем как я от возбуждения опрокинул игральный стакан и, машинально, принялся собирать рассыпавшиеся по полу кости».
«Если бы в тот момент на помощь ей пришел я, а не Рак, – тогда, я почти уверен, она и поныне была бы со мной. Но как бы то ни было, – заметил он, – она ему не принесет счастья. Как говорится, “она любит побежденных, однако обманывает их с победителями”». Он выглядел довольным.
«В ту минуту она потеряла Люмьера, потому что тот выпил из бокала вашей тетушки, а это при киш-потлаше возбраняется. “Он заглянул ей под юбку, – говорится в пословице, – и теперь она носит короткий передник”. Никому из бирешей не разрешается во время малого потлача выведывать мысли женщины – иначе он безвозвратно подпадет под ее власть».
Мне вспомнилось, как Люмьер сидел у моей постели, тяжело дыша от возбуждения. «У меня имеется фото вашей тетушки! – прошептал он мне тогда. – Хотите взглянуть?»
«Люмьер потерял Анну. А вашу тетушку он не получит, – продолжал однорукий. – Когда он увидал, как Рак бросился к Анне, он вдруг сообразил, что он наделал, вскочил – и опрокинул при этом стол с доской и фигурами. Он был вне себя. Задыхаясь, он подбежал к окну и распахнул его – глотнуть свежего воздуха. Он стоял перед окном, и слезы лились у него из глаз, катились по лицу – но не только из глаз у него текла водичка! – злорадно воскликнул Литфас. – Он обоссался прямо перед всеми».
Литфас стукнул кулаком по столу. Но тут же овладел собой, взглянул на меня и спокойно сказал: «Оба мы в тот день потеряли всё!» И, помолчав, добавил с тихим смехом: «Бог пораскинул мозгами! Теперь понимаете?» Он сердито встряхнул головой.
Глава восьмая
БОЛЬШОЙ ПОТЛАЧ
ДОВОЛЬНО!
Я встал. «Вранье!» – сказал я. Однорукий посмотрел на меня озадаченно, однако промолчал. «Я слышал вашу историю от Люмьера. Только он рассказал ее несколько иначе. Различия не так уж велики, – сказал я, – но о нескольких решающих моментах он мне рассказал совсем другое, а если бы я спросил Анну, я бы, вероятно, услышал какую-нибудь новую ложь». Литфас не шелохнулся. Несмотря на то у меня было ощущение, что он испуган. «Вы хотите пойти к Анне?» – спросил он. «Почему бы и нет? – отвечал я и прибавил с таким видом, будто и впрямь собрался к ней: – В любом случае, мне пора идти».
Я подождал еще минуту, но он никак не реагировал, только пожал плечами, давая мне понять, что он меня не удерживает. Я повернулся и пошел. Сделав пару шагов, я очутился у дверей, наклонился, поднял засов и вышел. Дверь у меня за спиною захлопнулась сама собой, с легким щелчком, будто кто-то осторожно надавил на крышку чемодана.
Снаружи на тротуаре, под большим окном магазина Литфаса, стояла моя тачка. Похоже, пока я сидел у однорукого, прошел дождь, потому что на дне тачки образовалась лужица, которая отсвечивала темными отблесками, отражая слабый свет, падавший из витрины на улицу. Что-то светлое виднелось в воде, какой-то листок бумаги. Я выудил его двумя пальцами и поднес к длинной полоске света. Это была одна из Ингиных рекламок.
Дождя уже не было. Но веял свежий, почти осенний ветер, иногда трепавший крону маленького куцего деревца, которое, чуть отступив от дороги, стояло на свободном соседнем участке. На нижнем суку висела какая-то тряпка – кухонное полотенце или нижняя рубашка. Ее все время подбрасывало ветром, однако ей никак не удавалось уцепиться за ветки повыше, до которых она, похоже, стремилась добраться. Она развевалась там, как некий знак, предназначенный для меня, и я вспомнил о том, что недавно читал в книге Коллинза о выращивании шпалерных растений, – что во многих частях Европы, вплоть до середины прошлого века, поклонялись богам или, вернее, духам гор, которых отождествляли с духами деревьев, и оттого развешивали по сучьям деревьев определенных пород простыни и одежды больных, а также менструальные повязки, принадлежавшие бесплодным женщинам, в надежде, что страдания утихнут, а тяготеющее на «неплодной» проклятие будет снято. «Точно таким образом, – говорилось в той же книге, – в определенных местностях имущество тех, кто умерли на чужбине, закапывалось в горах или подвешивалось на дереве, чтобы покойник, если он пожелает пробраться домой, дошел только до того дерева, а дальше проникнуть не смог».
Я вспомнил дерево перед окном своей больничной залы. Тетушка развешивала на нем на просушку простыни и полотенца, и я представил себе: случись такое, что я действительно умер, и моя мать вместе с моими сестрами и братом отправится на вершину одного из холмов близ моего родного города, к такому вот дереву, и все они будут нагружены вещами, оставшимися после меня, и маленькой процессией подымутся к дереву, чтобы развесить все на его ветках или схоронить у корней, – так оно и будет, стоит им только получить весть о моей кончине.
Я сделал над собой усилие. Я не имел права так думать: ведь думая так, я признавал правомерность всего, что тут со мной происходило. А я вовсе не хотел этого. И все же взгляд мой опять вернулся к дереву, и я еще некоторое время наблюдал за маленьким спектаклем, какой устраивал ветер с одиноким белым лоскутом. Мой взгляд цеплялся за эту тряпку как за что-то такое, что выглядело инородным в мире, обступившем меня здесь, – будто трепыхавшийся на ветках лоскут высмеивал и этот мир, и меня самого. И вдруг мне почудилось: у меня за спиной раздался голос, который тихо позвал меня по имени. Я резко обернулся – то было мое прежнее имя, которым меня называли на родине, а здесь я его уже давным-давно не слышал. Но там никого не было. Только деревце шелестело под порывом ветра.
Я взялся за рукояти тачки и поднял ее. Она показалась мне такой же тяжелой, как в первый вечер. Из магазина доносился кашель Литфаса, он громко говорил сам с собой, неразборчиво, и опять кашлял.
«От этого вина не пьянеют!» – сказал он мне в начале своих объяснений. Похоже, применительно к нему эта фраза все-таки была не верна, потому что, когда я встал на узкий приступок под витриной и заглянул внутрь магазина, где по-прежнему мерцал свет маленькой свечи, я увидал тень его головы, мотавшуюся на фоне стенного шкафа туда-сюда, как у пьяного.
Литфас все продолжал свои речи. Извергая хриплые ругательства, он натолкнулся всей тяжестью тела на какой-то предмет (вероятно, стул), отшвырнул его ногой, оступился и ударился о стену. Затем раздался другой глухой стук, произошедший, по-видимому, оттого, что он резко откинул доску сбоку прилавка.
Я опасался, что он может погнаться за мной, а потому откатил тачку за угол дома и поставил ее у стены, в тени, отчетливо вычерченной на земле светом уличного фонаря. Однорукий, в самом деле, копошился за входной дверью, однако не затем, чтобы открыть ее (как показалось мне сначала), – во всяком случае, я вскоре услышал его удаляющиеся шаркающие шаги. Значит, он просто закрывал дверь за мной на засов. Потом все стало тихо, как было, и я невольно затаил дыхание, потому что представил себе: возможно, и он сейчас стоит за стеною, возможно, прямо напротив меня, и тоже прислушивается, только того и дожидаясь, чтобы я сделал какую-нибудь ошибку, обнаружил свое присутствие тут, снаружи, неловким движением или шорохом.
Прошло несколько минут. Ничего не происходило. Возможно, он все-таки сообразил: он слишком пьян для того, чтобы предпринять что-либо против меня или даже просто отправиться домой, – и решил устроиться поудобнее в старом кресле и немного проспаться.
Осторожно, чтобы он меня не услышал, выкатил я свою тачку из укрытия за домом, радуясь тому, что прошел дождь: намокшая глинистая почва скрадывала звуки. Но стоило мне сделать шаг по дороге, как я услыхал у себя за спиной приглушенное покашливание, а когда обернулся – увидал, что он стоит позади меня и его белая рубаха сияет в темноте, как язык пламени.