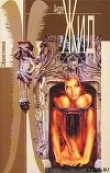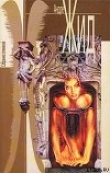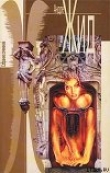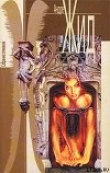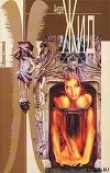Текст книги "У бирешей"
Автор книги: Клаус Хоффер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Глава четвертая
НАОБОРОТИСТЫЙ
«Пойдемте немного перекусим», – предложил Де Селби с таким видом, словно хотел подвести черту под всем сказанным раньше. И тут же, будто это не противоречило только что произнесенным словам, а лишь объясняло их, прибавил: «Инга наверняка уже ждет». Рядом с магазином (вход в него представлял собой широкую арку с коробовым сводом) несколько ступенек вело в тесную, длинную и узкую забегаловку, над которой едва можно было различить потускневшую надпись: «Трактир Лондон». Посередине заведения стоял непривычно маленький бильярдный стол, а за ним – высокий человек лет сорока пяти. У него были светлые, в рыжину, вьющиеся волосы, разделенные пробором. Свет, падавший сверху, от старомодной, со шнурком-выключателем лампы в белом эмалевом абажуре, создавал ореол вокруг его головы. Держа бильярдный кий на весу большим и указательным пальцами, мужчина покачивал им. Де Селби обернулся и кивком головы указал мне на этого человека. Выходит, он и есть Инга. У него было интересное лицо с близко посаженными глазами, грубым, широким ртом, а на сильно выдававшейся верхней губе красовались испанские усы, закрученные вверх. Сильно выступающий кадык свисал на его длинной шее, словно подвешенный в мешке. Инга был невероятно тощ, и впечатление это еще усиливалось из-за низкого бильярдного стола, ножки которого оканчивались львиными лапами на манер ванны. Его старые, видавшие виды темные брюки в редкую полоску сверху были перехвачены широким поясом, над которым свисали длинные полы жилета, сужавшиеся книзу наподобие ласточкина хвоста, как у фрака. Если он во время игры наклонялся далеко вперед, эти концы беззвучно касались обитого зеленой материей бортика стола. Кроме нас троих в кабаке никого не было, не считая хозяина: было слышно, как тот возился с кастрюлями, ножами и вилками где-то позади, вероятно, в кухне, за итальянской шторой из свисающих нитей с бусами. Де Селби спросил меня, что я буду есть, и громко сообщил наш заказ хозяину.
Когда я выступил из-за его спины, Инга-Наоборотистый несколько раз кряду стукнул кием об пол, как имеют обыкновение делать игроки в бильярд, если довольны ударом. Де Селби кивнул в знак приветствия, я громко поздоровался, и мы присели за столик в одной из ниш, оклеенной дешевыми обоями под кожу. На стене, с равномерными интервалами, были приделаны лампы в красных пластиковых абажурах; отражавшие их свет медные столешницы вспыхивали неестественно красными сполохами, как жар в искусственном камине. Слегка провисший провод над стойкой бара образовывал две гирлянды: выкрашенные красной краской лампочки чередовались на них с бутафорскими стручками перца. Бусины занавески издали легкое звяканье, когда хозяин, одетый в плюшевый халат с оранжевыми цветами, появился за стойкой. Он принес в глиняном горшочке капустный суп, заказанный Де Селби. Передо мной он поставил на стол фарфоровую чашку без ручки, наполненную турецким кофе, рядом – рюмку с перцовкой, которую рекомендовал мне служка. Я пригубил глоток. Водка чертовски жгла. Наоборотистый тем временем продолжал играть в бильярд сам с собой. Перед каждым ударом он, казалось, досконально обдумывал направление, силу удара, подкрутку. При этом он слегка наклонял голову в сторону, как будто сам наблюдал за своей игрой. Иногда он зажимал кий между ног и натирал его кожаный конец кубиком голубого мела, извлеченным из кармана жилетки. Потом он присел половиной седалища на край стола, завел кий за спину, как скрипичный смычок, и из этой неудобной позиции сделал легкий, прицельный удар по белому шару. Шар, вращаясь, устремился почти параллельно бортику, коснулся угла, сменил направление и медленно вернулся к двум другим шарам. Потом Инга опять направил кий почти перпендикулярно к полю и ударил таким образом, что белый шар, коснувшись красного, сам собою вернулся назад к черному и ткнулся в него с легким причмокиванием, прозвучавшим нежно, как поцелуй. Удары, похоже, были чрезвычайно сложными, и, когда они были исполнены и вы видели катящиеся шары, вам хотелось хлопать в ладоши от изумления – настолько выверенными были эти удары.
Мыслить последовательно
«Девяносто третий удар за эту игру», – сказал Наоборотистый и снова натер кончик кия голубым мелом. Он обернулся к Де Селби и спросил: «Не хочешь сыграть?» – «Нет, спасибо, сегодня не хочется», – сказал Де Селби и толкнул меня под столом коленкой. «Считает!» – прошептал он. «Жаль», – сказал Наоборотистый и изготовился к следующему удару. Всем корпусом склонившись над столом, он искоса взглянул на меня и добавил: «Де Селби – игрок по наитию». На этот раз Наоборотистый оплошал, красный шар перескочил через бортик и шмыгнул как мелкий зверек под один из столиков в углу заведения. «Следствие износа», – обронил он замечание, которое мне сперва мало что прояснило. Он выпрямился и, подобно фокуснику, извлек из кармана брюк новый красный шар, взвесил его в правой руке и выложил на бильярдный стол, к остальным. «Де Селби обычно словно бы нащупывает траекторию шаров, вслепую. Ему не дано высчитывать. Три комбинации – для него уже предел», – сказал Наоборотистый. Имя Де Селби звучало в его устах почти как «дерзельбе»3. «А я дохожу до тридцати – довольно значительное число, даже для тех, кто играет с расчетом. Но и оно – пустяки. Подите-ка сюда», – сказал он, подзывая меня. Я встал. Наоборотистый указал на шары. «Смотрите, какая у нас тут расстановка. Удар средней сложности. Требует девяти вычислений, а именно: направление, в каком я бью, сила удара, сила соударения, первый отскок и траектория своего шара, замедление при касании бортика, то есть сила трения, второе соударение, а стало быть, второй отскок, передача вращательного движения и траектория отката назад, не просчитанная, как вы только что имели возможность убедиться, как и то, насколько износилась поверхность шара, какова температура воздуха и влажность – все это оказывает влияние на шары, на их скорость. Таблица умножения при игре в бильярд, скажете вы. Верно. И все же – положение этих трех шаров, – сказал Наоборотистый и высморкался, – предоставляет заурядному игроку возможность для удара в двадцати пяти направлениях. А если удар у него достаточно сильный, тогда это число нужно еще удвоить или утроить, хотя некоторые участки пути шаров, особенно при откате, непременно совпадут». Наоборотистый прервал свою лекцию и подошел к стойке бара. Из стеклянной емкости он на глазок сыпанул сахар в кофейную чашку, старательно размешал и выпил кофе одним глотком. «Вот этот кий, между прочим, – сказал он, поднимая кий кверху, – я специально выписал из Парижа. Он внутри выдолблен, и в отверстие вставлен стержень из сплава платины с иридием, чтобы уменьшить зависимость от атмосферных условий». Он быстрым движением бросил мне кий, чтобы я мог рассмотреть его ближе. Толстый нижний конец был украшен рельефным изображением беременной женщины с огромными выпирающими грудями. Она обеими руками поддерживала толстую утробу. «Мой вклад в преумножение рода бирешей», – смеясь, сказал Наоборотистый. Он забрал у меня кий и опять указал им на шары. «Для хорошего игрока из названных двадцати пяти возможностей сразу же отпадут этак двадцать-двадцать две, потому что они без нужды усложняют расчеты дальнейшего хода игры или потому что они создадут позиции, неудобные для дальнейших ударов. Таким образом, остаются три возможных удара, которые ведут к пока еще неясному количеству будущих комбинаций. Но неужели действительно хороший игрок – это тот, кто при каждом ударе в состоянии выбрать между тремя вариантами? Вы хотя бы возведите это число в куб! Уже при вычислении третьего удара вы имеете дело не менее чем с семьюстами двадцатью девятью позициями. Такое трудно удерживать в памяти. Спросите Де Селби!» – Наоборотистый произнес имя так, будто сказал «дензельбен»4. Тот сидел за столом, откинув голову и закрыв глаза, как будто спал. «Так что в действительности не остается ничего другого, – сказал Наоборотистый и правой рукой подтолкнул белый шар, заставив его сначала обежать весь стол, затем слегка коснуться красного шара, а под конец – белого, помеченного черной точкой, которая на первый взгляд казалась пятнышком грязи. – Нужно уже при первом ударе постараться свести выбор к минимуму. Минимум – это единица. Соединять три в одном – это, как говорится у евреев, “пильпуль” * – трудно и легко в одно и то же время». Я украдкой глянул на Де Селби – его голова, прислоненная к обивке стены, свесилась набок. «Для подобного акта насилия – а ведь это и есть насильственный акт, так как в его основании лежит всего-навсего гипотеза, то есть моя уверенность в том, что при наличии соответствующих познаний в геометрии и динамике должно быть возможным и действительно выполнимым, чтобы при каждом моем ударе шары возвращались в точности на то место, откуда я их отправил, – так значит, для подобного акта физически-математического насилия…» – внезапно я расслышал, как сквозь произносимые слова прорвалось и с присвистом выскочило наружу некое число, – звук был такой, будто кто бросил лук в кипящее масло. Сто восемьдесят четыре тысячи сорок один! Непосредственно вслед за тем он продолжал: «…нужна в первую очередь хладнокровная, расчетливая голова, затем – способность мыслить последовательно и, наконец, способность запоминать, простирающаяся в том числе в будущее. Игрок по наитию, – подчеркнул Наоборотистый и высморкался (точно так, как предсказывал Де Селби), – обо всем этом и понятия не имеет. Он не упорядочивает свои мысли, а полагается на интуицию. Он надеется, что его мозг вспомнит и срыгнет, выразимся так. А потому ему все время не хватает точности. И тем не менее его ударам – всего лишь приблизительным, словно заспанным – присуще своеобразное очарование. Однако как же действует игрок, играющий по плану? Я, например, перемещаю свой собственный рассудок в эти шары, или, скажем по-другому, я перемещаю шары в свой рассудок. Я сам превращаюсь в шар, едва только увижу игровое поле, величаво простирающееся передо мной до самого горизонта. “Его-то мне, значит, и предстоит пересечь”, – говорю я сам себе. Я готов. Кий, удар! И я качусь, сначала медленно, потом быстрее. И пока я качусь, поле разворачивается передо мной, метр за метром. Как в замедленной съемке, почти теряешь сознание. Вот я пересекаю свою предыдущую траекторию – мысленный след, отпечатавшийся на игровом поле, – и будущие пути вычерчиваются передо мною на сукне. Я проношусь под ними, как под мостами. Мои глаза видят диспозиции двенадцатого, двадцатого, тридцатого удара. Но тут вдруг: бах! – кажется, будто шары раскалываются надвое. Мозг в обмороке. Остановка. Способность представлять и вспоминать больше не желает подчиняться моей воле. Отчего?» – «Оттого, что ты ступил на обратный путь!» – выкрикнул Де Селби. Он чуть распрямился, сохраняя свою прежнюю позу, затем подтянул ноги на скамью и наконец улегся там, согнув ноги в коленях. Я посмотрел на него. Неужели он все слышал? Он лежал с открытыми глазами и глядел в потолок. «Для Де Селби это утешение», – сказал Наоборотистый, причем, словно желая оправдать мои ожидания, он опять произнес имя как «дерзельбе». Я пристально взглянул на него, но он даже не шелохнулся. «Утешение игрока по наитию состоит в том, что даже самые точные расчеты в этот миг утрачивают свою точность, на них уже нельзя положиться. Но отчего? – объяснение Де Селби ему, по-видимому, не казалось заслуживающим рассмотрения. – Я ведь всегда поступаю одним и тем же образом, – продолжал он. – При каждом ударе я сопоставляю три оптимальные возможности. Тем самым я, как могу, избавляюсь от бешеного потока чисел, от гигантского количества возможных комбинаций. Я использую эффект маятника: подобно полузащитнику я устремляюсь от форпостов числовых рядов назад, к извлеченным из них корням. От второго ряда чисел ко второй точке соударения, вперед, к третьему ряду, опять назад, ко второй точке соударения, от седьмой точки – к двадцать девятому ряду. Как говорится, “пес возвращается на свою блевотину” – так и я возвращаюсь. Но тут что-то случается: ломается некое колесико, пружина соскакивает, что-то внутри меня взвизгивает и валится с ног. Мозг в обмороке. Обратный путь. Может быть, дело в том, что разница между количеством соударений и действительным количеством возможностей становится слишком большой? Или система чисел дает сбой? Я вижу ее изнутри. Двадцать девять – простое число, а с простыми числами всегда сложно. Быть может, все дело в этом?»
Плоская пропасть
«Ну да все равно, – продолжал Наоборотистый. – Попытка сдержать саморазрастание количества комбинаций приводит к тому, что способность переноситься сознанием в бильярдный шар вдруг перестает действовать. И тогда я стою над зеленой пропастью этого стола, а сеть покрывавших его траекторий шаров, до того момента вполне ясная, как схема частей выкройки, доступная пониманию любого портняжки-подмастерья, начинает словно бы провисать, растворяться. Шары катятся не только по плоскости, они проносятся в пространстве моего воображения, сквозь самые его глубины. Эхо стремится им вослед, свист слышится в правом моем ухе, я оказываюсь в той точке, где встречаются разные измерения. Эффект сработавшего обратного переключения. Достигнув этой точки, необходимо прерваться и закрыть глаза. Я опять поднимаю взгляд. Шары покоятся, будто ничего не происходило, – мертвые глаза, которыми подмигивает мне эта зеленая плоскость». Наоборотистый говорил со все большим увлечением. Бильярдный кий он крутил и сжимал в руках так, будто хотел выкрутить его, как тряпку. «Если бы мой мозг, – выговорил он сдавленным голосом, словно читал краткую молитву, – если бы мой мозг сумел осуществить этот один-единственный рывок, я бы навсегда оставил бильярдные шары или изобрел какую-нибудь новую игру. И мой мозг вытачивает себе новый кий! – сказав это, он сделал тот же вульгарный жест, что и Цердахель во время вчерашнего разговора. – Вынашивает, пестует такой кий, какой сумеет исполнить все, чего я добиваюсь. Не оттого ли и свист, то и дело возникающий у меня в ухе? Что-то скажет этот чудак Наоборотистый, когда увидит снесенное им яйцо?» – смеясь, прибавил он, и, казалось, вместе с этими словами ушло в землю, разрядилось все напряжение, переполнявшее его голову. Он легким шагом отошел к стене и почти с нежностью прислонил к ней кий. Затем отряхнул мел с рук и с одежды. Сняв с вешалки свой дождевой плащ, он накинул его на плечи. «К новым берегам, Ханс!» – воскликнул он. Это он обо мне.
Прощание
Я посмотрел на часы. Было ровно восемь. Начинался новый день. Моросил мелкий дождь. Наоборотистый достал из кармана пиджака большущую связку ключей и открыл двери магазина. Я ждал, стоя с тачкой на улице; тем временем он привычными движениями расставлял перед входом ящики с овощами и уже пожухшим салатом. «Ты только погляди! – воскликнул он, указывая на небо. – Отличный дождик! Теперь овощи опять свежие. Инга, заклинатель дождей!» – поверх костюма он натянул зеленый рабочий халат с эмблемой торговой сети. На голову – пыльный берет размером с тарелку. «На, лови!» – сказал он, бросая мне синюю фуражку, форменный головной убор почтальона. Это была фуражка моего дяди. Лента внутри совсем засалилась от пота, почтовый рожок на кокарде сломался. В этой вещи присутствовал покойник. Я понюхал фуражку и снял с нее длинную черную волосину. Вот так, значит, пахнут покойники? Когда мне было пятнадцать, умерла бабушка, и я, под надзором одного из членов семьи, был принужден поцеловать ее в губы. Каков был на вкус тот поцелуй? Я всегда полагал, что родственникам следовало бы питаться своими мертвецами. Плоть покойницы пахла сырым куриным мясом и на вкус была такой же. Однажды я попробовал свою мочу. «Мозг срыгивает», говорят биреши. Они всему подыщут объяснение. Я сделался бледной тенью покойного. «Дядюшка умер!» – выкрикнула моя старшая сестра, вбежав в нашу столовую. Все сразу поняли, о чем речь. Мать побледнела и опустила ложку с супом прямо на скатерть. У брата вокруг глаз появились белые круги, которые медленно ширились, пока наконец его лицо не сделалось совсем бескровным. В кухне выла от боли моя младшая сестрица, которая от потрясения опрокинула себе на руку кастрюлю с кипящей водой. Она вбежала в комнату. Я смотрел на ее руку, покрасневшая кожа на глазах становилась мелкозернистой, превращалась в язву ожога. Теперь закричал и я. Началось хлопанье дверьми, выдвижной ящик с бутылочками лекарств грохотал, волочась по полу. Я смотрел на брошенную суповую ложку, лежавшую с таким видом, будто именно она и была во всем виновата. Потом паковали чемодан, и мать укладывала в него аккуратно сложенные предметы одежды, один за другим, причем брала их в руки так, словно это были мертвые младенцы. «Тебе там ничего не понадобится», – говорила она всякий раз, кладя очередную вещь в чемодан, будто хотела этими словами уничтожить ее. Я слышал, как она вечером, накануне моего отъезда, безнадежно стонала за закрытой дверью: «У него крадут будущее, а у меня – жизнь». Я лежал в постели без сна, и ее слова ударяли мне в грудь, как волны на реке. При всяком звуке у меня возникало ощущение, будто мне ножницами перерезают кровеносные сосуды, жилы, нервы – всё без разбора. Я вспоминал место из одной книги: «Всякое разумное существо, – значилось там, – … должно обязательно и непреложно вскрыть женщине живот и посмотреть, что же там внутри. А если внутри ребенок, значит, вас обжулили».*
Я встал в темноте, от боли голова моя моталась из стороны в сторону. Отыскав свечу, я отщипнул от нее немного воска и заткнул себе уши. Затем вернулся в постель. Я старался сжаться, свернуться, съежиться, я лежал, будто младенец в раскрытой материнской утробе. Когда мы на автобусе ехали в Вену, где я должен был пересесть на поезд, меня вытошнило прямо на колени матери. Белым супом, тем самым, вчерашнего дня. Во всем была виновата ложка. Мать сидела, ничего не замечая, в забытьи она только обнимала меня за плечи. Люди в автобусе пришли в негодование, нам пришлось выйти и поймать попутную машину. А когда мы приехали в Вену, она не хотела выходить. «Они не смеют отбирать у меня моего мальчика», – рыдала она все снова и снова. Водитель укутал ее в плед, отвел меня на платформу и посадил в поезд.
Он стоял и махал мне рукой, пока поезд не скрылся из виду. Потом он, наверное, вернулся к женщине, сидевшей в автомобиле. Теперь она была его собственностью. Все это произошло вчера.
Легенда
«Что думает биреш о воспоминаниях?»
«Мозг срыгивает», – гласит легенда.
«Анохи мне рассказывали, что, как гласит легенда, однажды анохи Иглемеч 5 пришел к анохи Таму (сокращенная форма имени “Штрем”, что значит Текущая вода”) и спросил его: “Скажи мне, Там, который сегодня день?” Там отвечал ему, как оно и было на самом деле: "Зачем вопрошаешь ты, Иглемеч, ты ведь и так знаешь, сегодня вторник”. – “Я тоже так думал, – возразил Иглемеч, – но потом меня вдруг осенило… – взгляни на небеса, Там, ощути свой собственный лоб, щеки и руки… – меня вдруг осенило: сегодня понедельник”. – “Ай, – вскричал Там, – браниться запрещено заповедями. Не хочешь ли ты для начала присесть, Иглемеч, брат мой?” Тот отклонил предложение Тама и продолжал настаивать на своем: “Сегодня вторник, сегодня понедельник.
То и другое – в одном!” Лишь тогда будет он в состоянии снова присесть (так пояснил он Таму), когда земля под его ногами перестанет пылать. “Зришь ли ты огонь, Там? Огонь, эмет 6, истину?” И он, желая явить знак откровения, зачерпнул рукой пригоршню песка. И впрямь, песок тут же был пожран пламенем. На другой день, так мне рассказывали (говорит анохи), Иглемеч пришел вновь и сказал: “Это злой рок, Там: не праздновать мне ближайшую субботу. Ты только посмотри на воздух, послушай, как гудит солнце. Машина времен сломалась. Сегодня опять понедельник!” В доказательство того, что он не может остаться, он зачерпнул пригоршню воды из колодца. Она тут же превратилась в кровь и коркой присохла к его ладони. Нечто подобное произошло и в пятницу. “Часы стоят, Там! – возгласил Иглемеч вместо приветствия. – Поверь мне, сегодня понедельник. Во сне мне было откровение: мы – потерялись, мы – отверженные. Есть в воздухе такие прорехи: через них можно выпасть из времени. Происходят такие вещи, которых быть не может. Все мы – дети Исхака (то есть “Исаака”), насмешника!” Во сне, как поведал Иглемеч, ему явился анохи Тикатилла и сказал: “Тот уголок земли, где ты живешь, проклят. Твой угол – тупой, однако на нем лежат проклятия острого угла. Ибо кругл тот круг, что ты чертишь, но окружность его – прямая!” – “Мои глаза, – вопил Иглемеч, – возвращаются на свою блевотину, как псы. Мы подобны волчкам, что вращаются все сильнее благодаря собственному бегу. Коли будем лить свечи – солнце будет светить весь день. Коли будем ткать погребальные покровы – никто больше не умрет. Всё неуспокоенное изломалось, стрелки часов указывают не время, а место. Здесь – понедельник. Громыхания исполнена его вечность”. В ответ на то, повествует легенда, Там решился прибегнуть к последнему средству и крикнул ему: “Не пытайся двигаться вперед, пойди назад, Иглемеч, мет 7 (то есть: “Он мертв”)!” И тот, в самом деле, вернулся в прежнее свое состояние (безжизненной земли)».
«Мозг срыгивает, – гласит легенда, – и воспоминания прокладывают себе путь. Что было, то есть, что есть, то будет. Эх мы, бедолаги!»
Третий продолжительный разговор
«Маленькая неопределенность, – сказал Наоборотистый, адресуясь ко мне: я в каморке рядом с торговым помещением, присев на низкий верстак, сортировал поступившую в тот день почту. – У бирешей это называется “эффектом неопределенности” *, – продолжал Наоборотистый, – причем подразумевают они переход из одного состояния Я в другое. В доказательство приводятся цитаты из наших Книг, в которых, например, сказано: "Отвращая взор от самого себя, я приближаюсь к самому себе”. Де Селби, случается, тоже испытывает подобные ощущения и сравнивает их с изменением агрегатных состояний. “Что-то в тебе разжижается, если ты сам хорошенько вглядишься в себя, – утверждает он и добавляет: – А только отвернешься от самого себя, и ты уже затвердел”. Я этого так отчетливо не ощущаю, то есть во мне подобных переходов не происходит. Я был и есть Инга. А Де Селби описывает это так: “Будто рассматриваешь свою руку, когда на нее падают отблески огня: роговая оболочка срастается над нею, подобно своду джунглей. Птицы начинают щебетать под этой кровлей!” Мне такие образы мало что говорят. Они ничуть не помогают, только еще больше все запутывают. Каким образом эта общественная система вообще способна функционировать, если каждый втихомолку все равно называет себя иначе, чем другие? Как представляет себе дело Цердахель? Он зовет меня “Наоборотистым” – ладно, пусть так, но ведь в глубине души я всегда был и остаюсь Ингой. Я, дескать, раскачиваюсь от вчера к завтра и наоборот», – сказал он и рассмеялся. Ничто ему не было свято, даже собственное имя. «“Позволь нам хоть одну-единственную, маленькую несвободу”, – говорит Цердахель, – продолжал Наоборотистый. – “Позволь нам хотя бы рядом с этой маленькой печкой побыть глупыми и счастливыми!” Он воображает, что может выставить меня на посмешище. Он издевается над тем, что у нас справедливо зовется “ложью гистрионов”. Он начисто лишен чувства чести. Притом мы в общих чертах принимаем ту систему бирешей, что сложилась вокруг легенды об именах, и, более того, мы свято блюдем основной принцип бирешей, гласящий: “Железоподобные кости, содержащие благороднейший мозг, можно разгрызть лишь соединенными усилиями всех зубов всех собак”.* Это наше исповедание веры, которое мы охотно прокричали бы в лицо всем анохи и Цердахелям всех времен. Красноречиво уже само имечко той чудной организации, которую сколотил Цердахель. “Свободные сыны бирешей” – только что бы тут значило “свободные”? Ни один биреш не свободен, а тот, кто делает вид, что намерен заплатить больше, чем имеется у него в кармане, – просто пройдоха. Сокращать путь любят только ленивцы, а Цердахель пытается сократить путь. Своим утверждением, будто мы сами и есть наши собственные предки, и нам вовсе не требуется познавать самих себя, и мы, дескать, можем преспокойно смириться с тем, чтобы наши имена давались нам другими, он освобождает каждого отдельного человека от обязанности искать свое место в общей системе. “Он не ищет, его находят”, – цитирует он, искажая Книги. И все, вздохнув с облегчением, устремляются по этому ложному, апокрифическому пути. Взгляните хоть на Де Селби, как он мучается. А все по милости Цердахеля с его лжеучениями! Мы, монотоны, – вдруг патетически возгласил Наоборотистый, будто выступая перед собранием, – мы, монотоны, признаем два великих принципа бирешей: насчет собак, возвращающихся на свою блевотину, и насчет совместного разгрызания кости. Как всякий разумный человек, мы рады тому, что для нас не существует прогресса, что мы не в состоянии крутить волчок истории, не вращаясь вместе с ним, как рады мы и тому обстоятельству, что производственные отношения и структура нашей маленькой общины не менялись на протяжении столетий и все, что мы делаем, не только отражает, но и воспроизводит нас же самих. А значит, тот образ, в каком предстает наша совместная жизнь в плодах нашего труда, как нельзя более наглядно иллюстрирует следующее: мы производим работу, а она производит нас, – следовательно, она создаст нам детей, которые будут такими же, какими были мы. Поскольку мы окружены “вещами, что вечно взирают на нас под одним и тем же углом зрения”, как выражается поэт *, и поскольку мы видим единственную возможность познания в этом нашем увековечивании самих себя в процессе труда, в этом вечном воскрешении всех наших свойств и отношений, – мы, стало быть, приветствуем и то, что наш шахматист однажды чрезвычайно метко обозначил как “пат бирешей”. Рассудок, учит нас басня, озаряет голову глупейшего! Мы не народ, становящийся глупее от понесенного урона, как нас иногда оговаривают. Историческая уверенность монотонов заключается в том, что мы, в течение столетий извивающиеся в муках на прокрустовом ложе истории, позна́ем наконец свою ошибку – и это станет вознаграждением за все перенесенные страдания. Каким же еще образом, кроме как вызов и ободрение, должны мы толковать то место в Книгах, где с резкостью, не допускающей возражений, провозглашено: глаза, подобно псам, в смертельной тоске по дому не могут отворачиваться от жизни даже в омерзительных ее сторонах. Однако мы решительно отвергаем ложное учение гистрионов, которое желает заставить нас уверовать, желает усыпить нас, проповедуя, будто мы сами и есть наши собственные отцы: я – “Наоборотистый”, ты – “Пройдет-через-два-окна” – какие-то мародеры на путях истории, которые с остервенелой жадностью бросаются на проходящие мимо телесные оболочки, дабы завладеть ими. Я не ашкеназ, как Цердахель, который топчет лицо Божие и повергает колесо перед крестом! Я не “Наоборотистый” – слышишь, ты? Я Инга!»
Открытка из Стоунхенджа
Я его почти не слушал. Его ораторская поза – я представлял себе, как тот сидит, закинув ногу на ногу, на мешках с мукой и в такт своим тирадам взмахивает кулаком в воздухе и грозно хмурит брови, – производила на меня отталкивающее впечатление. Цердахель не пытался добиться эффекта таким вот образом, пусть речи его порой были более сбивчивыми. Я вновь погрузился в работу. В ворохе рекламных рассылок передо мной на верстаке лежала почтовая открытка. Она была раскрашена от руки и изображала косматых неандертальцев, отплясывавших гротескный танец перед кельтским культовым сооружением в Стоунхендже на юге Англии. Внешнее и внутреннее кольца из каменных глыб, ныне разрушенные, на открытке были представлены целехонькими. Я перевернул открытку, желая полюбопытствовать, кто это здесь и откуда получил такую почту. Адрес был выведен неумелым детским почерком, по-английски. Он гласил: «Большому медведю в Цике». И ничего больше. Само послание тоже было написано по-английски: Replacement part being rushed with all possible speed, то есть приблизительно: «Запчасть выслана срочной почтой». Ниже были нарисованы два пальца, изображавшие букву V – знак победы? «Жизнь, – говорят здесь, – это веревочка, что вьется, вечно путаясь в одни и те же петельки и так же распутываясь», – кому бы тут взбрело в голову думать о победе. Кто это такой, “Большой медведь”? Имя – как в романах из жизни Дикого Запада. Как могли звать отправителя? Виктор? Вероника? Вильма? Я почувствовал тоску по моему прежнему миру, в котором не все было до такой степени сложным. Здесь же все для меня выглядело наигранным и искусственным. Люди вели себя вовсе не как люди, наделенные личными желаниями и стремлениями. Казалось, все это улетучилось, покинуло их тысячи лет назад. Ничто не существовало просто так, у всего имелось значение. Но разве не является неотъемлемой частью жизни – по крайней мере, иногда, – что ты просто ощущаешь свое существование, просто живешь и тебя никто особенно не замечает – вроде предмета ежедневного обихода, или природного явления, или знака препинания? Неужели и вздохнуть нельзя без того, чтобы за тобой не подглядывали, не завернули тебя в упаковку, не снабдили этикеткой? Кто я был такой – “Большой медведь”, или “Пройдет-через-два-окна”, или “Смеется-без-смысла”? Долго ли еще смогу я сопротивляться всему этому? А если нет – какие бы подсобные средства мог я изобрести себе в помощь? Подсчитывание? Шары? Имена? Ничто из этого мне не годилось. «Запчасть выслана срочной почтой», – это простое предложение, казалось, способно было разрешить больше проблем, чем все спекуляции бирешей, вместе взятые. «Я ведь тебя о чем-то спросил», – услышал я вдруг совсем рядом громкий голос Наоборотистого. Я вздрогнул. Он стоял в дверях. «Что ты там делаешь? Читаешь чужую почту? – он взял открытку у меня из рук. – А, это для Урса», – сказал он и недолго думая сунул ее в карман своего халата.
Биреши
«Так значит, Цердахель считает, – сказал Наоборотистый, опершись о дверной косяк, – что община бирешей не менялась с тех самых пор, как возникла. В доказательство он ссылается на большое количество мест в Книгах, которые рисуют нам исторически достоверную картину существования бирешей, с точностью до мелочей, причем рассказы эти настолько свежи, будто записаны сегодня. В каждом из них мы узнаем нашу жизнь, и они могли бы быть написаны любым из нас, пускай их древность может достигать тысячи лет. Отсюда Цердахель делает вывод, что не только условия труда, обычаи и общественные порядки, но и сами люди остались теми же. Не только задатки и черты характера, но и сам индивидуум – индивидуум, который является уникальной, недвусмысленной, не допускающей ложного истолкования комбинацией подобных свойств! – представляется ему как некая константа, сама себя воспроизводящая в процессе работы. Он справедливо утверждает, что наша общественная система как бы застыла в нашем труде – не только мы вкладываем себя в то, что мы создаем, но и наоборот: наши произведения вкладывают себя в нас. В этом я еще мог бы с ним согласиться, как и с другим его утверждением: дескать, каждый новый индивидуум – это намек, который должен помочь нам постичь самих себя неким новым и в то же время старым способом, а следовательно, всякая смерть устраняет из игры ненужную, ставшую лишней информацию. Я принимаю как вполне нормальное явление также то, что дети у нас умирают сотнями, даже не успев обрести собственную личность, – хотя окружная больница находится не далее как в десяти километрах от нашего селения. Потому что наше общество являет собою саморегулируемый процесс – я говорю: процесс, а не круговорот! – и будь у нас одним ребенком больше, это привело бы к возникновению избыточной информации, а тем самым и к усугублению наших мук. “Хороший ребенок – только мертвый ребенок!” – говорит циник, и он прав. Однако я не верю в неизбежность нашей судьбы. Поверь я в это, я вынужден был бы сдаться. А ведь мы, в ходе нашей истории, всегда умудрялись возвести в новую степень любые, даже самые каверзные логические построения! Вот если бы хоть одно-единственное поколение бирешей допустило повторение, не справилось с этой задачей – тогда бы и я считал загадку неразрешимой! Оттого я и говорю Цердахелю: “Как может быть верной твоя система, если в мою голову, стоит мне только задуматься о себе самом, сразу же просится имя Инга? И каким образом были бы тогда возможны Де-Селбиевы “аблакоки”?” И что же отвечает мне Цердахель? Цердахель говорит: “Все это – маленькая неопределенность! С именами дело обстоит так же, как с рельефом при входе в бальную залу: если вы стоите слишком далеко, образ расплывается, а если слишком близко – заглатывает зрителя. И тем не менее ты – биреш, потому что ты это видишь, а это дано лишь бирешу!” В ответ я обычно говорю ему: “Ох уж эта мне твоя маленькая неопределенность! Предположим, я и в самом деле был бы Наоборотистым – только кому какая была бы с того польза? Хоть ты и гордишься своими вещественными доказательствами, этой резьбой, но разве удастся кому-то написать ту злосчастную историю, о которой говорил Цердахель, если каждый будет сидеть и думать о ком-то другом? Ты о Наоборотистом, я – об Инге”. А Цердахель заявляет: “Всему виною ложные этимологии. Из языка на нас взирают развалины смысла. Всё объясняется эффектом неопределенности. Ты – Наоборотистый. Но как только начнешь размышлять над собой, становишься нечетким, расплывчатым, тебя поглощает нечто, ты делаешься Ингой”. – “Я не расплываюсь, – говорю я. – Если я и делаюсь нечетким, объясняется это тем, что все меня кличут Наоборотистым, хоть в действительности я – Инга. Я, так сказать, думаю вместе с вами, когда размышляю над собой, как ты это определяешь. Первым моим ответом, если я задумаюсь, является “Инга” – так уж оно заложено в моей натуре, и лишь по размышлении я начинаю колебаться!” – “Система обратима, – говорит Цердахель. – Попробуй сначала подумать о Наоборотистом. И что, ты думаешь, получится в итоге?” – “Инга!” – отвечаю я. А Цердахель говорит: “Конечно. Но виноваты в том не мы, то есть не “другие”. На самом деле во всем повинно то обстоятельство, что наши имена не сохранились в своей первоначальной форме – на них наслоилось огромное количество фантазий, так что в итоге из всех этих напластований выделились, обособились две крайности, два противоположных варианта: Инга – Наоборотистый”. – “Самое худшее в тебе то, – говорю я ему под конец, – что ты мешаешь правду с ложью, и в итоге они переплетаются до неразличимости”. – “Ну, вот видишь, – отвечает Цердахель, он ведь так любит, чтобы последнее слово всегда оставалось за ним, – именно так и говорит Наоборотистый на протяжении трех тысяч лет!” Круг замыкается. Однако мы не родимся заново. И я это знаю. Предположим, сменилась уже тысяча поколений бирешей и все они были повторениями первых трех или четырех – даже генератор случайностей имеет свои пределы. По крайней мере однажды за всю нашу долгую историю непременно должно было удаться сложить головоломку! Должен был бы совершиться мутационный скачок. Давно уже кто-то из нас должен был бы вскочить и заявить: “Да, я действительно ‘Слюды-кусок-домой-приволок’!” Тогда головоломка сложилась бы сама собой, и мы бы не стали вечер за вечером просиживать на этих мерзких, неудобных, жестких трактирных стульях и ломать головы над загадкой.