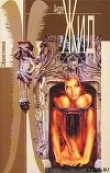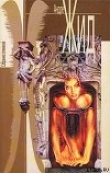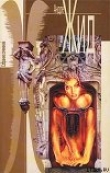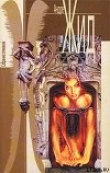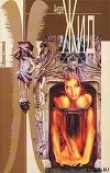Текст книги "У бирешей"
Автор книги: Клаус Хоффер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Что же из этого следует? Зрители качают головами, поддергивают брюки. Чем бы теперь заняться? Возвращаться домой не хочется: еще только ранний вечер. Тем не менее зрительный зал наполовину опустел, и вот-вот начнут закрывать двери на ярусы. “А что, если спрятаться от капельдинера, улегшись на пол между рядами кресел?” – думает кто-то. Быть может, если дать немного денег уборщице, которую знаешь уже много лет, удастся ее уломать и спокойно скоротать здесь время до завтрашнего вечера? Завтрашний вечер! Завтра вечером дают то же представление. То же самое представление, тот же состав актеров. Погрузившись в подобные размышления, зритель продолжает стоять на месте, забыв разнять ладони после заключительных аплодисментов.
Тут срабатывает некая защелка; кто-то невидимый нажимает на рычаг.
Занавес с шуршанием подымается. Певица-красавица вспархивает из постели и начинает свою обворожительную песню. Песня чрезвычайно нравится слушателям. Это заметно по разрумянившимся лицам, по восторженным восклицаниям. Умирающий король, тяжко вздыхая, покоряется тяжкой участи. С потолка сцены медленно ниспускается ангел смерти. Певица прерывает свои томные жалобы. Входят стражники. Все сконфуженно вытягиваются по стойке смирно. И на том конец.
Зритель в недоумении аплодирует».
Рукопись из Цельдёмёлька
Я перевернул листок, чтобы проверить, не написано ли чего и на обратной стороне, но там было пусто. Поэтому я, не подымая взгляда, так как чувствовал, что крестный краем глаза за мной наблюдает, приступил к чтению второго листка.
«До чего же странной жизнью мы живем», – начинался текст. Заглавия у него не было.
«До чего же странной жизнью мы живем!
Жил некогда анохи Йотек, чье имя значит “Благодетельный”. Предание гласит, что однажды, когда он созвал гостей на празднество, им действительно удалось записать историю своей общины так, как того требуют Книги: соединив имена членов общины в единый ряд и не забыв притом ни единого имени.
То был беспримерный случай в истории нашего народа! Тем ужаснее было для бирешей той общины, Цельдёмёлька, и тем ужаснее для нас, их непривитых побегов, что повесть их исчезла с лица земли в тот самый миг, как была положена на бумагу.
– Как говорится, она потухла пред очами Ахуры. Горе нам! Рассказывают, что сама их община, некогда цветущая, нищает все более и более. —
Минул год после того достопамятного события, гласит предание, и прежние гости (кои с того злополучного дня предались недеянию – не возделывали своих полей, не случали скотину для приплода) таинственным мановением судьбы, пусть ее и не существует, опять явились в тот же час в дом Йотека, благодетеля, – на сей раз каждый по отдельности, для того, чтобы поведать хозяину о крахе всех своих усилий. Ибо все они весь год усердствовали в исполнении тех повинностей и уроков, какие возложили на них их анохи.
О встрече никто предварительно не уславливался. Приняв удивительное повторение обстоятельств за перст судьбы, они – прежде чем поведать Йотеку о своих невзгодах – порешили опять взяться за решение прежней задачи, и души их были преисполнены надежды, предвкушали долгожданное свершение. И в самом деле, на этот раз им вновь удалось выстроить имена в стройный ряд. Но – на горе собравшимся и на горе нам всем – они преуспели всего лишь вполовину, ибо по причине необъяснимого, внезапного помрачения чувств, охватившего всех и каждого, записать повесть они не смогли.
– Уши Ахуры закрылись для бирешей, когда он получил сие известие. —
Год спустя все повторилось в третий, последний раз: те же гости, то же празднество. Но теперь, похоже, они принялись за дело под несчастливой звездой – каждый боялся испытать разочарование. Собравшиеся чувствовали себя измученными, их угнетало предчувствие неминуемого провала, настроение было крайне подавленным.
Некоторые из присутствовавших, как сами они позже поведали, несмотря на все свои усилия так и не смогли выговорить имена, безукоризненно стыковавшиеся одно с другим, – ибо к горлу их подкатывали рыдания, вызванные чересчур сильным порывом чувств. Их ушераздирающее бормотание разносилось окрест подобно недовольному шуршанию листьев, и даже на дальнем расстоянии оно было внятно слуху – как звон разлетающихся осколков стекла или, лучше, как треск ломающегося ледяного покрова на огромном озере.
– Рука Ахуры разбила зеркало. —
Мы – источник, из которого вы черпаете себя самих, источник, из которого вы созданы, – оканчивалась повесть. – Наше несчастие повелевает вам снова подхватить нить, вновь завязать узел. Вы – наживка, мы – леска удочки. Горе нам!»
Об оборотной стороне действия
«Вот это слова!» – воскликнул Люмьер, который следил за мною во время чтения, делая странные движения ртом; с таким видом взрослые люди присматривают за ребенком во время еды. «Вот это звучание! – воскликнул он снова. – Особенно если сравнить этот документ с неуклюжей поделкой Цердахеля. Цельдёмёльк! – сказал он. – Раньше так назывался город на юге, который некоторое время оставался совсем заброшенным, совсем как Ильмюц. “Община нищает все более и более” – эта фраза позволяет сделать выводы о времени возникновения текста. Его запись относят приблизительно к десятым-двадцатым годам предпоследнего столетия. Но датировка его не так уж важна – гораздо существеннее двойное заблуждение, в которое впадает почти всякий его читатель. Каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с нашими Книгами, увидит здесь документ, говорящий об искуплении. И действительно, на то существуют три указания, по-моему, неопровержимые.
Давайте перечислим их по порядку.
“Все воспринимай буквально, – говорит Гикатилла в своем комментарии к Вульгате, – тогда попадешь на Небеса!” Его призыв звучит иронически, так как в самой натуре бирешей заложено свойство ничего не воспринимать буквально – мы всё должны себе истолковывать. Это настоящее проклятие, ибо всякое толкование слова равнозначно уклонению от слова, а стало быть, лжи. Существует воззрение, согласно которому все наши Книги являются истолкованиями одного-единственного источника, который безвозвратно утерян. “Господа ушли, – говорят у нас, – а слуги заняты объяснениями”. Разве тем самым не все уже сказано? – опять воскликнул Люмьер. – Не значит ли это, что истина не дается нам, ускользает из наших рук? И чем дольше мы ее рассматриваем, тем дальше она от нас отодвигается, становится недостижимой, как горы на горизонте. И чем же еще, как не кощунственной попыткой толкования Книг, прибавления к ним апокрифической главы, – прибавил Люмьер, – прикажете считать попытку общины составить связную историю из имен всех своих членов – притом, что имена эти и так уже заимствованы из Книг?
Повесть “потухла пред очами Ахуры”, утверждает легенда. “Он затушил пожар огнем”, – говорят у нас в таких случаях, или: “Он исписал белый огонь черным огнем”. О том сообщает, еще отчетливее, следующее высказывание. “И на земле не будет больше ни шороха” – так звучит одна из последних фраз обетования. Именно на такое состояние намекают слова о том, что “уши Ахуры закрылись для бирешей”. Третье высказывание, в то же время, ясно обещает искупление – и уничтожает всякую надежду на него: “Рука Ахуры разбила зеркало!” Кому тут не придет на память наше предание о разделении земель? “Он разбил зеркало” – эта фраза означает: сам Ахура совершил то, что совершили наши праотцы-основатели, а значит, их вина с них снимается. Здесь нечто произошло во второй раз, нечто повторилось. Всем нам известно: такое способна совершить лишь Его воля.
Вы, пожалуй, подумаете: “В таком случае это высказывание все-таки однозначно!” Выходит, искупление существует? Правильно. Высказывание однозначно, и причем в двух отношениях. Ибо во всех достоверных письменных свидетельствах нашего народа сами свидетельства уподобляются зеркалам. Попробуем прочитать подобным образом и этот текст – тогда получится, что Ахура, разбив зеркало, разбил вместе с ним и Книги, а вместе с Книгами – все заключенные в них утешения и обетования. В таком случае перед нами – прямая противоположность того, что было сказано ранее; будь так, нам никогда не видать искупления. “Сдвоенное – в едином”, – говорится у Гикатиллы, то есть “пиль-пуль” – легко и тяжело в одно и то же время!»
Крестный, похоже, был удовлетворен ясностью своих объяснений. Он забрал у меня из рук оба листка, которые я уже прочитал. Затем он продолжил свою речь.
«“Он вырезает лица”, – говорится в одном комментарии Гикатиллы о человеке, пытающемся толковать Книги. “Если слова обратить в зеркала, / то превращаются тени в слова”, – так звучит вторая часть одной нашей детской считалки; в ней содержится предостережение, о котором всегда следует помнить при чтении: тот, кто читает неправильно, видит одного лишь себя. Вспомните, к примеру, конец легенды о людях из Цельдёмёлька», – сказал Люмьер, слегка прихлопнув тыльной стороной ладони по листку бумаги, лежавшему у него на коленях.
«Здесь утверждается: “Вы – наживка, мы – леска удочки!” – и, на первый взгляд, понять это место не трудно, однако – внимание! – воскликнул он и хлопнул в ладоши так громко, будто желал разрушить заклинание. – Это ловушка! Выражение “наживка” часто используется у нас для обозначения того “приданого”, какое дается сыну при женитьбе, а “леска” – старинное обозначение снохи. Если прочитать предложение таким образом, его смысл обратится в противоположный. “Всё воспринимай буквально – и попадешь на Небеса!” До чего же ловко выстроенное предложение! Буквально можно воспринимать лишь то, что однозначно, а в наших Книгах ничего однозначного нет. Конечно, читая их, часто испытываешь ощущение: этим словам при желании можно накинуть петлю вокруг шеи – до того точными и осязаемыми они выглядят. Но только попробуйте это сделать – и сразу почувствуете, что вам самим не хватает воздуха. Ведь для того, чтобы воспринимать текст буквально, его для начала необходимо понимать. Но когда пытаешься понять, когда возлагаешь руки на стол познания, этот стол начинает ходить ходуном, как бешеный. Лишь самое первое, беглое впечатление – тот краткий, едва слышный вздох, который слышишь, дочитав до конца какую-нибудь из наших Книг и закрывая ее, – лишь этот еле внятный шорох способен, пожалуй, в самом деле намекнуть на то, о чем по-настоящему говорилось в Книге. Однако теперь прочитайте для сравнения другую легенду. На нее опирается Инга в своей теории, которую я вам уже пытался изложить», – сказал Люмьер, указывая на третий листок, который еще оставался у меня в руках.
Остается как было
«В одной деревне, неподалеку отсюда, – начинался третий рассказ, – проживает некий человек, чье единственное стремление состоит в следующем: стать достаточно сильным для того, чтобы ничто в мире не могло его сокрушить. Ради достижения своей цели он избрал весьма примечательное средство: обнаружив предмет, который, по его мнению, настроен враждебно, он встает прямо перед ним и неколебимо ждет, ждет так долго, пока ему не покажется, что предмет сей его признал. Добившись этого, он наконец-то успокаивается. Пусть ожидание длится многие дни, а то и недели (и все это время человек тот не ест и не пьет, оставляет себя в небрежении, ни с кем из людей не разговаривает и не желает слышать человеческих слов), он все равно стоит и ждет, пока “противник” не подаст ему знака готовности к примирению.
Подобным образом ему удалось, – говорилось далее, – достигнуть власти над людьми и животными, над тем, что твердое и что текучее. Сказывают, что вещи вокруг него часто передвигаются с места на место без видимой причины; когда он щелкает пальцами, вспыхивают яркие искры; он в состоянии заставить петь мертвые поленья. Однажды слышали, как он в сарае вел продолжительную беседу со своими инструментами, а те словоохотливо отвечали ему, поочередно приподымаясь в воздух и постукивая друг о друга, отчего возникала своеобразная музыка.
Говорят, что температура тела у того человека меняется вместе с окружающим воздухом.
Заходя к кому-нибудь в дом, он ласково приветствует все предметы, но к людям относится, по-видимому, равнодушно, потому что людские судьбы ему непонятны. Даже старых знакомых и прежних друзей он часто не узнает. Сказывают, он всегда готов прийти на помощь, однако делает это каким-то мало человеческим образом – ибо в его глазах подобная помощь не выглядит служением другим людям, попавшим в беду членам его общины, – нет, их бедственное положение он воспринимает, скорее, как угрозу, направленную против него самого, и пытается осторожно, но настойчиво ее отвести. Именно потому, что он принуждает себя бестрепетно, не отвращая взгляда, смотреть в лицо любым страхам и ужасам, ему удается парализовать сам ужас. За оказываемую им помощь он ни от кого не получает благодарности, но, похоже, и сам не ждет ни благодарности, ни вознаграждения.
Высказывалось мнение, будто человек сей – лжепросветленный. Подобные речи, вне всякого сомнения, несправедливы. Ходь (так зовут того человека, и имя его значит “Смотря-по-тому”, “Что”, а еще “Как, каким образом?”) не бахвалится своими умениями, и никто ни разу не примечал в нем даже следа потаенной гордыни. По этому ведь и узнают лжепросветленного. Так что более всего пристало с подобающей осторожностью относиться к подобным суждениям.
Подкрепленное многими обстоятельствами, бытует и другое мнение. Уже неоднократно было замечено: в то самое время, как Ходь там или тут совершает нечто, достойное хвалы, где-нибудь в другом месте вдруг происходит необъяснимое несчастье, так что счеты в итоге выравниваются. Так, например, сообщают, что в минувшем году, в ту самую минуту, когда Ходь затушил большой пожар, едва не спаливший сараи с урожаем в Кертеше (ему для того достаточно было потереть ладонью о ладонь), здесь у нас внезапно пала вся скотина, запертая в загон на выгоне за деревней, – ровным счетом двенадцать коров и тридцать свиней. В другой раз в Хетфёхее – местечке, чье название означает “рынок в понедельник”21, а у нас оно прозывается “Бильдайн” * – внезапно закрутился такой сильный вихрь, что сорвал крыши с нескольких домов, – тем временем как Ходь заговаривал подземную воду и вывел-таки скрытый источник на поверхность – да еще (эзенкивюль!22) в таком месте, где воды спокой веку в помине не было».
Об оборотной стороне действия
Я вернул Люмьеру последний листок, и тот спрятал его вместе с двумя предыдущими в нагрудный карман. «Будь нам известна вся совокупность движений всех малых частиц в одноединственное мгновение нашей истории – и мы могли бы в точности предугадать развитие событий в будущем и столь же подробно представить себе любое минувшее состояние. Ибо с изменением одной-единственной частицы меняются и все остальные. “У всякого действия имеется оборотная сторона”, – говорит Инга. Это закон уравнивающей несправедливости, качели Ослипа *», – пояснил крестный.
Я вздрогнул.
«Что с вами? – спросил он. – Это обозначение существует с незапамятных времен. “Эшселеп”23 – венгерское слово, оно означает “одновременно соединять две вещи. Как у нас принято говорить: “Падая, ты мчишься ввысь”. В то самое мгновение, когда в ушах у тебя звенит от счастья, а мир под тобою уходит вниз, как кладбище с крестами *, другой конец качелей вдруг грохает оземь, а я (тот, благодаря кому взлетел ты в такую высь!) жестоко обдираю себе ногу».
«Что? – вскрикнул я, задыхаясь, оттого что я знал – сейчас он лжет. – Это случилось с вами?»
«Да нет же! – раздраженно сказал Люмьер. – С Ослипом, конечно! Но дайте мне договорить. “Каждая оплеуха, которую ты получаешь, – говорим мы, монотоны, – отнимает у мира ту силу, какая могла бы быть направлена на то, чтобы совершить благодеяние. Ты – виновен!” Или, если прибегнуть к формулировке Инги: “Ты получил ту оплеуху, что предназначалась мне. В чем провинился ты передо мной?”»
«А еще у нас это называется “третий лишний”», – смеясь, прибавил крестный.
Глава четвертая
ПОМОЩЬ В РЕИНТЕГРАЦИИ
«Все это, конечно, не так легко понять, – снова продолжал Люмьер серьезным тоном, закурив очередную сигарету. – Могу себе представить: вы сейчас, наверное, мысленно спрашиваете себя, какое отношение имеет к вам все сказанное. Слушайте внимательно!» – молвил он и опять принялся расхаживать по комнате туда и сюда.
«Дело в том, что вы сейчас – покойничек 24, – тут он немного помолчал. – Книги предостерегают нас против выходцев с того света. “Он поет не тем голосом, – говорится в одном месте, – он ест не той рукой”. У прямых родителей кривые детки. Обратная сторона действия – понимаете? Умеете ли вы читать линии на ладони? Правая рука показывает, чего человек хочет, левая – то, чем он обладает. А вы спрятали от нас левую руку, вы протянули нам лживую, правую!» – говоря это, он ткнул в меня пальцем.
«Ваш дядюшка скончался, – продолжал он. – Вас прислали вместо него. Ладно. Нам приходится с этим смириться. Но именно оттого нам и необходимо знать, кто вы такой. Так кто же вы такой? Откуда вы? Что у вас на уме? Вот они, наши вопросы. А знаете вы, между прочим, что проделал еврей в тот первый вечер, а вы ничего не заметили? Он пил из вашего бокала. Если кто-то выпьет из чужого бокала, только что оставленного, он мигом узнает, что думал тот человек, – так у нас считается. Но ваш бокал был пуст. Не повезло, – он остановился в конце бальной залы. – Так что мы решили обождать, – сказал он, стоя лицом к стене. – Ну и что же мы узнали за пять долгих недель? – спросил он и резко обернулся. – А ничего. Вы нам показывали только вашу выигрышную сторону. Спасибо. Но сейчас мы хотим поглядеть на вас сзади. “Перевернуть свинью на другую сторону” – так это у нас зовется».
Он посмотрел на меня очень серьезно.
«Итак, что касается помощи в реинтеграции, – сказал он наконец без всякого перехода. – Вы нас позвали, и мы пришли. Чем можем служить?»
Я не отвечал ничего и, чтобы не видеть крестного, закрыл глаза.
«Как я вам уже пытался объяснить, – терпеливо продолжал Люмьер, – речь идет об организации, оказывающей помощь молодым людям, которые – по видимости, не по своей вине – оказались в затруднительном положении. Я употребил слово “по видимости”, – снова прервал он сам себя, – потому что собственная вина тут, безусловно, присутствует. Однако необходимой предпосылкой любой поддержки со стороны нашей организации является то, что поддерживаемый и в самом деле заслуживает оказания помощи. Это означает, что он и сам обязан прилагать серьезные усилия к тому, чтобы высвободиться из своего удручающего положения. Просто быть одним из нас – недостаточно! – воскликнул он с жаром. – Требуется гораздо большее: чувство локтя, навык солидарности, желание объединять свои усилия с другими! Именно это и важно! Необходимо, чтобы “крестничек” с благодарностью принимал протянутую ему руку – ведь тем самым он дает понять, что при необходимости и сам способен будет себе помочь. В этом все дело!»
«Я не желаю помощи», – произнес я, не открывая глаз.
«Однако, – возразил крестный, – вы нуждаетесь в помощи». И с таким выражением, будто обращался не ко мне, а – при моем посредничестве – ко всему человечеству, он добавил: «Вам несомненно нужна помощь».
«Послушай: в тебе угнездилась лихорадка, – тихо продолжал он, склонившись ко мне совсем близко. – Она давно уже готова прорваться наружу, а ты всю свою жизнь сдерживаешь ее и обманываешь сам себя. А ну-ка притронься к своему лбу! – сказал он. – Чувствуешь, какой жар? Ты болен. Ты был на волосок от смерти!»
Я посмотрел на Люмьера, который сам теперь говорил как в лихорадке, – и покачал головой.
«Ты говоришь поддельным голосом! – задумчиво произнес он. – Так что же засело там, у тебя внутри, настолько важное, что ты упорно прячешь его от нас? Что же там, на оборотной твоей стороне? – повторил он, и в голосе его звучала угроза. – Зонтик? Тачка? До этого мы еще доберемся!» – он испытующе смотрел на меня.
«Вы, городские, – объявил он наконец с презрением, – изумительно владеете искусством лжи! Всякое, самое невинное слово – уже ложь, в том и заключается ваш жизненный принцип. Вы всегда хотите срезать путь, а если не достигаете цели – глубоко возмущаетесь. У нас так не принято! У нас всякий должен для начала выучиться ходить, прежде чем его пустят танцевать, как ему вздумается».
Хромец
Люмьер вновь овладел собою и спокойно сказал: «Так желаете вы получить помощь или не желаете?»
Я не отвечал.
«Значит, не желаете? – спросил он. – Значит, нам придется поступить по-другому?»
«Поступайте, как вам угодно», – ответил я.
«Так и сделаем! – воскликнул он почти обрадованно. – Лина!»
Я вздрогнул. Он звал тетушку. Что ему было от нее нужно?
Тетушка вошла и робко встала у входа, обеими ладонями касаясь дверной филенки у себя за спиной. Впервые я заметил, до чего изменилась она за последние недели. От ее прежней самоуверенности и следа не осталось. На лицо с обеих сторон беспорядочно свисали пряди волос – лицо алкоголички. «Что такое?» – спросила она, беспокойно елозя по двери ладонями.
«Так, теперь уже пора», – сказал Люмьер. Он выглядел довольным. Во мне шевельнулось воспоминание. Эта фраза – не произносил ли он ее сегодня, по ходу разговора? Нет. И тем не менее я был уверен, что однажды уже слышал от него эти слова. Только когда это было? И по какому случаю? Я задумался, но Люмьер прервал мои мысли. Он резким, командным тоном обратился к тетушке.
«Спой нам», – приказал он.
«Хорошо, крестный», – робко отвечала она. И запела слегка гнусавящим голосом, опустив руки на бедра и неловко покачиваясь туда-сюда, как будто повинуясь велению судьбы. Склонив набок голову, она неохотно выдавливала из себя слова песенки:
Он дорожку для нас найдет!
Убеждают глухого слепцы,
– пела она.
Но о ком говорят слепцы?
– вставил крестный свою маленькую партию в ее пение.
О хромце!
«Аминь», – торжественно окончил Люмьер.
Тетушка плакала. Все выглядело отвратительной комедией.
«Песня, которую вы сейчас слышали, – пятьдесят первое калипсо. Впрочем, это обозначение не совсем верно. Следовало бы говорить “клип-пот”!» – это я уже слышал от Цердахеля.
«Но в чем же заключается смысл песни? – спросил крестный. – Что означают первые две строчки? Сейчас поймете».
«Существует предсказание, относящееся к концу четырнадцатого века, – начал Люмьер свои пояснения. – Вам оно уже известно в версии легенды об анохи Иглемече, которая повествует о распаде общины бирешей после того, как в нее вдруг явился пришлый. В одном из добавлений к известному вам тексту говорится, ближе к концу: “И сие было им откровением (подразумеваются жители Ильмюца, – пояснил крестный, – ну, те, что заставляли чужака выносить дохлую собаку за околицу), благодаря тому земля явила им свой истинный образ – пламя! И вода явила им свою истинную сущность – кровь!” В этих фразах содержится ответ. Однако какой?» – спросил он.
Из приведенных слов следует, – продолжал разъяснять крестный, – что жители Ильмюца внезапно узрели самую суть вещей. Согласно Книгам, подобное событие может совершиться только в том случае, если община вот-вот распадется, – именно так оно и произошло. Как сообщается в том рассказе, обитатели деревни покинули ее по совету анохи. Кроме того, в одном раннем тексте, который в прошлом веке был утрачен, подробно говорилось о событии, предшествовавшем уходу бирешей из Ильмюца: в небе, на юге, возник ранее никогда не виданный и не описанный мираж – на мгновение явилось око Ахуры во всем своем ужасающем великолепии, в образе зеркала, в коем переливались одновременно все четыре цвета стихий. А небосвод в том месте разверзся, издав никому не слышный, но всех и вся повергший на землю грохот, и тут же опять сомкнулся. Все, кто были тому свидетелями, слышали, как небо смыкалось снова. То был звук, который лучше всего, пожалуй, можно было бы описать, сравнив его с быстрым защелкиванием застежки-молнии. “Это Бог застегнул свои штаны”, – иногда говорим мы в шутку, – воскликнул крестный. – Уверяли, что с неба низвергался огненный ливень – достигнув земли, он тут же превращался в песок, и его уносили ветры. Уверяли, что на небе еще долго можно было различить зараставшую дыру – шрам в виде моньорокерека, то есть “круглого орехового куста”.
Как бы ни относиться к этому рассказу, чьи несообразности порою способны повергнуть нас в недоумение, затруднительно было бы отрицать следующее, – продолжал Люмьер: – с тех самых пор прибытие в деревню чужака непосредственно связывается с идеей об искуплении и спасении бирешей. Особенно в первую пору после того, как возник данный текст, сие обстоятельство дало повод к самым невероятным, прискорбным измышлениям. Искупление вообще стали считать возможным! – воскликнул крестный. – Вспомните рукопись из Цельдёмёлька!
Не удивительно, что события в Ильмюце оказали влияние и на ту рукопись, на ее стиль и само заключенное в ней послание. Представляется вполне правдоподобным, что в ту пору во многих местах восточнее и южнее озера отмечались подобные происшествия, – однако все эти письменные источники были забыты вскоре после их создания, зато значительно позже отразились в легенде, зафиксированной рукописью из Цельдёмёлька. Впрочем, исчезновение промежуточных звеньев мало кого удивляло – ведь у бирешей только неопровержимые свидетельства рассматривались как достойные бережного сохранения.
Слухи о событиях в Ильмюце не остались без последствий, – сказал Люмьер. – С тех пор и возгорелся злополучный спор между лжетолкователями – минимами и мальхимами. Мы, прежде считавшиеся счастливым народом (“отжимающие масло в субботу” – так нас некогда называли), уничтожили любую возможность искупления в ходе долгой и тягостной череды войн во имя искупления. Спасение и избавление! – воскликнул крестный. – Ведь это нечто такое, что люди начинают усиленно призывать именно тогда, когда безвозвратно его лишаются. Как говорится, у счастливых народов не бывает истории, и мы, монотоны, поставили своей задачей возродить это состояние», – крестный теперь говорил, словно находясь перед собранием избирателей.
«Мы верим в уникальность каждого отдельного биреша, а также в неповторимость сочетания его качеств. Именно потому мы и понимаем, что не следует ожидать от него чего-то чрезвычайного. Его вклад в историю заключается в том, чтобы воспрепятствовать повторению чего-либо. По той же причине для нас невообразимо примирение с гистрионами – особенно с их вожаком, Цердахелем!» – остановившись, Люмьер указал на меня пальцем.
Во время своей речи он все сильнее напоминал мне Ингу, которому откровенно подражал. От него же он заимствовал свои жесты. Однако казалось, что он, подобно малоодаренному, хотя прилежному ученику, снизу вверх взирающему на боготворимого учителя, просто заучил наизусть все то, что разжевал для него Инга, толком не уразумев содержания его речей.
«Гистрионы пытаются внушить нам, – продолжал он ораторствовать, – будто искупление может быть достигнуто благодаря одному-единственному человеку, – но ведь это противоречит Книгам! Ни единое место во всей нашей письменной традиции не оставляет сомнения в том, что великий порядок возможно восстановить лишь соединенными усилиями всех зубов всех собак, то есть благодаря всеобщим, солидарным усилиям. И хотя все о том знают, всегда получается так, что даже лучшие из нас жертвуют счастьем коллектива ради того, чтобы вести существование анохи. Желание разгадки и искупления настолько прочно засело в каждом из нас, что мы испытываем одно лишь желание: увидеть чужака, который выносит собаку за околицу, – вместо того чтобы, не давая сбить себя с толку историей Иглемеча, совместно с нашими братьями и сестрами продолжать трудиться над общей историей нашего народа. Разве хоть кто-то из нас обладает достаточной внутренней закалкой, позволяющей успешно противостоять чужаку и его обещаниям? Чужой! Когда он явится? Как он будет выглядеть? Что он будет делать? “Старые, старые истории, – говорится в одном месте в Книгах об этих надеждах, – ими переполнены все книги, о них в любой школе пишут учителя мелом на доске, и о тех же историях мечтает всякая мать, когда ребенок сосет ее грудь. Все о них же шепчутся во время любовных объятий; все о них же распевают солдаты на марше; все о них же торговцы рассказывают покупателям, покупатели – торговцам”. Чужой! От подобных обетований биреши превратились в слепцов!» – крестный опять подвинул стул к моей постели и сел.
«Чужой, – повторил он снова. – Вера в него ослепляет, а слепота заразительна. Припоминаете песню, которую пела ваша госпожа тетушка?»
Я кивнул. Больше я вообще ничего не желал слышать, но он, по-видимому, наконец-то добрался до того, что намеревался сказать.
«Бирешек – это слепцы, – сказал он. – Вечные надежды сделали их слепцами. Глухой – это я. Я глух к любым обетованиям. Но от кого же ожидают слепцы, чтобы он стал их поводырем, Лина?»
Тетушка не отвечала. Она закрыла лицо руками и опять заплакала. Теперь я уже понимал, к чему он клонил.
«От хромца», – произнес Люмьер с видом триумфатора. По-видимому, считая, что эту игру необходимо доиграть до конца, он спросил: «Так кто же – хромец? О ком говорится в песне? Как вы думаете?»
Я промолчал.
«Вы! – торжествующе изрек Люмьер. – Вы – чужой, хромец. “Быстроноги его речи, – гласят о нем Книги, – так дайте же им течь. Он легковесен. Поднимите его! Если он упадет, он разобьется”». Крестный смотрел на меня с выжидающим видом.
«Ты здесь один», – сказал он.
«Хочу домой!» – крикнул я.
Он не шевельнулся. «Ты один, – повторил Люмьер. – И можешь мне поверить», – прибавил он после небольшой паузы, – те времена, когда ты из-за всякой мелочи мог убежать домой, под крылышко к дяде, – к примеру, только оттого, что тебе прищемило большой палец, – те времена сгинули навсегда!» – его слова звучали нарочито громко.
«Хочу домой!» – опять повторил я. Но с чего бы это вдруг крестному пришло в голову упомянуть прищемленный большой палец?
У меня опять возникло чувство, будто однажды я это уже слышал, будто он своими словами распахнул внутри меня оконце, через которое в мою комнату вливается холодный ночной воздух. И тут я вдруг вспомнил.
Однажды вечером, когда я приезжал сюда в первый раз, мы с Ослипом и еще несколькими детьми помладше играли у ручья, за столярной мастерской, принадлежавшей отцу моей тогдашней подружки. Ослип вдруг подозвал меня к себе. Он стоял у мусорного бачка, нагнув голову, и смотрел внутрь, как будто там находилось что-то интересное. Правой рукой он удерживал крышку, а левой рылся в мусоре. «А ну-ка, сядь сверху!» – сказал он мне, не переставая заниматься содержимым бачка. Гордый тем, что он выбрал именно меня (Ослип у нас считался признанным вожаком, а я здесь был за новенького), я спросил, в чем там дело. «Не знаю, странное что-то!» – отвечал Ослип и снова велел мне усесться на бачок. Так я и сделал, но ничего особенного не произошло. «Обожди! Ты вот как сделай!» – сказал Ослип и повернулся к бачку спиной. Он положил обе ладони на крышку – и, подпрыгнув, уселся на бачок. Крышка, издав подобие вздоха, прогнулась под ним, но больше ничего не произошло.