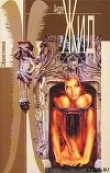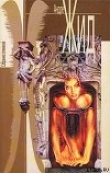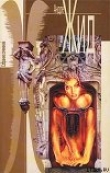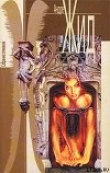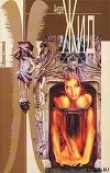Текст книги "У бирешей"
Автор книги: Клаус Хоффер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Рак остановился, задумавшись и глядя в небо.
«Посмотрите! – воскликнул он, указывая пальцем на стайку ласточек, нырявших вверх-вниз в бездонном воздухе. – Об этом сне я однажды рассказал Де Селби. Де Селби обладает подкупающим свойством внушать доверие, – опять вставил крестный попутное замечание. – У него, разумеется, тут же оказалась наготове одна из его сумасбродных гипотез. Он, дескать, читал в одной книге, что по причине осмотического давления и атомарного обмена люди, постоянно использующие один и тот же предмет, постепенно сами превращаются в этот предмет, и наоборот: подобные предметы медленно превращаются в своих хозяев. “Как поясняется в книге, осуществляется нечто вроде сношения с инкубом или суккубом”, – сказал служка. Как он мне тогда разъяснил, велосипедист, к примеру, может незаметно для себя превратиться в велосипед, а велосипед – в велосипедиста. На первый взгляд кажется, что ничего не изменилось, однако на самом деле меняется многое. Душа хоть и остается незатронутой подобным обменом, однако велосипед тоже обретает душу. Таким образом, речь идет не о переселении душ, а только о превращении одного вещества в другое! По мнению Де Селби, мой сон должен был предостеречь меня от излишне частого использования определенных предметов, а каких – мне, мол, лучше знать».
«Сначала я, конечно, рассмеялся, как вы сейчас. Но потом меня охватил мистический ужас: я подумал о своей Анне! – крестный опять перебил сам себя. – Тогда я впервые серьезно задумался над тем, не расстаться ли мне с этой женщиной навсегда. С тех пор мне ничего подобного уже не снилось, и, хотя мне кажется, что тот сон больше не имеет значения, черные антрацитовые скалы иногда встают перед моим взором – неумолимые, как будущее, которое я лишь на время, не навсегда, у себя отнял. Ну, да все равно, – снова сказал Рак. – Все может быть. Мне доводилось читать, что люди иногда превращаются в собак. А собаки – эти большие, тощие рыжие собаки! – воскликнул он, – эти собаки, которые о том ничего не знают! – они превращаются в палки, которые бросают хозяева своим собакам, чтобы те ловили их на лету. Но стоит собакам их схватить – и палки уже превращаются в птиц и уворачиваются от собачьих пастей. Случалось ли вам раньше следить за полетом вот этих птиц? Эти зигзаги? Это стремительное снование туда-сюда? – взволнованно спросил Рак. – Взгляните на шов ваших форменных брюк! Разве не похоже!» – воскликнул он.
Я печально смотрел на него. Он казался мне таким же потерянным, как раньше служка.
«Таким уж я родился, – устало продолжал крестный. – На мне действительность как будто сорвалась с тормозов. Цердахель утверждает, что я – обезумевший энциклопедист, – он покачал головой. – Цердахель прав. Я… – он на секунду остановился. – С материнской стороны я унаследовал уникальную энциклопедию. С нею я отвожу душу. Она носит название “Библиотека изящных искусств и учтивой беседы”. Чего там только нет! Я ваш крестный, – воскликнул он, опять воодушевляясь, – и я вам ее завещаю! Вы проштудируете эти тома так же, как я их уже изучил. Многое из того, что там говорится, вам покажется невероятным. Но уверяю вас, в этой энциклопедии содержится все, буквально все, что так необходимо нам для сравнения с нашим скудным существованием. Когда-то давно, к примеру, рождались дети, у которых верхняя часть тела была мертвой, а нижняя – живой, и они все время барахтали в воздухе своими маленькими красными ножками. Существовали женщины-великанши, у которых правая грудь была выжжена, а из левой текло молоко, и у них были короткие волосы и маленькие ноги, обутые в мужские сапоги. Некоторые вещи и явления, о которых там говорится, можно встретить и по сей день, хотя кому-то они уже в ту пору представлялись уходящими анахронизмами: калеки на одной ноге, солнечные затмения, неосвещенное пространство ночи над нашими головами, или зонтик, или механические стиральные доски, или крейцер, уплачиваемый в качестве подати за пересечение моста, или женщины, катящие перед собой детские коляски! Во время создания этой энциклопедии новое созвездие явилось в небе на севере – Велосипедист, созвездие Де Селби! В статьях энциклопедии вы найдете много достойного внимания, много такого, что покажется вообще невероятным. Там я вычитал, например, о Лаггнеггах. Знаете, кто такие Лаггнегги? *»
Рак вопросительно посмотрел на меня.
Я покачал головой.
«Лаггнегги и струльдбруги! Гуигнгнмы и йеху! На свете существует немыслимое количество явлений, о которых биреш и понятия не имеет. Например, над Японией в буквальном смысле слова нависает роковая напасть: парящий магнитный остров. Им правит жестокий король. Ему ведомы тайны магнетизма, загадки быстрого сдвига магнитных полей, перепадов напряжения, переворота магнитных полюсов, гигантских перемещений магнитных токов под земной корой – ведомо все до малейших подробностей. Король этот – чудовище, а возлюбленная у него – певица-красавица, и раз в год, когда совершается великая революция, его приговаривают к смерти через отсечение головы. Когда ему приходит срок умереть, его возлюбленная поет особенно упоительно, но сколь бы чарующим не было ее пение, оно бессильно что-либо изменить – король все равно должен умереть. Или, к примеру, другая история: об одном достойном человеке и его несчастье. Он тоже был любителем высокого искусства пения! И оттого, что лебеди поют всего прекраснее, когда чувствуют прикосновение смерти, он по ночам тайно подбирался к чужим прудам – ради того, чтобы задушить лебедя. Боже мой! Уверяю вас: все это подлинные чудеса и тайны! И я их несказанно люблю!»
Крестный остановился. Его торс мерно покачивался туда-сюда. Он пригладил волосы. Потом склонился вперед, будто искал что-то на земле. Наконец поднял маленький легкий пористый камешек и протянул его мне.
«Туф, – сказал он. – Вулканическая порода. Сколько ей лет? Около десяти миллионов. Откуда она тут взялась? Тортонское море разливалось некогда и над нашими краями. В нем жили усатые киты, трехкоготные черепахи, по его берегам бродили кистеухие свиньи… А я ни разу не был у моря!» – печально заметил он.
«Все так близко – и так запрятано. Кость тут, собака это знает, чувствует, но не может ее найти! – сказал он и притопнул ногой о землю. – У меня столько желаний! – воскликнул он. – Да только кто же способен утолить мой голод? Неужто наши бирешек? Апостолы вечного возвращения? Нет, не бирешек. Я испытываю тоску по родине, в том-то все и дело. Но родина – спряталась от меня. Приходишь домой, стучишься – никого нет дома! Все куда-то ушли. И так оно всегда».
Крестный снова помолчал.
«Знаете, кто такие бирешек на самом деле? – спросил он. – Ежи. Насекомоядные млекопитающие. Ежи, что по ночам бегают вокруг чужих домов; твари, любящие сосать молоко и лунный свет; им ни до чего нет дела, кроме себя; они свертываются в клубок, сжимаются, исчезают внутри себя самих, если посветить им в морду фонариком. Появись что-то незнакомое – они тут же ощетиниваются иголками. А если в кустах поблизости раздастся какой шорох, они уже пугливо теснятся друг к дружке, поводя в воздухе своими маленькими, розовато-серыми рыльцами. “Ты что-нибудь чуешь?” – спрашивает один другого. – “Не знаю”. И они тут же убираются подальше или сворачиваются. Мои слова, пожалуй, покажутся заносчивыми, но так уж оно есть на деле, – сказал крестный. – У меня иногда возникает желание взять небольшой дорожный каток и хорошенько по ним всем проехаться!»
Он умолк.
Мы приблизились к первому дому, а потому я упер тачку в землю, чтобы извлечь из кузова стопку почты. Дом был его, Рака. А он, похоже, этого даже не заметил. «Надо мне сегодня познакомить вас еще кое с кем, кого нельзя отнести к ежам, – крикнул он мне вслед, тем временем как я поднимался на невысокий холм. – У вас рот откроется от изумления!»
Я в этот момент уже оказался у двери его дома и постучал. Жена Рака отворила мне. Она была одна. Для Надь-Вага было, видать, еще рановато. Она молча взяла почту у меня из рук и помахала рукой Раку, который остался стоять внизу и только помахал ей в ответ.
Глава шестая
ВТОРОЙ ВЫЕЗД. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Едва я успел вручить почту жене Рака, как она опять махнула ему рукой – на этот раз подзывающим жестом, не допускавшим возражений. И крестный беспрекословно повиновался ее приказу – казалось, это мать позвала мальчика. Он проскользнул в дом даже раньше ее, у нее под рукой, причем вид у него был такой, будто имелись причины опасаться скорого наказания, – и тут она решительно захлопнула за ним дверь.
Какой, однако, властью обладала над ним эта женщина!
Я подождал некоторое время, в надежде, что он все-таки скоро вернется, потому что Рак, если не считать Де Селби, был тут, пожалуй, единственным человеком, который мне понравился. За то короткое время, что мы провели вместе, идя по дороге от магазина, я привязался к Раку даже больше, чем к служке, который внутренне – сам того не зная – уже давно спасовал и сдался. Поэтому я стоял и ждал Рака, однако крестный не выходил. Закрытая дверь не отворялась. Вероятно, он уже снова сидел в кухне на табуретке, от волнения перебегая пальцами по столу, как по клавишам рояля, и вслушивался, когда же раздастся треск мотоцикла Надь-Вага.
Я повернулся и продолжил путь в одиночестве, толкая перед собой тачку, подобно плугу, лемех которого, неправильно поставленный, волочится по дороге, кое-как присыпанной гравием и местами сливающейся с каменистым полем, потрескивающим от полдневного зноя. Время, похоже, остановилось. Мои зубы издавали тихий скрежет. Казалось, все кругом беспрестанно повторялось. Я катил тачку все по одному и тому же отрезку пути – и каждый раз эту дорогу, словно нарочно для меня выдуманную, кто-то расстилал на земле между низких холмов, как широкий, грязно-бурый рулон полиэтилена, там и сям придавив его камнями. От скрипа колеса, задевавшего камни, я чувствовал себя измочаленным, словно растертым мельничными жерновами. Наконец я опять добрался до другого конца деревни, откуда дорога вела к жилищу шкуродера.
Бросив взгляд с откоса, на котором я однажды уже стоял и смотрел вниз, я сразу же понял, что хозяев дома нет. Длинные, запыленные стебли крапивы, нависавшие над пригорком, как растрепанные волосы, покачивались в ленивом безмолвии – вверх, вниз. На двери висел большой ржавый замок. Здесь мне, значит, вручили мою собаку. Сама эта лачуга сверху выглядела форменной собачьей будкой или, пожалуй, еще вернее – сортиром, за ней была свалена куча мусора, злобно поблескивавшая на солнце. По крутому откосу, сбегавшему к лачуге, там и сям валялись пустые смятые консервные банки, брошенные в заросли крапивы и дикой мяты – из нее здесь, кстати, приготовляют сладкий пахучий чай. Из котловины мне в нос ударял тот же сладковатый запах, а кругом ядовито поблескивали темно-зеленые горлышки разбитых пивных бутылок.
Где-то вдали громко завизжала дисковая пила. Звук был высокий, тоскливый, напоминавший собачий скулеж. Он искривлялся в воздухе, когда пила впивалась в твердое бревно, быстро пихаемое под ее зубья, и, казалось, опять становился ровнее, когда бревно было распилено, а следующее только еще предстояло приволочь. Я вслушивался в эту музыку, но чем больше склонял я голову в ее сторону, тем больше она от меня удалялась – будто кто-то уносил пилу подальше от моих любопытных ушей.
Потом я различил там вдали удар топора – и тотчас у меня за спиной, словно откликаясь на условленный сигнал, заревела деревенская сирена. Тот поезд, что приходит в полдень! Он переехал Де-Селбиного пса. Он доставил меня сюда, а потом день за днем доставлял почту, которую Инга каждое утро забирал с вокзала на своем грузовике и складывал для меня в магазине.
Я вспоминал свой второй вечер в Цике, когда я до ночи просидел с Де Селби там внизу, у шкуродера, и как перед нами на столе лежал мертвый пес, а над ним склонялся служка, ушедший в свои мысли и, по-видимому, сам желавший умереть, тем временем как Йель Идезё рассказывал о похоронных обрядах бирешей. «А халаль кутьяи угатнак ки белёле», – сказал тогда шкуродер. Это значит: «Из него лают псы смерти». Когда человек умирает, собака сразу же оповещает о том, пояснил шкуродер. Ведь в собаке некогда обитала душа – поэтому собака первой заявляет о своих правах заиметь душу снова. Иногда души усопших вскоре после похорон действительно вселялись в собачьи тела – оттого-то собак в здешних краях считают священными животными.
Рак тоже намекал мне на что-то подобное. «Собаки, – читал я в своей “Домашней книге”, – у многих народов рассматриваются как существа дарующие бессмертие». – «Они возвращаются на свою блевотину», – говорил Люмьер.
Устремив взгляд в землю, я опять скрючился над своей тачкой.
В «Зеленом венке»
Рак дал мне один совет – сократить обратный путь, вернувшись в деревню через поля, по той дороге, что заворачивала в «Зеленый венок».
Когда я добрался до трактира, дверь его была открыта нараспашку, но ни в малом зале для гостей, ни в кухне не было никого. Я сложил почту на один из столов и огляделся. В помещении стоял густой табачный дух. Пахло прогорклым пивом, столетними надеждами – нескончаемыми планами бирешей, которые, однако, каждый раз рушились вместе с опрокидывавшимися стаканами. Казалось, биреши все еще здесь, только на минуту вышли, а оборванные концы их фраз, как концы колокольных веревок, еще рассекают молчание трактирного зала, чтобы после небольшого перерыва снова вернуться к прежнему предмету разговора – и тогда, быть может, в конце концов грянут звуки самого последнего, все объясняющего и всех освобождающего речения.
Я повернул голову. На одном из подоконников, между закрытых створок окна, лежала сложенная старая газета. «Поезда ходят в любую погоду!» – гласили большие буквы заголовка. Я прочитал эту фразу еще раз, потом произнес ее вслух. Это и был ответ. Я усмехнулся.
Во время моего первого приезда я часто стоял вот тут, поджидая Марию, мою подругу. Впрочем, в ту пору это помещение еще не было трактирным залом. Здесь находилась крохотная жилая кухня, из которой можно было пройти в низкую родительскую спальню: Мария перебралась туда вскоре после смерти матери, а ее отец обустроил себе отдельную комнату в новом доме, в котором помещалась теперешняя трактирная кухня и бывший кинозал.
Мне вспомнился последний вечер перед моим отъездом. В сумерках мы с нею стояли позади дома, обоих нас душила досада из-за нелепого расставания, и оба мы недоверчиво поглядывали друг на друга; казалось, каждому хочется как можно скорее и непоправимее оскорбить другого. После коротких ливней, налетавших накануне, воздух был пропитан влагой, переполнен непонятными звуками: какими-то тяжелыми вздохами или тихими, всхрапывающими стонами предметов, которые, казалось, в лихорадке подскочили в своих постелях: «Мар менёфельбен ван».
Из всякого угла до нас доносился слабый вздох; все взирало на нас глазами животных – дверь сарая была распахнута, как ладонь, занесенная для пощечины. Мы неприязненно смотрели друг на друга, словно в безмолвном поединке, онемевшие от ярости, ощерив зубы. Мария два раза зло расхохоталась без всякой причины, а я ей молча погрозил кулаком. Меня до краев переполняла скрытая злоба и желание убийства. Потом мы вновь бессмысленно маршировали взад-вперед по двору, от греха подальше то складывая руки за спиной, то пряча кулаки в карманы. Иногда кто-то из нас начинал что-то говорить другому, но в ответ получал только неприязненный взгляд. В каждом из нас была пропасть, причем в каждом – своя пропасть.
Поравнявшись со входом в кинозал, Мария вдруг прервала наши хождения и, чтобы оказаться выше меня, поднялась на ступеньку крыльца. Затем шагнула на следующую ступеньку, но гладкие подошвы ее ботиночек соскользнули. Испугавшись, я сделал движение, чтобы удержать или поймать ее, но она гневно оттолкнула мою руку.
Помню, от всей этой безысходности во мне тогда зародилось ощущение, что я оказался в плену чего-то несравненно большего, чем я сам. Я ощущал смертельный страх, руки мои безвольно повисли, будто подвешенные к плечам на проволоке, голова нелепо скособочилась (так, бывает, свешивают голову набок птицы), сердце было все равно что закручено в узел – и я, чтобы хоть как-то помочь самому себе, каким-нибудь образом стряхнуть с себя эту тяжесть, стал резкими движениями разминать плечи. Мария сначала растерянно смотрела на меня; потом закрыла руками лицо и с плачем убежала.
На другой день я пришел опять, но дом был пуст, совсем как сегодня. В душе я по-прежнему чувствовал себя так, будто меня располосовали, расчленили на куски парой тонких острых ножей. Мне каждую секунду казалось, что сейчас из окна высунется седая голова ее отца и он обругает меня и раз навсегда запретит появляться на его клочке земли. Я стоял перед домом и ждал. Сердце мое было перетянуто узлом, как накануне, глаза так и метались, как у птицы, и было такое чувство, будто на лице у меня вырастает индюшачий клюв. Но, ничего не дождавшись, я, еще более несчастный (если такое вообще возможно), побрел восвояси.
На вокзале, перед самым отъездом, я все-таки еще раз увидал Марию. Она, присев на краешек сиденья велосипеда и опираясь руками на руль, разговаривала с женщиной из деревни; в такт разговору она покачивалась на велосипеде, чуть прокатывая его то вперед, то назад. Когда колесо уходило вперед, она чуть сгибала ногу в колене, а когда вновь откатывалось назад – нога опять выпрямлялась. Эти легкие, колебательные движения напоминали покачивание лодки, и, когда я увидел ее, мои руки судорожно вцепились в ручки чемоданов, как будто ища опору.
Не спросив у тетушки разрешения, я поставил багаж на землю и побежал к Марии, чтобы проститься с ней. При моем приближении она побледнела, но не стронулась с места, будто впала в оцепенение. Она не сопротивлялась, когда я встал на цыпочки и поцеловал ее в губы. После чего сразу, ни слова не говоря, бросился назад, к тетушке. Легкий, внезапно налетевший страх завладел мною, пока я неуклюже, спотыкаясь, бежал вдоль путей. Но когда я снова оказался рядом с тетушкой, а она, качая головой, бранила меня за такое поведение, я вдруг ощутил изумительное счастье победы – победы, завоеванной навсегда, на все времена.
Прощание взбудоражило меня так, что всю дорогу от Цика до Вены я, прижавшись виском к холодному вагонному стеклу, смотрел назад – туда, где остался вокзал и где, быть может, все еще стояла, держа велосипед, моя подруга, насквозь пронизанная дрожью, с языком, прилипшим к губам там, куда я ее поцеловал.
В час ночи я, замерзший, уставший, но все еще сотрясаемый дрожью, пересел в Вене на поезд, который следовал в мой родной город. В вагоне я был один. Я съежился в углу у окна и опять стал смотреть назад, пытаясь воскресить в памяти лицо Марии. Временами, когда попытка удавалась, я мысленно разговаривал с ней и воображал, что она может меня услышать.
На первой же станции после Вены в вагон вошел еще один пассажир. Едва усевшись, он распаковал сверток с едой и приступил к трапезе. Я попеременно слышал то шуршание бумаги, в которую были завернуты бутерброды, то энергичные звуки, производимые его зубами, которыми он сначала раскусывал, потом размалывал одну редиску за другой, – и мне казалось, будто эти зубы вгрызаются в меня самого. Хоть я и сказал себе, что не буду спать всю ночь, однако та невозмутимая самодостаточность, с какою сосед – по-видимому, вообще не заметивший моего присутствия, – сосредоточился на поедании пищи, подействовала на меня успокоительно, и я сам не заметил, как мое перевозбуждение сменилось сном.
Лишь когда поезд прибыл на главный вокзал моего города, я вновь очнулся; как в полусне, достал из багажной сетки чемоданы и, поеживаясь от холода, отправился домой. Уже рассветало, но фонари еще горели, и от этого пустая площадь перед вокзалом напоминала замерзший пруд, облитый призрачным светом.
Я еще раз окинул взглядом невзрачный трактир. И опять мне бросилась в глаза газета с рекламой, лежавшая между рам. «Поезда ходят в любую погоду!» – произнес я вслух и кивнул головой. От тетушки я уже знал, что отец моей тогдашней подруги скончался года два назад, и с тех пор она жила вместе с одним из троюродных братьев, который приехал в Цик, как «заместитель» покойного, из одной деревушки на юге. Дома у него уже имелась жена, и он, не в состоянии сделать окончательный выбор между ними, все время ездил из Цика к себе на родину и обратно. Мария, уставшая от всей этой кутерьмы, незадолго до моего приезда уехала в мой родной город, чтобы провести лето со своей сестрой и племянником.
Вот так и получилось, что мы поменялись ролями.
Обратный путь
Обратная дорога в деревню вела между невысоких холмов, она врезалась в них, образуя что-то вроде извилистой канавы, на дне которой царило почти полное безветрие. Откосы с обеих сторон поросли травой, которая уже совсем пожухла и выгорела от солнца; между кустиками травы проглядывала бурая песчаная почва. Я думал о своей подруге и о том, как однажды, в кинозале, обещал ей, что мы непременно поженимся. Мое давнее обещание – я чувствовал – не утратило силу и поныне, а та несчастливая связь, в которую она (судя по намекам тетушки) вступила с троюродным братом, только укрепляла во мне эту уверенность. Возможно, думал я, она ждала меня все эти годы, но я так и не вернулся, не сдержал обещания, оттого-то она и связалась с тем парнем; возможно, после того, как скончался мой дядюшка, она поняла, что теперь я приеду, чтобы заместить его, и мысль о том, насколько тягостным было бы для нее – после совершенного ею постыдного промаха – свидание со мной, подкрепила ее решение уехать.
Я оторвал взгляд от тачки. Вокруг, подобно безбрежному, зыблющемуся океану, покачивались небольшие холмы, напоминавшие дюны. Сейчас мне очень хотелось, чтобы Репа была со мной, – я представлял себе, как собака бежит впереди и указывает мне направление между всеми этими возвышенностями, сгрудившимися кругом, как холки коровьего стада.
На гребнях холмов покачивалась высокая трава. Здесь, наверху, веял горячий ветер, обжигавший глаза. Впереди меня по земле бежал хруст, будто от сухих веток, а в воздухе разливался высокий, негромкий свистящий звук – едва различимый, такой, что казалось: сейчас он прекратится. Везде что-то шуршало, потрескивало; над дорогой там и сям закручивались небольшие вихри поднятого ветром песка, а из-под колеса тачки разлетались мелкие камешки, совсем как жуки-щелкуны или ожившие искры. Был полдень, время полуденного сна, время мышей и ласок, которые быстрыми прыжками пересекали дорогу передо мной, а иногда, будто ослепнув от жары, петляя туда-сюда и чуть ли не перевертываясь через голову, мчались мне навстречу.
Я посмотрел на солнце, которое стояло в вышине, как зеркало. Рядом с его сиянием меркла даже голубизна небес. Солнце, казалось, дрожало в этой голубизне – немое око, «Малый свидетель», как называют его в здешних краях, второе око Ахуры.
Я вспоминал день моего прибытия, тачку, которую кто-то скинул на высохшее дно ручья, тот моньорокерек, что торчал в трещине ее днища и предвещал Дикую охоту. В тот же вечер шкуродер вручил мне собаку, которая сейчас осталась дома, вместе с тетей. Тогда же шкуродер исполнил передо мною похоронную песню – песню об умершем дядюшке. Я стал свидетелем соития Надь-Вага с женою Рака, и, тем временем как я, вздрагивая от стыда, стоял перед главным входом, сам Рак, вероятно, прятался за домом и в замочную скважину наблюдал происходящее. «Боже мой, они нас погубят!» – кричала Анна, и я понял дело так, что я и Де Селби оказались посвященными в тайну – а в действительности тайну эту давным-давно знала вся деревня. По-видимому, все в тот день служило одной-единственной цели: разрушить дружбу между мной и Де Селби, и на мне лежала большая часть вины в случившемся. «Вот видишь, – сказал мне служка, когда мы сидели у Йеля Идезё, – господин шкуродер тоже говорит, что ты виноват!» Вслед затем я получил от Цердахеля, в «Лондоне», свое имя, а заодно отца – впрочем, отца, который сразу же отверг какую бы то ни было причастность к своему отпрыску.
Все это было так близко, будто произошло только вчера, будто тот день был отделен от меня тонкой перегородкой одной-единственной, сегодняшней ночи, будто все это хранилось в прозрачной маленькой капсуле, которую достаточно было немного подержать во рту, чтобы из нее вылилось содержимое.
В волосах у меня, под околышем почтовой фуражки, торили себе дорогу маленькие ручейки пота, щекотавшие мне затылок и шею. Будто кого-то приветствуя, я снял фуражку и провел ладонью по волосам. Это движение было мне знакомо, я замечал его у дядюшки. Я вздрогнул, как будто сам себя уличил в дурном поступке, – и тем не менее повторил то же самое движение еще и еще раз, чтобы проверить справедливость своего открытия, то есть опровергнуть первое впечатление и снова ощутить этот жест как принадлежащий мне, мне самому. Я хорошо понимал, что означало такое движение, и все же его чуждость никак не желала улетучиваться. То был не я; этот жест был сотворен не для моей руки и не для моей головы.
Я снова взглянул на солнце. Потом закрыл глаза, мне хотелось немного посидеть на краю канавы, но я почему-то был не в состоянии сесть. Я так и остался стоять – и в то же время видел, как я там стою, стиснув руками служебную фуражку, совсем как мой дядя – в позе бесправного подданного, явившегося лично представиться новому властителю.
Существует два времени, думал я: медленное время здесь, то есть мое время, и время, пролетающее значительно быстрее, время, в котором это самое мгновение существовало уже давным-давно, время, в котором дни и годы становились быстро испаряющимся веществом, как снег, тающий на горячем камне, становились водой, улетучивались; время, которое приводилось в движение более быстрым сердцем и мчалось все дальше и дальше, меж тем как сам я – онемевший, оглушенный, пошатывающийся от жары – стоял на одном месте, средь белого дня как в глухую полночь, поставив перед собой тачку и вместе с ней врастая в этот маленький клочок земли.
Глава седьмая
ЛИТФАС
Я остановился перед маленьким магазином, который, похоже, некогда был обувной мастерской. Его витрина формой напоминала сундук, она была выложена картоном, поверх которого были наклеены поблекшие фотографии из старых журналов мод. Какое-то время я был занят тем, что рассматривал свое голубоватое отражение в витрине. Из-за неровностей оконного стекла отражение получалось изогнутым, искаженным. Я выглядел в нем совсем бледным и, по прихоти беспорядочных утолщений, напоминавших узкие струйки воды, сочившейся по стеклу, то диагонально вытягивался вправо и вверх, то снова сплющивался по горизонтали, растекался книзу, причем голова норовила исчезнуть между плеч.
Я привстал на цыпочки, в надежде, что чуть выше на стекле все-таки найдется ровное место и там я отражусь в настоящем виде. Заглянув за край грязно-белого занавеса, который держался на крючках и свешивался до самой перегородки, отделявшей витрину от внутреннего помещения магазина, я вдруг различил какое-то слабое, ленивое шевеление – едва заметное, как взмах плавника большой рыбы, уходящей в глубину аквариума. Я прислонился к стеклу, чтобы через перегородку заглянуть внутрь магазина, но внутри было темно, и я ничего не рассмотрел.
За стеклами, вставленными во входную дверь, имелась занавеска, почти такая же, как в витрине. Я опустил тачку, а затем, встав в дверном проеме, прижал лицо к стеклу, пытаясь разглядеть находившееся внутри. А чтобы заслониться от света, падавшего сбоку, приложил руку козырьком над глазами.
Я уже готов был выпрямить спину и снова пуститься в путь, но тут дверь передо мной вдруг отворилась, а над самым моим ухом – словно для того, чтобы повергнуть меня в еще больший шок, – раздался резкий, дребезжащий звук старого электрического звонка. Еще немного, и я, споткнувшись о низкую ступеньку, упал бы и растянулся внутри магазина – но в этот момент чья-то сильная рука молниеносно схватила меня за локоть и спасла от падения.
«Осторожно, ступенька!» – услышал я за плечом мужской голос. От ошеломления я резко, сквозь сжатые зубы, втянул в себя воздух и обернулся, однако сначала, из-за резкой перемены освещения, не мог ничего рассмотреть. Когда глаза немного привыкли к сумраку, я начал различать отдельные предметы обстановки: широкий прилавок, который, как прибрежная отмель, тянулся от одного конца помещения к другому; на нем стояло нечто, что я принял было за вазу и что позже, на свету, оказалось кувшином с низким горлом и пузатым туловом; наконец, слева от меня, наискосок от витрины, которая была до половины закрыта листами картона, я заметил втиснутое в самый угол кресло, когда-то, вероятно, предназначавшееся для гостей.
«Я уже закрываю», – произнес человек у меня за спиной, который только что подхватил меня и уберег от падения. Говоря это, он продолжал держать дверь наполовину открытой, словно хотел предоставить мне возможность улизнуть на свободу. Этого я, однако, не сделал, а остался стоять как стоял; теперь я наблюдал, как он нагнулся, чтобы запереть дверь изнутри на засов. Только сейчас я заметил, что он был полуодет. На нем была только широкая белая рубашка, большим пузырем надувавшаяся, когда он поворачивался; длиною она была с хорошую ночную сорочку и доходила ему до лодыжек, а рукава ее были обрезаны. Из плохо обшитой, потрепанной проймы правого рукава торчал обрубок руки, ампутированной чуть выше локтя, и, когда человек снова выпрямился и встал прямо передо мной, я рассмотрел, что у него жидкая, почти белая борода, покрывавшая его лицо неправильными пятнами, как птичий пух; борода, вместе с лысиной, придавала ему облик фавна. Это впечатление еще усиливалось его своеобразной, самоуверенной и в то же время стремительной походкой. В противоположность тому, манера его разговора была робкой и застенчивой – вернее, так было сначала, пока он находился рядом со мной, перед прилавком.
Но стоило ему приподнять откидную доску, приделанную к стене и служившую продолжением прилавка, и встать за стойку, его тон и поведение моментально изменились. Хоть он и дальше оставался со мною любезен, однако теперь в этой любезности появилось что-то благосклонно-покровительственное; даже сам жест, каким он достал из ящика кухонное полотенце, чтобы протереть прилавок, напоминал, скорее, движения владельца трактира, скажем, трактирщика из «Лондона», чем человека, который минуту назад испытывал смущение оттого, что был полуодет. Только что мне казалось: его язык ворочается с трудом, он даже слегка заикается когда говорит, – однако теперь его слова звучали убедительно, как у человека искушенного и опытного.