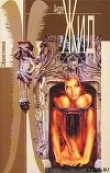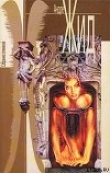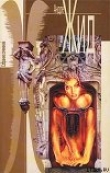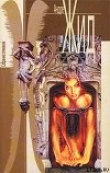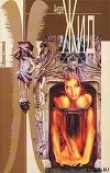Текст книги "У бирешей"
Автор книги: Клаус Хоффер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Красивое имя, ранняя печаль
«Давайте устроимся поуютнее, – радушно произнес однорукий и тут же добавил, засмеявшись: – То есть в том случае, если мы желаем уюта». Словно для того, чтобы по мере сил этому содействовать, он быстрым движением спрятал под прилавок тарелку с остатками еды, стоявшую на столе рядом с кувшином, и почти одновременно извлек два маленьких граненых бокала и до половины сгоревшую свечу.
«Лучше опять выключить свет, – сказал он, кивком указывая мне на выключатель у дверей, который он повернул при моем появлении в магазине. – Никому нет надобности знать, что мы еще здесь». Он воткнул свечу в носик кувшина, достал спичку и, прижав к себе коробок культей правой руки, левой зажег огонь. «Дело в том, что я не самое подходящее общество для свежеиспеченных заместителей». Он подержал зажженную спичку у фитиля свечи, которая не хотела разгораться, возможно, потому, что сильно нагорела; от фитиля летели в разные стороны маленькие искры, но в конце концов он все-таки разгорелся. Однорукий поднял кувшин с мерцающим язычком пламени и протянул мне его через стол: «Поставьте там, сзади», – сказал он, указывая пальцем на карниз маленького слепого окна по левую руку от меня. Он смотрел, как я ставил туда его необычный подсвечник, тем временем как сам он повернулся вполоборота, чтобы достать с узкой полки шкафа, вделанного в стену позади него (посередине стены находилась деревянная дверь, выход наружу), одну из пяти полных винных бутылок. Закрывавшую ее пробку – затычку, скрученную из газетной бумаги, – он вытащил зубами. «Для душ чистилища», – пояснил он, не подымая глаз, все еще держа в зубах затычку. Он поставил бутылку на прилавок, приподнял по очереди оба бокала, чтобы убедиться в их чистоте, и наконец выплюнул изо рта бумажную скрутку, описавшую широкую дугу в воздухе.
«Можете спокойно присесть, – сказал он, вероятно, оттого, что я все еще в замешательстве стоял у окна, не понимая, как себя вести. – Только аккуратнее с креслом, оно не мое». Склонив голову набок, он до краев наполнил стоявшие перед ним бокалы. Его движения и манипуляции, как, впрочем, и отпускаемые им фразы, следовали друг за другом словно бы автоматически, повинуясь правилам некой игры, всегда разыгрываемой в одном и том же порядке; вновь прибывший вовлекался в эту игру на подсобных ролях. Однорукий осторожно взял двумя пальцами один из бокалов и, стараясь не расплескать, подвинул его мне. Он посмотрел на меня, жестом приглашая выпить, потом ловко, одним махом поднял свой бокал и опрокинул в глотку, даже не прикоснувшись к губам.
Я внимательно наблюдал за ним, и чем дальше, тем больше мне начинало казаться, что он намеренно желает произвести впечатление на собеседника точностью своих движений, продемонстрировать, до чего ловко обходится он без второй руки, и даже – насколько лучше умеет он орудовать одною рукой, чем иные двумя.
«Так вы, значит, и есть Мал-помалу», – произнес он наконец удовлетворенным тоном и откинулся на спинку стула. Он смотрел на меня испытующе, и я под его взглядом опустил голову. Наступило молчание. Слышно было только, как трепещет огонь свечи на карнизе у меня над головой. «Ну и как вам у нас нравится?» – нарушил тишину вопрос однорукого. Слова эти прозвучали так, будто должны были меня приободрить, но я продолжал молча смотреть на бокал с вином, чуть покачивая его в правой руке. «Наверное, не слишком?» Я покачал головой и поднял на него взгляд, однако тут же заметил, что ответ его мало интересовал, а возможно, он знал его заранее – во всяком случае, гораздо больше интереса он проявлял к своим ногтям, концы которых имели заостренную форму, – их-то он теперь внимательно рассматривал.
Он поднялся с места.
«Я Литфас», – сказал он, встав рядом со стулом и отвесив мне легкий поклон. Эта фраза, по-видимому, была задумана как введение в некие обстоятельные разъяснения, над формулировкой которых он долго трудился. Однако начатая речь ему явно не удалась – во всяком случае, он внезапно замолчал и принялся задумчиво расхаживать по узкому пространству между прилавком и полками стенного шкафа. Я ничего против этого не имел. Усталый от пережитого за день, я глубже погрузился в кресло и закрыл глаза. Иногда было слышно, как он тихо посвистывает носом; наконец он опять с шумом уселся на стул, подлил себе вина и принялся пить – смакуя каждый глоток, с расстановкой, как обыкновенно делает человек, которому холодно, или кто-то раздумывающий над сложной проблемой. В этих негромких, повторяющихся звуках было нечто приятно усыпляющее – это воздействие еще усиливалось благодаря тому, что иногда он в рассеянности проводил по столу ногтями. В помещении магазина было тепло, и я уже начал задремывать, как вдруг снова услышал его голос.
«А сейчас выпейте», – сказал он торжественным тоном, будто теперь я наконец-то пришел в подходящее расположение духа. Я поднес бокал поближе и понюхал. От вина исходил странный, немного едкий аромат, как от хвои какого-то неизвестного мне дерева. Я пригубил налитое. «Хорошо», – сказал однорукий и ободряюще кивнул. Я отпил еще глоток, слегка вздрогнул, ощутив резкий, своеобразный привкус, и непроизвольно прищелкнул языком. Я хотел откинуться обратно в кресло, но вместо того склонился вперед, в странной растерянности опер локти о колени и стал вертеть бокал в ладонях. Состояние у меня было такое, будто некая неожиданная новость вывела меня из равновесия, привела в замешательство – и каким-то чудом сознание мое вдруг сразу прояснилось.
«У этого вина хороший вкус, – удовлетворенно заметил Литфас, доверительно кивнув мне через стол. – “Дьянта”, – пояснил он, – “смоляное вино”».
Он опять наполнил свой бокал и опустошил его, однако на сей раз немного подержал вино во рту и, сложив губы трубочкой, втянул в рот немного воздуху, чтобы пропустить его над вином. Такой же звук я уже слышал чуть раньше. Он спокойно смотрел на меня. Я знал: он ожидает, что сейчас я начну говорить. Наконец, поскольку я так ничего и не сказал, он сам хотел было произнести слово или фразу, однако раздумал и так и не открыл рот.
«С вами нелегко, Мал-помалу, – сказал он наконец серьезно, однако без тени недружелюбия. – Мал-помалу», – повторил он. Откашлялся и повторил снова: «Литфас и Мал-помалу – красивые имена, – он покачал головой. – Красивое имя – ранняя печаль, не правда ли?» Он снова умолк. Казалось, он думал о чем-то давно минувшем, а потом вдруг произнес хриплым голосом, раздавшимся словно из дали времен: «У меня однажды жил дома заяц, которого звали в точности как вас».
Его слова прозвучали как насмешка. Я посмотрел на него, но он, казалось, целиком ушел в свои воспоминания. Он сидел в задумчивости и, склонив голову набок, словно бы прислушивался к чему-то происходившему наверху, в каком-то воображаемом помещении этажом выше.
«А знаете, – продолжал он, задумчиво глядя на меня, – ведь это отчаяние подсказывает нам невозможные имена для невозможных вещей».
Фраза эта звучала в его устах похоронным речитативом. «“Жизнь одновременно идиотски глупа и исполнена смысла, – говорится в одном месте в Книгах. – Я, если мы не смеемся над одним, не предаемся размышлению над другим, жизнь становится банальной”», – он сделал неопределенный жест своей культей. «“Тогда все сжимается до жалких размеров”», – цитировал он дальше. Казалось, цитата закончилась, однако он продолжал тем же тоном: «“Тогда во всем обнаруживается лишь самый малый смысл и самая малая бессмыслица” *». Однорукий опять поднялся и неуверенно потоптался на месте. Затем обернулся ко мне: «Опасные это слова! – сказал он предостерегающе. – Слова, исторгнутые из ямы отчаяния. В трезвом состоянии их вообще не следовало бы произносить». Он опять замолчал и принялся шагать туда-сюда. «Они всё позволяют, – вскричал он, обращаясь к стене, – они всё извиняют! – дойдя до самой стены, он остановился. – И в то же время они всё засыпают землей!» Он опять повернулся. «Слушайте внимательно», – сказал он спокойным голосом.
Малый потлач
«Я находился на краю пропасти, когда со мною произошло то, о чем я вам сейчас хочу рассказать». Он снова опустился на стул. На лбу у него выступили мелкие жемчужины пота – по-видимому, от предвкушения усилий, каких потребует от него начатый рассказ. «Это случилось около трех лет тому назад в Тадтене, – он немного подвинул свой стул. – У нас в деревне вдруг все засуетились. Дело было в том, что мы собирались ехать в Варбалог на кирмес. Кирмес и рыночный день совпали, и всякий, ясное дело, хотел посмотреть на большое гулянье, а если удастся, принять участие в одном-другом размене. А вы, вообще-то, знаете, что такое потлач?» – прервал он сам себя, дабы проверить, что мне уже известно, а что нет и с чего ему следует начинать свои разъяснения.
«Слово “потлач”, собственно говоря, происходит из венгерского *, – пояснил он, когда я отрицательно помотал головой. – Правильно оно произносится “потлаш”26, что значит приблизительно “замена, замещение”. Существует два вида потлаша: “надь-потлаш”, то есть “большой”, и “киш-потлаш”, то есть “малый размен”. Когда мы говорим о потлаше, то обычно имеем в виду малую его разновидность: она гораздо чаще имеет место. Подите-ка сюда! – он подозвал меня к себе. – Дайте мне ваш бокал!» Я повиновался; мне было любопытно, что будет он делать дальше. Он принял бокал из моей руки и заглянул мне в глаза. «Если вам не интересно, вы можете уйти», – заметил он. Я ничего не отвечал, однако поднял голову и тоже посмотрел ему прямо в глаза; не выдержав, он опустил взгляд и, как будто извиняясь, откашлялся.
«Итак, – начал он, – поставьте ваш бокал вот сюда». Он пальцем указал место перед собой на прилавке. Я выполнил его указание и ждал, что будет дальше. «Положите обе руки на стол и смотрите на меня!» – он положил свою левую руку на откидную доску. Я опять повиновался его словам. Между тем он, не отрывая глаз от бокала, стоявшего перед ним на прилавке, взял его, поднес к губам и отпил глоток. Он и на этот раз закрыл глаза, как делал раньше, и немного подержал вино во рту, перекатывая его с одной стороны на другую. Потом проглотил, подождал несколько секунд, опять открыл глаза и поставил бокал на прежнее место. «Ничего, – сказал он почти торжествующе. – Другие, видите ли, уверяют, будто способны по вкусу вина определить, о чем сию минуту думал их собеседник. Очень странно. Я почему-то ровно ничего не чувствую при подобном размене! – он испытующе посмотрел на меня. – А вы никогда не пытались это сделать?» – спросил он, подвигая мне через стол бокал, из которого прежде пил сам.
Я отвечал отрицательно.
«Попробуйте!» – сказал он. У меня было такое чувство, будто он требовал от меня чего-то неположенного и сам это понимал. Поэтому я хотел отказаться, но он не желал слушать моих возражений. «Попытаться обязательно нужно, – сказал он категорическим тоном, пальцем указывая на бокал. – Мы просто обязаны предпринимать попытки – обязаны всегда!»
Я уступил. Возможно, оттого, что я весь день ничего не ел, я почувствовал, как мой желудок – стоило мне сделать глоток – сжался под воздействием вина, верхняя часть тела начала раскачиваться туда-сюда, а руки вцепились в откидную доску, ища в ней опору. Я стиснул веки, чтобы избавиться от головокружения и вновь обрести равновесие; тем временем Литфас, не обращая внимания на мое состояние, опять принялся расхаживать за прилавком и громко произносить какие-то слова, как будто разговаривая сам с собой.
«Стоп! – воскликнул он, не глядя на меня. – Почувствовали что-нибудь?» Он повернулся ко мне спиной. «Нет? – спросил он, хотя ответ и без того был ему ясен. – Тогда вам нужно попробовать еще раз!» Он резко оттолкнулся от стены и, сделав два размашистых шага, оказался возле меня.
«Итак, – нетерпеливо сказал он, – давайте сюда бокал! – он протянул руку. – Теперь моя очередь».
Я протянул ему свой бокал, но он его отстранил и потребовал подать тот, из которого сам пил первым. «Главное – не смешивать! – сказал он с важным видом. – Если перепутать, все пойдет насмарку». Он приподнял бокал, зажав ножку между большим и указательным пальцами, и пару раз слегка встряхнул его.
«Весь свой букет, – произнес он, будто читая вслух книгу о напитках, – смоляное вино раскрывает, только если его немного взболтнешь перед тем, как пить. Только невежды пьют дьянту, не встряхнув бутылку!»
Он задумчиво посмотрел на меня. «Киш-потлаш, – произнес он затем. – “Высокая вода пусть будет перед тобой, ил пусть восстанет за тобой!” – сказано в Книгах. Так отделим же опять жидкое от твердого». Он отпил глоток из бокала. Локтем левой руки он при этом описал широкую дугу, торжественно оттопыривая в сторону мизинец и безымянный палец, словно все это было неотъемлемой частью церемонии, и поднес стакан ко рту почти горизонтально. Подобно мягкому подвижному клюву он вытянул верхнюю губу до середины бокала и всосал в себя жидкость. «Мне – светлое, – сказал он, прищелкивая языком, – тебе – мутное!» Он протянул мне бокал, приглашая выпить: «Порыться в иле и, кто знает, пожалуй, отыскать в нем сокровище».
Я взял у него бокал и понюхал вино. Запах принес мне из памяти нечто давнее, что-то такое, что долгое время лежало внутри меня, забросанное землей. Я отпил еще глоток – и снова скрючился над прилавком, потому что на меня вновь нахлынула слабость. Тут я вдруг заметил, что глаза однорукого, почти лишенные ресниц, любопытно и холодно мерили меня изучающим взглядом.
«Разве не обязаны мы вкушать пищу, пока имеется хоть что-то съедобное? Имеем ли мы право избегать этого?» – так, кажется, восклицал Рак сегодняшним утром, и какую-то долю мгновения мне хотелось обратиться с этими словами к Литфасу, однако я сдержал себя. «Пожалуй, мы имеем право, однако нам не следует так поступать», – сказал тогда Рак. Я хотел разжать руку, выпустить ножку бокала, но это не удавалось. Рука моя только сильнее стискивала граненое стекло.
«Стоп! Итак, о чем я только что думал?» – услышал я голос Литфаса, доносившийся будто из соседней комнаты.
Его вопрос дошел до моего сознания, однако я покачал головой. Вопрос относился не ко мне. Я смотрел вниз, на свои брюки, смотрел на ровиш 27, тесемку, извивающуюся по вышитому краю, при виде которой Рак пришел в такое волнение. «Эти зигзаги! – восклицал он. – Это стремительное снование туда-сюда!» Я закусил губу, прикрыл глаза. Его слова вдруг обрели смысл. Где был он сейчас? Почему нарушил свое обещание и не пришел снова, чтобы познакомить меня с той женщиной, о которой упомянул?
«Рак», – громко сказал я. Это имя вырвалось из моих уст как ворчание собаки.
«Что вы сказали?» – спросил однорукий, недоверчиво уставившись на меня и прижимая к телу свою культю, словно короткое крыло.
«Ничего», – попытался я уйти от его вопроса.
«Знаете, – сказал он, не обращая внимания на мою реакцию, – в наших Книгах имеется одно место, из которого всякий из нас может извлечь важные выводы. “Большая часть из того, что существенно для вашей жизни, – говорится там, – совершается во время вашего отсутствия”. Важно не деяние, а образ деяния. Не то, что мы, собственно, делаем, а то, что совершается с тем, что мы делаем. Только это и имеет значение. Как говорится, поступок – это всего лишь дурацкий кусок дерева, в котором затаилось пойманное время. Высвобождается оно только тогда, когда деревяшка начинает вращаться под плеткой рассказов и слухов. При этом значимо не то, что проявляется в деянии, а то, что скрывается за ним, умолчанное. Киш-потлаш!» – воскликнул однорукий. Я не понял смысла его слов.
«Мне уже сотни раз случалось видеть подобное: выражение ошеломления и растерянности, появляющееся на лице человека, у которого собеседник вдруг выхватывает из руки бокал с криком: “Чур, мне мутное!” Надо бы вам хоть раз самому увидеть бурю, которая тогда разражается! Действующие лица ведут себя так, будто режутся в карты, а на кон поставлено ни много ни мало – вечное блаженство». Литфас посмотрел на меня. «Это смехотворно, бесстыдно – и тем не менее это серьезно, как смерть, – пояснил он. – И мы тогда сидим за столом вдесятером или целой дюжиной, и всякую секунду слышно, как кто-нибудь выкрикивает из своего угла: “Чур, мне светлое!” – а остальные орут в ответ: “Чур, мне мутное!” Каждый водит носом и принюхивается к бокалу соседа, пока у него голова не пойдет кругом. Оттого что сахар на дне бокала – это и есть осадок познания. До него-то они и хотят добраться!»
Он перебил сам себя.
«Бросается в глаза, – сказал он со всей серьезностью и наполнил свой бокал до краев, – и на это следовало бы обратить внимание тем, кто потешается над обычаем размена: сколько бы в таких случаях ни было выпито, однако еще ни разу не случалось, чтобы кто-то встал из-за стола менее трезвым, чем сел за него». Он показал пальцем на бокал, стоявший перед ним. «От этого вина не пьянеют! – пояснил он. – Наши дети его пьют, и оно не причиняет им вреда! И наши женщины! – он опять посмотрел на меня и, помолчав, добавил: – Да, в особенности женщины».
«Между прочим, знаете, как меня звали, когда я был крестным? – я отрицательно покачал головой, однако он кивнул с таким видом, будто я уже произнес имя и ему оставалось только подтвердить: – “Семь-озер-а-воды-нет”! Редкое имя. Встречается нечасто, с разрывами в несколько поколений, – он задумался. – Это имя упоминается в одной легенде, – веско вымолвил он. – Она повествует об одном анохи, который, как утверждают, велел вырыть себе сидячую могилу и через отверстие для душ спустился к умершим. И провел он там, внизу, год и один день. А целью его было выведать у мертвых, каким образом им удается мирно уживаться друг с другом. Когда он возвратился из своего странствия, другие биреши стали расспрашивать его, что ему там довелось увидеть, но этот схороненный заживо постоянно повторял одни и те же пять слов: “Семь озер, а воды нет!” Ну, да не важно!»
Литфас резко поднялся с места. Нимало не смущаясь, он отворил заднюю дверь и, встав в дверном проеме, помочился.
«Вы давеча упомянули Рака, не так ли?» – спросил он меня через плечо. Затем стряхнул последние капли со своего члена и вернулся в комнату. Прежде чем снова усесться, он по-женски оправил спереди ночную рубашку.
«Рак, – сказал он. – Рак и Анна». Он помолчал, потом спросил задумчиво: «Знаете, как мы говорим, если кто-то разом лишится всего, чем владел?»
Я покачал головой.
«Бог пораскинул мозгами!» – закончил он глухо. Затем, скорее, в порядке констатации, чем вопроса, прибавил: «Вы знаете Анну?»
Я кивнул.
«Анна когда-то была моей женой, – пояснил он. – Я тогда, в Тадтене, во время потлача проиграл ее в кости».
Однорукий резко опустил свой бокал на стол. Я вздрогнул. Мне опять вспомнились слова Рака: «Женщина, доставшаяся мне по воле жребия, потому что так выпали кости на игральном столе», – говорил тот мне сегодня утром.
«Когда я спросил вас, о чем же я, по-вашему, думал, – прервал однорукий мои воспоминания, – я думал о Раке. Понимаете?»
Седьмой продолжительный разговор
«Место действия, стало быть, Тадтен, – сказал он на этот раз решительно и с таким видом, словно теперь ему нечего было передо мной скрывать. – Трактир “Корова”. Время действия: нынешней осенью будет тому три года, – он откашлялся. – С тех пор я каждый вечер зажигаю эту свечу, – он кивнул головой в сторону окна. – Выплачиваю свою жизнь обратно – в рассрочку».
Я взглянул на свечу, которая стояла наверху, на оконном карнизе. Окно было слепое, его внутренние створки, как и нижняя часть витрины, были заделаны приколоченными листами картона с надписями. На картоне был изображен человек, который в правой руке держал высоко поднятую бутылку, наподобие трофея, и, казалось, готов был от радости пуститься вприсядку. «Эдь уй тар-шашьятек» («Новая коллективная игра») – гласила подпись под картинкой. Мне вспомнилось то, что Литфас только что рассказывал о потлаче. Контур пляшущей фигуры там и сям прерывался маленькими кружочками, которые выглядели как нашитые на одежду шарики или бубенчики, благодаря чему создавалось впечатление: этот нарисованный танцор – изрядный шутник.
Мне вспомнился мой учитель закона Божьего в средней школе. Это был невысокий, худощавый, нервный человек, на руке у которого чуть выше правого запястья был нарост, размером и формой напоминавший гусиное яйцо. Увидеть его можно было когда учитель сопровождал свои слова энергичной жестикуляцией. Однажды он объяснял нам, что раньше бубенцы применяли для того, чтобы изгонять злых духов; позже их привешивали на одежду юродивым и прокаженным – людям, которые, как считалось, одержимы бесами, и всем прочим следует опасаться их приближения. Как поведал он нам дальше, колокола на наших колокольнях и пожарных каланчах тоже ведут свое происхождение от тех самых бубенцов. «Суеверие, которое сумел обратить на пользу один из римских пап!» – громко изрекая эти слова, он при слове “суеверие” сделал пренебрежительный жест правой рукой, так что в просвете его рукава мелькнула отвратительная желтая опухоль.
Один из моих одноклассников использовал стечение обстоятельств, лениво поднял руку и спросил учителя: он что, тоже занимается изгнанием злых духов или, может быть, сам принадлежит к их числу, если ему приходится носить на руке такой вот бубенчик? Учитель на мгновение утратил дар речи, он стоял столбом и выглядел так, будто вот-вот задохнется; наконец он заговорил опять и, словно в ответ на насмешку ученика, сообщил нам своим высоким, тихим, но очень проникновенным голосом, что в те времена в нашей стране существовал закон, по которому посторонний, вступивший под чей-либо кров и не известивший шумом о своем приходе, безнаказанно мог быть убит без предупреждения ударом топора или дубины. Эти слова он произнес настолько резким, умеренным тоном, что ученик, который над ним насмешничал, побледнел и тут же попросил прощения.
Я подумал о колокольчике над дверью Литфаса. «У Литфаса, – подумал я, – только одна рука. Защитить себя он не сможет».
«Это было в среду, – продолжил он свой рассказ, как будто для того, чтобы помешать мне додумать мысль до конца. – Договорились так, что мы, мужчины, поедем в Варбалог на кирмес, а женщины – кроме Анны с нами тогда была и ваша госпожа тетушка – останутся с Ослипом в трактире и будут нас дожидаться. Ослип не смог с нами поехать, – заметил Литфас слегка извиняющимся тоном, – он уже тогда еле на ногах держался без посторонней помощи. Не знаю, говорила ли она вам, – опять перебил он сам себя, – возможно, мне не следовало бы вам ничего рассказывать, потому что, в сущности, эта история ни меня, ни вас не касается». Он посмотрел на меня: «Мы, все остальные, тогда еще знать не знали, что Ослип был обречен, – продолжал он, – а ваша тетушка уже сделала его своим любовником! Ваша тетушка – весьма примечательная женщина». Он подумал, договаривать ли ему до конца, но все-таки решился: «Она любит больных! – произнес он хрипло. – Анна и Лина – совсем как сестры, и Лина залюбила маленького Ослипа до смерти!» – он неуверенно, искоса посмотрел на меня.
«Все это – старые истории, – добавил он и сделал рукою такой жест, будто отбрасывал что-то, будто хотел сделать сказанное несказанным. – Всякий их знает, всякий о них говорит, только, возможно, лучше всего было бы забыть их и похоронить окончательно. Поступок и тот образ, какой обретает поступок, – повторил он опять. – Здесь у нас каждый все знает о других; некоторое пространство для произвольных действий, конечно, остается, и само по себе оно не так уж мало, однако все эти возможные произвольные действия очевидны для всех, а значит, что на самом деле свободного пространства практически не существует. Все, что может произойти и происходит на деле, всякое действие, всякий проступок – лишь повторение того, что было всегда. “Прошлое, – учат наши Книги, – это та материя, из которой созидается время, и всякий уходящий миг незамедлительно возвращается в материю прошлого”. В другом месте говорится: “Невиновны вы всего лишь потому, что вам ничего не ведомо о нашей вине. Однако именно то, что вы ничего не знаете о нашей вине, как раз и делает вас виновными”. Ну, да не важно, – презрительно заметил он. – Мы вообще не имеем значения. Иные утверждают, что будущее лежит у нас за спиною. Возможно, это преувеличение, и вполне достаточно было бы сказать, что будущее просто не лежит у нас на дороге. Посмотрите-ка!» – он выдвинул ящик стола под прилавком и достал оттуда несколько вещиц: ножницы для ногтей, маленькую плоскую эмалированную баночку с отвинчивающейся крышкой и катушку ниток, в которую была воткнута иголка. Похоже, того, что он искал, среди этих предметов не оказалось. «А тут что такое?» – сказал он, сунув катушку и ножницы назад в ящик и встряхивая коробочку над самым своим ухом. Звук был тихий, будто что-то пересыпалось с легким скрипом. «Булавки?» – и он положил коробочку обратно в ящик.
«У вас случайно не будет сигареты?» – спросил он, взглянув на меня.
Я отвечал отрицательно.
«Ну ничего».
И он вернулся к своему рассказу.
«Дело, значит, было в Тадтене. Мы были на кирмесе в Варбалоге-Сердахее. “Сердахей”28 означает “рынок по средам”, – пояснил однорукий. – Рыночный день и кирмес совпали». Очевидно, все еще в поисках сигарет он опять нагнулся, далеко вытащил ящик наружу и буквально нырнул в него головой. «Рак хотел купить пилу, но не нашел подходящей, – казалось, он беседует с ящиком. – Вороватый играл на постоялом дворе в карты и просадил все свои деньги. Еврей приволок лестницу, которую выиграл у брата своего отца, соревнуясь с ним в забивании гвоздей, – он задвинул ящик. – Кроме них присутствовали также Инга, Надь-Ваг и Де Селби. Считая меня, семь человек – небольшая компания, в которой каждый друг друга видит», – его слова звучали так, будто он давал показания для протокола.
«Сразу после того, как мы оставили телегу перед “Аз Элейен” (это первый постоялый двор на окраине Варбалога, а название его переводится “в начале”), то есть сразу как мы туда приехали, наша компания разделилась. Каждый отправился по своим делам; только Де Селби да я остались вместе. Служка нуждается в присмотре! – сказал однорукий и опять бросил на меня взгляд сбоку. – Он у нас – настоящая драгоценность! Ну, да не важно. Мы недолго потолкались на рыночной площади и огляделись. Ничего интересного не происходило, все одно и то же, так что я, пожалуй, сразу бы вернулся назад, но толстяк не хотел уходить – он ведь совсем как ребенок: не может досыта наглядеться, особенно если место ему уже знакомое. Так что мы там еще задержались. Он попивал лимонад, а я от скуки дал погадать себе по руке. Гадала цыганка, а потому я и половины не понял из всего, что она говорила, а то, что разобрал, не было для меня новостью. Стоп! – вновь прервал он сам себя. – Во всяком случае, мы раньше остальных вернулись к условленному месту встречи у придорожной канавы перед постоялым двором и стали дожидаться. Де Селби отчего-то вел себя беспокойно, возможно, что-то предчувствовал. Он то и дело, как ненормальный, принимался прыгать в траве и нетерпеливо хлопать в ладоши, и все оттого, что другие всё не шли и не шли. Наконец они вернулись. Каждый рассказывал маленькую историю своих похождений и показывал вещи, которыми он разжился, между тем как Де Селби все настойчивее уговаривал нас поскорее ехать назад. Наконец мы привели волов, оставленных на постоялом дворе. Они стояли там так, как мы их оставили, – будто вросли в землю. Соответственно скорым был и наш обратный путь!
Каждый заботливо уложил свое имущество в телегу или привязал снаружи к ее бортам. Все мы были охвачены таким волнением, будто отправлялись в кругосветное путешествие, и выглядели совсем растерявшимися – как люди, забывшие дома самое необходимое. Каждый считал, что он собственнолично должен проверить колеса, оглобли, упряжь, прочно ли закреплен багаж. Причем солнце палило жарче, чем если бы светило сквозь увеличительное стекло. Непонятный разлад возник между тем, что делал каждый из нас, и тем, что делали остальные. Всякое движение руки шло вразрез с тем, что только что сделал попутчик, во всяком слове звучали отпор и раздражение; казалось, во все, что мы делали, вплетались тугие узлы. Ясно было только одно: мы все хотели оттуда уехать как можно быстрее. Но быстро не получалось. За столько времени мы успели бы проделать обратный путь даже на карачках!» – Литфас тяжело вздохнул.
«Наконец мы, чуть живые от усталости, повалились в телегу, – продолжал он. – Еврей обеими руками держался за край, чтобы не выпасть. Штиц лежал, прислонившись спиной к задней стенке, совсем как мертвец. Инга, едва залез в телегу и устроился, принялся насвистывать себе под нос одну и ту же мелодию. Все это было от страха. Волы дважды останавливались и начинали реветь, Надь-Ваг, сидевший впереди за кучера, без разбору лупил по их спинам, одурев от бессилия, потому что они не хотели трогаться с места. Никто не говорил ни слова. На этой жаре можно было услышать, как покряхтывает земля», – однорукий поднял глаза. Он смотрел мимо меня. «Случилось что-то недоброе», – сказал он. В тишине комнаты эта фраза звучала как потерянная, случайно проникшая сюда из какого-то другого, соседнего помещения.
«Телега не желала трогаться с места. Колеса не вращались, только как-то странно ерзали по земле. Все молча смотрели вниз, прямо перед собой, а если все-таки случалось, что двое одновременно поднимали глаза и их взоры пересекались, тогда могло показаться: они вовсе не знают друг друга, они смотрят один на другого через зияющую пропасть, готовые убить представителя чуждой расы. Все мы, находившиеся в телеге, были охвачены ненавистью, и весь окружавший пейзаж был нам чужд и враждебен; подобного контраста мне еще в жизни не доводилось наблюдать. Казалось, каждый в глубине души проклинает остальных и занят тем, что подыскивает слова для проклятия; каждый, сжав руки в кулаки, смотрел попеременно то на дно телеги, то куда-то в сторону, как будто сокрушался о том, что несчастье, какое он призывал на нашу голову, еще не совершилось». Он снова прервал свою речь и рукавом отер пот со лба.
«Мы застряли, – тяжело произнес он и, словно желая подчеркнуть ту давнюю безысходность, ударил кулаком по столу. – В телеге стояло мертвое молчание. Казалось, все ускользало с нашей дороги, избегало нас: земля под нами, похоже, вращалась с удвоенной скоростью, деревья отклоняли свои верхушки в сторону, и, как вожатай, катился перед нами, погоняемый ветром, сухой клубок ветвей – моньорокерек! Воздух был такой, что дышать им было невозможно. Стеклянный войлок!» Он опять взглянул на меня.