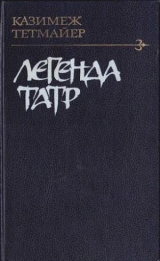
Текст книги "Легенда Татр"
Автор книги: Казимеж Пшерва
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
– Разбиться могла: ведь этакую даль с неба летела, – отвечал Мардула.
– Не с неба она, потому что все делает, как человек, – вмешался Бырнас. – Я знаю, видел.
– Да ведь и Иисус Христос ел и пил, однако ж был бог, – резонно возразил Мардула.
И все посмотрели на него с удивлением, потому что от него редко приходилось слышать о чем‑нибудь, кроме девок, драк, пьянства да воровства.
«Она» была тиха и много молилась. А о пребывании на горе пана Костки не спрашивала никогда, но, если об этом рассказывали, слушала, бледнея, а потом ночью долго молилась на коленях в шалаше, где спала под охраной двух псов, посаженных на цепь у порога.
Собаки лизали ей руки, овцы приходили к ней. Чтобы ей не было скучно, пастухи принесли маленьких ягнят. Эти не покидали девушку ни днем, ни ночью. Часто пастухи приходили по утрам будить ее и видели, что она спит, положив голову на ягненка и греясь между остальными.
– Точно на стекле нарисована! – с восторгом говорил Собек.
Вечером того дня, когда драгуны Сенявского нагрянули во двор к Топору, на горе отчаянно залаяли собаки, и через минуту на пороге шалаша появились Марина с черной, обгорелой головней в руке и Терезя.
В это время пастухи ужинали. «Она» ела простоквашу и закусывала лепешкой.
– Марысь, что, с тобой?! – вскрикнул Собек, увидев страшное выражение изменившегося лица сестры.
– Месть! – воскликнула Марина. – Боги взывают к мщению!
Бесконечным, необъятным шумом шумел, качаясь над Мариной, лес. В дыму костра медленно стало выплывать перед нею огромное медно‑красное лицо в золотой короне с большими зубцами, окаймленное рыжими кудрями. В облаке дыма склонялось над костром это видение.
Марина, которая давно стояла на коленях, устремив глаза на пламя, склонила голову перед его величием.
Бог явился.
Старые боги услышали ее: они приходят на помощь против панов и ксендзов…
Старые боги неба и земли, вод и гор, лесов и священных рощ…
Старые боги, могучие и верные друзья человека…
Они плыли над ней во тьме, их лики колыхались, запах серы и жар молний возвещали о их присутствии. Грудь Марины бурно вздымалась. Она принимала их в себя, и это походило на таинство зачатия.
Вдруг, запыхавшись, еле дыша, вбежала в урочище Терезя.
– Марина! Нет у тебя деда, нет постели, нет ничего в кладовой! – закричала она.
– Как? Что?!
– Нагрянули злые люди, деда убили, кровати разломали, где что было – все забрали: одежду, сало, – ничего не оставили в доме! Пусто!
– Кто?
– Солдаты! Они и за мной гнались верхом, да я спряталась в Плазов погреб.
– За тобой гнались? – повторила Марина.
– Да! На конях. Человек десять. Только я из лесу вышла…
– А! – закричала Марина, вскакивая. – Это его солдаты! За мной приезжали! Это он, пан из Сенявы!
– Откуда ты знаешь?
– Бог мне сказал, что в облаке дыма сошел с неба! О священные боги! Вы меня покарали, и вы теперь меня призываете! Кровь за кровь! Его голова – за голову деда! За мой дом – его замок! Против сабель его – топоры! Гей!
Дикий, пронзительный вопль огласил окрестность. Головня, выхваченная из костра и поднятая над головой, осыпала Марину дождем искр.
– Гейхааа! – повторила она свой возглас. – Вот чего надо было, чтобы мужики пошли защищаться и мстить!
И она побежала.
– Куда пойдем? – спросила Терезя.
– К Озерам, к Собеку. Мстить! Мстить!
Это было на десятый день после появления Беаты Гербурт на пастбище у Озер.
Собек с девушками побежал вниз и собственными главами увидел опустошенный дом и труп деда. Он не сказал ничего и похоронил старого Топора. Сколотили ему гроб из гладко выструганных еловых досок и положили в гроб все, что он любил при жизни: старый разбойничий нож, старую, доставшуюся от прадеда запонку, которой застегивался ворот рубахи, и прекрасный, писанный на стекле образок, изображавший св. Цецилию, играющую на органе, и ангелов, которые слушают ее, держа в руках зеленые пальмовые ветви. А старый Топор Железный положил ему еще под голову горсть земли, потому что покойник был крестьянин и любил землю. Гроб заколотили, положили на телегу и повезли в Шафляры, в приходский костел. За телегой шли бабы, плача и причитая, как велит обычай, и мужики, молчаливые, ожесточенные, таившие в себе неистовый гнев.
Так шли они за гробом из Грубого через Ольчу, Поронин, Белый Дунаец в Шафляры, выбирая лучшие дороги, чтобы не трясти покойника.
Шел, пригорюнившись, маленький Кшись рядом с великаном Галайдой, который, поручив волов другому погонщику, пришел с Крулёвой горы на похороны. После похорон они пошли назад вместе и в Белом Дунайце зашли в корчму, к еврею, хорошо знакомому Кшисю, где с горя напились. А когда они вышли оттуда и пошли, держась за руки, домой, Кшисю стало жаль Галайду: нет у него ни жены, ни детей, приходится одному пасти летом волов, а зимой сидеть дома. И он как старый знакомый стал уговаривать Галайду:
– Знаешь, я тебя женю… Найду тебе бабенку хорошую, настоящую… Тебе баба нужна…
– Нужна, – с готовностью согласился Галайда.
– Я тебе найду!.. И не дрянь какую‑нибудь, не пройдоху, с разными там вывертами… Мне тебя жаль… Кругом тебя одни только обсевки, одной рукой воду носят, другой – огонь.
Галайда вздохнул.
– Тебе баба нужна, – убежденно говорил Кшись. – Я тебе поищу… Хозяйскую дочку, молоденькую, видную, красивую… Потому – ты человек!
Галайда был растроган. Он остановился, облапил маленького Кшися огромными своими ручищами и липкими губами чмокнул его в самые губы. Потом они снова, обнявшись, тронулись в путь, и Кшись, покачиваясь, убеждал:
– Тебе баба нужна… Я знаю… Я тебе найду… Такую, чтоб душа у нее была – как вода, сердце золотое, ум – как волосы, а зад от бедра до бедра в полсажени… Бабу, как целая пивоварня!.. Потому – такую‑то нетрудно найти, у которой костыли вместо ног…
Галайда уже всхлипывал, а Кшись продолжал:
– Когда я молодой был, за мной такие стадом ходили… Вино мне из Венгрии кувшинами носили… А я всех их ублажал… Не веришь? Тебе баба нужна… Я тебе найду… Потому – баба дрянь, а без бабы плохо… Про это мы не раз с покойником Топором говорили… Он был голова!..
Вдруг Кшись остановился, выпустил Галайду, потом загородил ему дорогу и сказал грозно:
– Вот это был мужик! Не то что ты, нищий!
Галайда приуныл.
Потом зашли они в корчму в Поронине, где застали Якуба Каркоса, такого же огромного, сильного и пьяного, как Галайда, и начали угощаться вместе. Через несколько минут Каркос без всякой причины дал Галайде в ухо так, что загудело, а Галайда дал ему сдачи. Кшись снял со стены гусли корчмаря и стал играть оравскую плясовую, которую любил покойный Топор:
До вершины высоко,
А до милой далеко…
Вскоре Галайда треснул по голове Каркоса, а Каркос – Галайду. Но все это без всякой злобы, только потому, что они были мужики здоровенные и вреда им это не причиняло. И так время от времени они дубасили друг друга, а Кшись все играл.
Потом стали чокаться жестяными кружками с водкой, потом пошли всякие церемонии: Каркос, как местный житель, хотел платить за Галайду и Кшися, а те за него.
А кончилось тем, что Галайда взял еврея под мышку и вынес его за дверь, Кшись ни с того ни с сего разбил окно и влез через него, а Каркос забрался за перегородку и лег спать на хозяйкину кровать.
– Я тебя женю, – опять говорил Кшись Галайде. – Тебе баба нужна… Чтобы она тебя почитала… Потому – ты человек!
Страшным гневом охвачена была вся горная область. Шляхта, гордая и упоенная победой под Берестечком, победой, одна весть о которой как будто подавила все крестьянское движение, вернулась домой, карала взбунтовавшихся мужиков и, «казалось, обезумела от негодования и жажды мести». Следствия и суды, особенно в Краковском воеводстве, были так жестоки, что из некоторых деревень все население бежало в горы и жило разбоем или переходило границу, под защиту Венгрии. Людям рубили головы, сжигали их, вешали, избивали, а дома обращали в пепел. Вспыхнул гнев и Топоров из Грубого.
Уже старый Миколай Топор из Мура, двоюродный брат убитого Ясицы, и старый Войцех Топор Лесной из Грубого, и Станислав Топор Железный из‑под Красного Верха сходились на совещания. И все, жившие вокруг, – Уступские из Уступа, Муранцы из Мура, Лоясы из Пардулувки, Бульчики из Поронина, Бахледы из Бахлед, Залинские из Фурмановой, Хованцы из Тихого и влиятельные друзья их из дальних деревень: Новобильские из Бялки, Пары из Буковины, Яжомбки из‑под Копы, – все, кто услышал весть о нападении панских казаков, об убийствах и грабежах, разделяли их возмущение.
Взоры всех обращены были на Собека Топора, который первым должен был отомстить, но Собек, согнав овец с горы, сидел в своей избе и молчал.
– Собек – мужик настоящий! Насчет него сомневаться нечего! Он что‑нибудь замышляет! – говорили друг другу мужики, готовые помочь родственнику и товарищу.
Здесь, в королевских владениях на Подгалье, не было панов‑карателей: можно было спокойно совещаться и думать.
Марина рассказала Собеку все. Как познакомился с нею Сенявский, как он ей понравился, как безуспешно соблазнял золотом и лестью. Сказала, что она любила его больше всего на свете и, если бы он был деревенским парнем, отдалась бы ему под первым явором, но не хотела принадлежать пану, которому не чувствовала себя равной; рассказала, как отдалась пану Костке, чтобы утешить его в неволе и горе, в час, когда все становятся равными, и как потом призывала на помощь старых богов. Собек жевал сосновую смолу и слушал молча.
Неподвижная, разбитая параличом бабка лежала на постели в избе.
Иногда приходил Кшись и играл, играл старые песни Ясицы Топора и вызывал с того света окровавленную его тень. Сходились Топоры: Миколай из Мура, Лесной, Железный, сходились соседи, и сердца их распирал гнев при мысли, что кто‑то осмелился напасть на Топора, на свободного крестьянина в собственном его доме. Молодые Топоры говорили Собеку: «Мы готовы!..»
Собек отправился в Поляны, к старому Саблику, и старый Саблик, захватив гусли, как будто без цели зашагал по краковской дороге. Через неделю он возвратился с известием, что замок в Сеняве грозный, брать его надо пушками, а не чупагами, и войска в нем – целые тысячи.
Разговоры эти велись тайно. Кроме Собека, Марины и Кшися, не слышал их никто, даже «она», девушка, которая сошла с пастухами с горы и жила у Собека, делая легкую работу по хозяйству и ухаживая за параличной бабкой.
Слышал еще старый Саблик во время своего странствия, что у пана Гербурта из Сиворога пропала дочь, что он ее разыскивает и обещает заплатить три тысячи червонцев тому, кто ее найдет. Рассказывал Саблик и о монахине, которая, когда все разбежались, осталась с Косткой на месте казни, а потом куда‑то исчезла, рассеялась, как туман. Многое слышал Саблик, потому что умел слушать. Он был «голова».
Собека словно осенило. Он пошел к девушке и прямо задал ей вопрос. Она ответила:
– Да, это я. Но не выдавайте меня, потому что я хочу здесь жить и здесь умереть.
И она хотела поцеловать у него руку, но Собек ласково удержал ее и спросил:
– Как же нам называть вас, панна?
Девушка подумала немного и ответила:
– Мое третье крестное имя – Людмила. Так и зовите.
И так стали ее называть, а она просила, чтобы считали ее сестрой.
– Не жаль вам терять свое богатство? – спросил однажды Собек.
– Богатство мое лежит в земле, – отвечала она скорбно.
Между тем Сенявский велел всыпать по триста палок казакам, которые не могли по указанию Сульницкого схватить мнимую Марину, и послал в Грубое на разведки верного своего слугу Томека, знакомого с тамошними местами. Он решил добыть Марину во что бы то ни стало. И вот Томек отправился в путь в одежде странствующего торговца, с кораллами, бусами, гребешками, медальонами и образками. Он пришел к Топорам и здесь, кроме Марины, встретил и узнал Беату Гербурт, которую видел не раз, когда сопровождал своего господина в Сиворог. Вернувшись, он все доложил Сенявскому.
Сенявский изумился, а потом, хитро прищурившись, поднял палец и сказал Томеку:
– Держи язык за зубами. Никому ни звука! Обеих в мешок! А пока молчи!
Потом прибавил:
– Тысячу червонцев считай за мной.
Так же, как Собеку, Беата призналась во всем Марине. Дружба между ними росла, и они поведали друг другу все. В глубоком волнении смотрели они в глаза друг другу: ведь Сенявский хотел обольстить Марину, ударил ее булавой и велел похитить, – и этот самый Сенявский хотел жениться на Беате и стал причиною гибели пана Костки. Но о своей любви к Сенявскому Марина не сказала: ей было стыдно. Также и Беата не рассказала о любви своей к Костке. А отчего она бежала из монастыря в Татры, ее никто не расспрашивал. Бежала, и все.
И только когда Марина узнала, что Сенявский, соблазняя ее, собирался жениться на другой, она воскликнула: «Подлец!» А Беата, узнав, что, домогаясь ее руки, он в то же время увивался за Мариной, прошептала сквозь зубы то же слово: «Подлец!»
Собек выслушал рассказы девушек, и когда снова явился «торговец» Томек, принесший Марине на выбор обещанные кораллы, – Собек оставил его ночевать, а ночью с помощью Марины заткнул ему рот, связал руки и ноги и тихонько отнес в лес. Там, неподалеку от подземелья Плаза, он приставил к его сердцу острие ножа, развязал рот и приказал:
– Говори все, что знаешь!
– Что мне говорить? – в смертельном страхе простонал Томек.
– Все, что знаешь! Да не ври! Я правду все равно узнаю.
И Собек слегка надавил нож.
– Ты в самом деле торговец?
– Нет, – дрожа, прошептал Томек.
– Так кто же ты?
– Слуга…
– Чей?
Томек заколебался, но Собек снова надавил нож.
– Пана Сенявского, – прошептал Томек.
– Видишь? – обратился Собек к Марине. – Ну, так что тебе известно?
– Я слуга, мне велено было…
– Ладно. Говори все, что знаешь!
– Пан мой хочет украсть вашу сестру…
– Хорошо. Что еще?
– Вместе с дочерью воеводы Гербурта, которая живет у вас…
– Он знает, что она здесь?
– Знает.
– Откуда?
– Я ее узнал.
– А зачем ты к нам опять пришел?
Томек молчал.
Собек надавил нож.
– Говори!
– Две тысячи людей Сенявского на конях стоят в лесу под Обидовой. Будто бы для того, чтобы наказать крестьян за бунт.
– А на самом деле для чего?
– Чтобы напасть на вас.
– И пан с ними? – спросила Марина.
– Пан сидит в Заборне, в корчме. С ним несколько десятков казаков.
– Когда хотят напасть?
– Как только я донесу, что Марина и панна Беата дома.
– Хорошо. Еще что? – спросил Собек.
– Больше ничего не знаю.
– Что пан Сенявский хочет сделать с Мариной?
– Не знаю. Что знал, то сказал. Только вы меня не выдавайте! На кол посадят!
– Будь спокоен!
И Собек вонзил нож, который держал над сердцем Томека, по самую рукоять. Потом вытащил изо рта трупа язык, отрезал его и, спустив с убитого штаны, засунул ему язык в зад. Так делать учил древний обычай, чтобы сохранить тайну.
– Теперь уж не расскажет, что с ним случилось, – сказал он.
После этого они с Мариной отнесли мертвеца в дальний конец подземелья и завалили вход тяжелыми камнями.
Собек сел под елью и мрачно понурил голову.
– Теперь нам конец, – с горечью заговорил он, – Против такой силы ничего не сделаешь. Не защитишься, не убежишь, не спрячешься. В Венгрию убежим – за деньги нас и оттуда достанут. Уйдем в горы, охотой жить, – оттуда выгонит нас зима. А дом сожгут, скотину, овец заберут, постройки снесут – и будем мы нищими. Да и как от бабки уйти, как ее одну оставить? Уж я ничего не знаю… Против двадцати, против двухсот человек теперь, когда все мужики дома, помогли бы и наши чупаги… Но против двух тысяч!.. Погибнет наш род. Потому что пока я жив, ни тебя, ни панны Беаты он не возьмет. Но что же потом?
– Надо завтра созвать Топоров: Железного, Лесного, Мурского, – сказала Марина.
– Ну и что? Зачем их созывать? – возразил Собек, – Что они могут посоветовать? Надо бы на десять миль вокруг всех мужиков созвать, – да и то против такой силы ничего не сделаешь. Две тысячи солдат!.. Разве что Валилес и Ломискала из могил бы встали, – тогда бы мы своего добились.
Собек поднялся, и они в молчании пошли к дому.
Там Собек ушел спать в курную избу, потому что до утра было еще далеко, а Марина вошла в чистую горницу, где спали они с Беатой.
– Это ты, Маринка? – спросила проснувшаяся Беата.
– Я.
– Уходила? Где это ты была?
– Несчастье, – сказала Марина, садясь на постели. – Торговец, который здесь был, – переодетый слуга пана Сенявского; две тысячи солдат пана Сенявского стоят в двух милях отсюда, в лесу под Обидовой, а сам он в Заборне в корчме. Хотят увести тебя и меня.
– Они обо мне знают? – крикнула пораженная Беата.
– Знают. Этот слуга узнал тебя. Он тебя где‑то видел.
– Тот, что здесь спит?
– Он здесь не спит.
– Да ведь твой брат оставил его ночевать?
– Его здесь больше нет.
– Как? Ушел? К Сенявскому?
– Он уже не пойдет никуда.
– Почему?
– Да так… Надо придумать, что делать.
– Бежать!
– Э! Куда? С гор нас скоро зима в долину погонит. А дом?.. А бабка?..
– Я убегу…
– Тебя поймают. Две тысячи солдат!
– О боже, боже! – в отчаянии простонала Беата. – Либо отец велит заживо похоронить меня в монастыре, либо мне поневоле придется идти замуж за этого подлеца!.. Лучше смерть, чем все это! Сырая монастырская келья, власяница, плеть и неволя так же страшны мне, как ложе этого негодяя, этого притеснителя и убийцы моего Льва! Что делать? Что делать? Несчастная я сирота… Я думала остаться у вас до конца жизни, хотя бы вы заставили меня вилами выгребать навоз из‑под коров, мыть полы в избах, хотя бы давали мне есть вместе с последней батрачкой… Но и над вашей головой висит меч…
Она заплакала и в слезах стала рассказывать, как ее отец, когда пожар на хуторе был потушен и бунтовщики рассеяны, отвез ее в Сончский монастырь на покаяние, как мучили ее там монахини, как морили голодом, будили среди ночи, раздевали донага и били плетьми, как‑то странно покрикивая, как терзали бесстыдными речами, издеваясь над ее любовью, и с какой радостью донесли ей об осуждении пана Костки. О, этой жестокости вынести она не могла!
Об ее мечтах выйти замуж за Костку и о коле, на который скоро его посадят, настоятельница сказала ей такие гадкие и бесстыдные слова, что какую‑то невероятную силу почувствовала в себе Беата, по простыням спустилась со второго этажа и убежала.
А когда ночью оторвалась она от трупа Костки, сидевшего на колу, – она пошла в ту сторону, куда был направлен его последний взгляд, – к Татрам. И шла, шла через леса, питаясь ягодами, не обращая внимания на диких зверей, не чувствуя ни холода, ни зноя, неутомимая, словно вели ее эти глаза. Не зная, куда идет и зачем, она шла, не колеблясь, все прямо, не разбирая дороги, и только когда застигла ее метель, она заплуталась и упала в зарослях, ожидая гибели.
Как жалела она тогда, что не бросилась в темное озеро, над которым проходила, чтобы навеки уснуть в его глубине!
Ах! И теперь она об этом жалеет, жалеет, жалеет!..
Марина стала гладить ее по голове, а она все плакала.
«Из‑за тебя»… Таковы были последние слова пана Костки. Гордость ее привела его к казни. Если бы она не оттолкнула его, как отец, как княгиня, ее тетка, как Сенявский, сын воеводы, он не убежал бы из замка Гербуртов в горе, отчаянии и гневе, не замешался бы в крестьянский бунт и не случилось бы это страшное несчастье… Все из‑за нее… Она должна была родить ему детей, а родила – смерть.
– Пан Костка хотел спасти мужиков, – сказала Марина. Она не видела в темноте, с каким недоумением остановились на ней глаза Беаты.
И Беата продолжала плакать и прижималась к Марине, целуя ее руки, обнимая колени, умоляя, чтобы Марина с братом защитили ее, чтобы не выдавали ее ни в руки Сенявского, ни в руки отца. Обещала наградить их щедро, когда после смерти отца унаследует его богатства, и укрывалась в объятиях Марины.
Открылась дверь, и Собек спросил:
– Не спите?
– Нет, – ответила Марина. – А ты, брат?
– Не могу заснуть, пока что‑нибудь не решится. Пожалуй, придется всем Топорам уходить отсюда куда глаза глядят. У одного пана Сенявского, слышал я, больше войска, чем у нас здесь мужиков в тридцати деревнях. Уйдем, как ушли зегльчане всей деревней с войтом в Венгрию от тиранства своего пана.
– Шесть тысяч войска у Сенявского, – прошептала Беата.
– Да еще удастся ли уйти, – сказал Собек.
Помолчали с минуту, и затем Марина сказала глухим, словно чужим, но твердым голосом:
– Топоры останутся в Грубом.
– Я‑то останусь наверное, только мертвый, – с серьезной и спокойной покорностью сказал Собек.
– Нет.
– Что же ты думаешь, сестра? Живого меня не уведут ни из дому, ни от вас обеих.
– Ляжем спать, – сказала Марина, – Сон – брат смерти, но отец хороших решений.
Собек снова ушел в курную избу, а когда на другой день проснулся на рассвете, Марина не стояла, как всегда, у печки и не готовила завтрак. Он ждал, но не дождался ее. Отворил дверь в горницу и увидел на постели одну Беату. Он подошел, стал около нее и зашептал:
– Как же я позволил бы кому‑нибудь взять тебя, если ты хочешь жить у нас, цветок лилии? Нет, не дождутся! Я не воевода, не князь, мне нечего думать о тебе, но никто не сможет так любить тебя и не будет так любить! Во власти твоей – кровь моя и жизнь, пташка долин, лилия моя!
Он, не сознавая, что шепчет, опустился на колени перед кроватью. Вдруг Беата проснулась и, увидев Собека, воскликнула с удивлением и страхом:
– Что такое? Что вы делаете, Собек?
– Я Марину искал… хотел помолиться, – ответил, вставая, смущенный Собек.
– Марины нет?
– Нет!..
А она, оседлавши лошадь и взяв в руки косу, рысью ехала через лес к Заборне. Она спешила: не дождавшись слуги, Сенявский, конечно, двинется к Татрам. Это надо было предупредить.
Дороги она не знала, но сломя голову домчалась до ближайшей деревни, а там мужики сказали ей, куда надо ехать.
Когда она подъехала к Заборне, было уже около полудня; она ехала медленно, потому что лошадь устала. Да и она сама была сильно утомлена долгой скачкой и тяжелыми мыслями.
Она ехала навстречу несчастью, чтобы предупредить его, не дать ему совершиться.
Она еще не знала, что будет делать, хотела только задержать нападение Сенявского на Грубое.
Она отдавала себя в его руки; хотела лечь у его ног, как порог, переступить который он не сможет. Что с нею будет, она не могла предвидеть.
Чувствовала одно: что боги ее призвали, что они вели се мстить Сенявскому за поражение отряда, который вел Собек, за кол пана Костки, за смерть деда, за разграбление дома, – мстить, хотя в сердце ее было любви столько же, сколько ненависти…
Дедилия, богиня любви, не услышала ее молитвы… У богини любви, окруженной голубями, увенчанной миртами и алыми розами, под грудью была голубая перевязь и сердце было видно, чтобы можно было убедиться, что нет в нем ничего нечистого, ни жажды мести, ни злобы. В сердце Марины все чувства были как змеи среди лилий. Она и любила и ненавидела.
Она держалась лесных дорог, чтобы не попадаться никому на глаза, и, чтобы не сбиться с пути, все время смотрела на вершину Бабьей горы, под которой лежала Заборня. Иногда встречные указывали ей дорогу. Она выдавала себя за сестру Яносика Нендзы Литмановского и говорила, что брат послал ее к Баюсу из Лещин, рыжеусому атаману, убившему панов Трояновского, Бобровницкого и Былину. Этого было достаточно. Никто не осмеливался дерзко поднять на нее глаза, и только, когда она проезжала, парии жадно поглядывали на эту красавицу.
Она приехала после полудня и заявила страже, стоящей перед корчмой, что у нее есть дело от Томека к пану.
Сенявский в это время сидел в комнате, обитой привезенными коврами, и писал стихи. Он чувствовал себя одиноким, покинутым, и сердце его было исполнено тоски и горечи. Когда слуга постучал в дверь, он едва приподнял голову, но, узнав, что девушка с косою в руке приехала верхом и остановилась перед корчмой, бросил перо, вскочил из‑за стола и выбежал на двор.
Изумился он чрезвычайно, но только в первую минуту. Он подскочил к Марине и крикнул, как в Чорштынском замке:
– Ты?
– Я, – ответила Марина с лошади.
Вокруг стояли драгуны: десятка два людей, бывших свидетелями позора, которым Марина покрыла его в Чорштыне. Бешенство охватило Сенявского. Вспыхнув, как огонь, он закричал не помня себя:
– Взять ее!
Драгуны стащили Марину с лошади, прежде чем она успела замахнуться косой.
– Раздеть! – крикнул Сенявский.
С плеч Марины сорвали полушубок.
– Донага!
Она не сопротивлялась. Несколько сильных рук держали ее; с нее сорвали платок, юбки и, наконец, рубашку. Коса расплелась, и волосы рассыпались по плечам.
Она не кричала. Смертельно бледная, смотрела в глаза Сенявскому. Ничего человеческого не было в этом взгляде.
Высокие, прямые плечи ее не дрожали под руками солдат. Она стояла голая, похожая на стройную, гибкую, крепкую ель.
Переглядывались даже привыкшие ко всему солдаты Сенявского. А он, по своему обыкновению, подбоченился и, тяжело дыша от страсти, глядел на Марину.
Марина не знала, что он с ней сделает: не бросит ли ее на потеху драгунам? И ее лазурные глаза, словно острые ножи из голубой стали, старались проникнуть в самое сердце Сенявского. Смертельный ужас овладел ею. Только глаза и зубы были ее оружием в эту минуту. Сенявский стоял и смотрел на нее.
Видывал он во время своих путешествий по Италии мраморные статуи древних богинь. И Марина напоминала ему Диану, богиню охоты, с копьем в руке преследовавшую оленя.
Расцветшая сила сочеталась в теле Марины с расцветом женственной прелести. У Сенявского задрожали губы, подбородок поднялся вперед, шея вытянулась, как у сокола, летящего за добычей, – неожиданно, словно подгоняемый силой, превосходящей все, он подскочил к девушке, обнял ее одной рукой и, крикнув драгунам «Прочь!» – голую втащил по каменным ступеням в корчму; здесь он, закрыв глаза, чтобы не видеть ее взгляда, сжал ее в объятиях. А она, чуя уже над собой власть Дедилии, богини любви, подумала, что ложится преградой между Топорами и Сенявским.
Оба долго молчали. Наконец Сенявский прошептал:
– Ты любила меня?
– Любила, – отвечала Марина.
– Зачем же ты мне противилась?
– Я не шиповник, который можно сорвать, понюхать и бросить!
– Любишь меня еще?
– А что ты сделал?
– Что хотел!
Сенявский почувствовал, как руки Марины сошлись за его спиной и впились в поясницу.
– Тебя Томек послал?
– Да. Я нашла его в лесу умирающим.
– А что с ним случилось?
– Медведица его помяла.
– Панна Гербурт у вас?
– Я бы убила и ее и тебя! – сказала Марина.
– Значит, любишь еще?
Марина не ответила, только рукою нащупала то место, где билось сердце Сенявского.
После победы под Берестечком были совершенно подавлены крестьянские бунты. Вести о повсеместных разгромах деревень, о казнях и мести со стороны шляхты приходили все чаще и были все ужаснее, а Сульницкий, злясь на Сенявского за то, что тот держит его в глухой Заборне, бесчинствовал сам и разрешал бесчинствовать солдатам. Начались пожары, насилия, убийства и грабежи; каждую ночь во многих местах горели дома, и огромное зарево стояло на небе. Этими заревами приветствовали друг друга пан Ланцкоронский, впоследствии убитый мужиками, ротмистр Циковский и Сульницкий, слуга Сенявского.
В одну из таких багровых ночей Кшись проснулся и сказал жене своей Бырке:
– Бырка, если так будет продолжаться, так и до нас дойдет.
– Дойдет! – с закоренелым бабьим пессимизмом согласилась Бырка.
– Если не переменится дело, плохо нам будет.
– Плохо!
– Надо спасаться.
– Надо!
– Руки‑то у нас есть, а головы нет, – сказал Кшись.
– То‑то и оно…
– Собек Топор – вот был мужик!
– Ага!
– Только не повезло ему под Чорштыном. Люди веру в него потеряли. И что‑то с ним неладное творится. Я его видел третьего дня. Дохлый какой‑то ходит. Да еще Маринка куда‑то пропала…
– Кажись, и лошадь взяла?
– Да.
– Ну, так нечего на Собека удивляться. Лошадь – большой убыток.
– Собек в вожаки теперь не годится. А вот я знаю другого.
– Кто же такой?
– Литмановский Яносик.
– Атаман этот?
– Он. Вот это молодец! Если и он нас не спасет, так уж больше некому! Он только ногой топнет, как у него из‑под лаптя семьсот чертей выскочит! Орел! Я к нему пойду.
– Ну что ж, иди, – сказала Бырка. Она мало что понимала, кроме горшков да чистки коровьих стойл.
Кшись собрался, поел холодной капусты, оставшейся со вчерашнего ужина, – он хоть и любил поесть, а дома у себя был бережлив и недоедал, – завернул на дорогу в тряпку кусок овсяной лепешки да сала и отправился в Закопане к Нендзам. По дороге он не пропускал ни одной корчмы, выпил в каждой, но в меру, чтобы явиться к Яносику трезвым. Боялся только, что не застанет его дома. Каково же было его удивление, когда перед избой Нендзы увидел он огромную толпу баб, мужиков и детей.
«Это что же такое? – подумал он. – Помер кто‑нибудь, что ли?»
Все переговаривались шепотом, а когда Кшись подал голос, чтобы узнать, что случилось, ему дали знак замолчать.
– Спит! Спит!
– Кто? – спросил Кшись.
– Яносик.
– Яносик? Он дома?
– Дома. Только спит.
– Болен, что ли?
– Нет. Спит.
– А чего вас тут набралась такая орда, словно на праздник?
– Мы к Яносику пришли.
Кшись протолкался к избе. На пороге стояли старики, родители Яносика, и две двоюродные сестры его, Ядвига и Кристка. Рядом на скамье сидел Саблик и тихонько бренчал одним пальцем по струнам гуслей. Какая‑то старая женщина, поглаживая мать Яносика по щеке, спросила:
– А пойдет он?
Мать отвечала с гордостью:
– Пойдет.
В эту минуту распахнулась дверь и из сеней вышел Яносик Нендза, в одной рубахе и портках, босиком. Он откинул со лба волосы и обвел толпу вопросительным, еще сонным взглядом. Мужики, бабы и дети повалились ему в ноги, крича:
– Спаси нас!
– От чего? – спокойно спросил Яносик.
– От насилий, разбоев, огня и пыток.
Женщины обнимали ноги Яносика, восклицая:
– Что есть – все отдадим тебе!
– Я полотна!
– Я корову!
– Я меду!
– Я девку! – крикнула какая‑то баба, держа за руку прекрасную семнадцатилетнюю дочь. – Невинная, атаман!
Толпа окружила Яносика, а он положил руки на головы двух женщин, в слезах стоявших перед ним на коленях, и сказал:
– Когда шел я с разбоя от Дуная в Польшу через Железные Ворота в Татрах, я видел ночь, красную от огня! От этого спасать вас?
– От этого! От этого! – закричали мужики.
– Да, да! Господь карает нас руками шляхты! За то, что мы захотели воли!
– За восстание!
– Ох, карает, карает! Хуже татар свирепствует шляхта! Жгут, головы рубят, вешают!
– Целые деревни бегут!
– Целые деревни сожжены!
– Скотина, люди, добро – все гибнет!
– Спаси нас! Спаси!
– Мы сюда к тебе, атаман, как к архангелу Михаилу прибежали!
– Под крылья твои!
– Ты уж был нашим солнцем, – будь же и мечом!
– Защити от панов!
– Святой Станислав Костка все слезы своего святого потомка собрал в мешочек и отнес их к престолу господа бога!..








