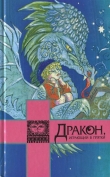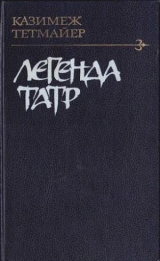
Текст книги "Легенда Татр"
Автор книги: Казимеж Пшерва
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
Поглядел на мир Саблик с горы у озера, достал из рукава гусли и заиграл. Не присел, не поел, а заиграл озеру.
Играл. И казалось ему, что вода отражает звуки его гуслей и разносит их по лесу. Резкие, стальные, веские. Отраженная водой музыка проникала в лес. Словно пчелы из улья, стоящего на солнце, летели в темную лесную чащу.
Играл Саблик и смотрел на озеро: не вызовет ли он своей музыкой из глубин таинственных громадных рыб, не зачарует ли их звуками так, что они, подняв большие белые глаза вверх, встанут среди озера? Так в далеком сказочном мире, который видится каждому как бы сквозь туман, колдуны зачаровывают змей… Но из безмолвного таинственного озера не поднялось ничего.
Поиграв, Саблик развел костер, посидел около него задумавшись и незаметно уснул.
Он проснулся от утреннего мороза; звезды еще искрились на небе, и было темно. Саблик выпил водки и отправился в путь, чтобы согреться ходьбой. День обещал быть хорошим, снег не сыпал, только утренний ветер шумел, гуляя по озеру и по сосновому лесу, набегая откуда‑то с высоты, с востока. В озере, лежавшем под ногами у Саблика, блестели звезды.
«Он» проходил ночью над озером: на мокрой овечьей тропинке виднелись следы огромных когтистых лап. Видимо, «он» почуял огонь и человека и ушел в лес, под Высокую гору, – медведь настоящий, старый и большой.
Саблик быстро пошел по левой стороне озера, все еще высматривая в нем крупную рыбу, и стал подниматься по скользкой траве к Менгушовскому Верху.
В воздухе парил огромный коршун, последний из своего поколения, обитавший на самой верхушке Криваня. Он виден был далеко, одинокий над пропастью. Когда Саблик остановился на скале, из‑за Семи Гранатов взвились ракеты солнечных лучей и повисли над темными водами двух озер внизу: одно, спокойное, лежало в раме деревьев и кустов, другое – среди литых черных скал, в котловине. Оно словно спрашивало: «Что ты знаешь?»
Светало. Окрестности понемногу выступали из сумрака. Вершины уже озарились светом, лучистым и серебряно‑розовым, и на воды, где недавно дрожали звезды, сходил голубой день.
Вода стала светлеть, сумрак сползал с нее. Светало.
Саблик стоял и смотрел. С юго‑востока медленно ползли тучи, предвещавшие снег. Вдруг раздался крик дикого козла. В Саблике заиграла кровь. Он напряг зрение. Неподалеку стоял на скале большой черный козел. Он смотрел вниз и Саблика еще не увидел.
Саблик быстро сбросил тулуп, вывернул его наизнанку, черной шерстью вверх, и, накинув его на себя, опустился на четвереньки и стал изображать козу, которая пасется в горах, переходя с места на место, а лук он держал наготове под мышкой.
Козел заметил его и сделал скачок вперед, потом другой, третий, наконец остановился на утесе, прямо над Сабликом.
– Далеко ты, а все же придешь сюда, – прошептал Саблик, сжимая лук.
Козел стоял на краю и смотрел вниз, порой он бил передними ногами, нетерпеливо и сильно, и кивал головой с кривыми, расходящимися рогами. Но, почуяв человека или увидев его, он пронзительно свистнул и бросился в горы, делая огромные прыжки.
Потом опять остановился на скале и зафыркал протяжно, глядя на Саблика.
– Узнал, шельмец! – прошептал Саблик, одеваясь. – Не дал себя провести.
Саблик выпрямился. Тогда козел отчаянными прыжками стал подниматься вверх и скоро зачернел на снегу. Потом опять остановился, повернул голову назад и стал смотреть на Саблика.
– Любопытный, бестия!.. Время у него есть, вот и глазеет.
Козел долго смотрел, потом, как мышь, побежал по отвесной скале и скрылся где‑то в расселине, невидной издали.
Вскоре Саблик увидел слева козу, высоко в горах над собой. Он всмотрелся пристальнее. Там стадо из семи голов мчалось вправо, к вершинам.
«Посчастливилось мне, – по привычке сказал он сам себе. – Чувствую, что бог меня сегодня наградит».
Однако над пропастями идти за козами было невозможно.
Саблик надеялся, что они сойдут вниз над Гинчовым озером, в южную, более теплую долину, среди громадных скал и котловин.
Между тем он заметил, что со скал и утесов точно сползают белые потоки муки, а местами распускались над ними белые павлиньи хвосты из сверкающей пыли: это снег сыпался вниз или взлетал на воздух, когда его поднимал ветер.
– Ну и ладно, – прошептал Саблик и стал карабкаться дальше, порой пробираясь над самой пропастью у отвесной горы. Вышел наконец к перевалу и посмотрел вдаль, на ту сторону Татр.
Долина над Гинчовым озером была окутана мглою. Внизу лежало недвижное темно‑серое море густого, непроницаемого тумана.
Вокруг него громоздились мрачные горы, неуловимые, жестокие и страшные, головокружительно высокие, как чудовищный котел, наполненный туманом.
Весь край липтовский застилали светло‑синие непроницаемые тучи. Ветер дул с юго‑востока. Этого Саблик не ожидал.
Он поколебался: не спуститься ли вниз, к Липтову, или вернуться в Польшу и не искушать судьбу? Все предвещало метель.
«Ну, да не погибну же я из‑за метели! – подумал он, – Только придется пониже сойти, как сошли козы».
Вдруг ветер подул с такой силой, что Саблик пошатнулся. Нарастал шум. Всколыхнулась мгла над долиной и стала рассеиваться.
Тогда глазам Саблика под сводом туч открылась черная бездна, среди которой, точно под чудовищным балдахином, виднелось Гинчово озеро и окружающие его обрывы.
Саблик смотрел и колебался. Не хотелось ему возвращаться. Он привык к непогодам. Может быть, ветер развеет мглу? И это бывало. А ветер с бешеной быстротой разгонял туман над Липтовской долиной. Он гнал тучи и раскрывал все более широкие, все более далекие горизонты, города и деревни, лежащие в бесконечной дали, под нависшей мглой.
Вдруг с Высокой горы из‑за скал, откуда‑то со стороны Герляха, поднялось темное облако, завыл ветер, и пошел снег. Все скрылось из глаз.
Саблик посмотрел в сторону Польши.
Там было светло, и Рыбье озеро сверкало на солнце; казалось, горы, золотисто‑синие от бури, разрезали мир на две части.
Саблик постоял над скалой, укрываясь от метели, но вдруг повернулся и стал спускаться вниз. Резкий холод пронизывал его.
А туча бежала за ним, догнала и засыпала снегом, закрыв все перед его глазами почти черною пеленой.
Где‑то вдали сверкало сквозь вьюгу солнце, появлялись и исчезали большие пятна режущего глаза света.
– Все заволокло! Рассердился бог… Ишь беснуется!
Все было ему знакомо: дожди, ливни, бури, грозы, вихри, вьюги, метели, непроглядные туманы. Все это он переносил тысячи раз, – больше полувека ходил он по Татрам, борясь с божьими напастями. И не боялся их. Человек все выдержит, на то ум у него есть.
А снег сыпал большими хлопьями, залепляя глаза и рот, ветер с воем носил его среди высоких черных стен горной пустыни. Саблик погружался в ночь.
Невыразимо зловещая тьма заполнила все пространство. Казалось, будто лавины снега завалили землю от края и до края, точно какая‑то чуждая, враждебная стихия победила мир и всякая надежда исчезает в ней, всякое упование.
Тяжесть валится на плечи и давит голову, глаза гневно напрягаются, встревоженные и бессильные, как застигнутые бурей ласточки во время перелета над морем.
«Будь я орел, – думал Саблик, – я бы поднялся высоко над снегом…»
Вдруг он заметил у себя под ногами отвесную скалу. Он не узнавал места.
Повернул налево – и увидел пропасть, справа – то же самое.
«Что за черт, куда я забрался?»
Он отступил назад, но вокруг были только обрывы.
– Сбился я! – пробормотал он. – В плохие места забрел.
Он остановился и попробовал припомнить дорогу, но, должно быть, он плутал уже некоторое время.
«А повернуть обратно слишком трудно…»
«Да и тут остаться духу не хватит…»
«Здорово снегом все замело… скользко… как бы не съехать…»
Его охватило беспокойство.
Он ухватился руками за выступ над собой и, едва найдя место, где можно поставить ногу, стал забираться под навес скалы, откуда старался его столкнуть ветер.
Тогда Саблик скрипнул зубами, напрягся весь, широко раскрыл глаза, несмотря на снег, и, втянув голову в плечи, стал бороться с вихрем.
– Валяй, валяй! – шептал он, жуя губами мокрый снег. – Валяй! Думаешь, я старик? Хочется тебе меня сбросить?
А ветер отталкивал его от скалы, отрывал, тащил вниз, бил его широкой грудью своей.
Вдруг Саблик повернулся немного в сторону, обхватил руками выступ над головой, поднялся и повис в воздухе.
Ветер качал его, швырял вправо и влево. Но Саблик, стиснув зубы, поднимался на руках над пропастью и взобрался‑таки на выступ.
Он хотел подняться еще выше, на самый перевал, на седло, там переждать метель или спуститься в долину по пологому южному склону.
Лежа животом на граните, он полез наверх, грудью, коленями и подбородком прижимаясь к скале. Он извивался, как змея, и полз, цепляясь за наполовину висевшие в воздухе выступы и щели, полз по наклонным скалам, держась только на руках и ногами болтая в воздухе над страшной пропастью. Он боролся.
Боролся за жизнь не из страха. Великий охотник не знал страха. Но ветер – стихия природы – вступил с ним в единоборство, загородил ему дорогу снегом, мглою и всеми силами ада. Ветер налетел на него, как орел на горного козла. Тот, надеясь на свои силы, подставляет рога свои под орлиную грудь. И Саблик злой силе ветра противопоставлял свое упорство, его ярости – свою смелость. Он его не испугался. Он часто боролся с этим владыкой Татр, никогда не уступал ему, никогда не отступал перед ним, всегда побеждал его и смотрел с высоты гор, как он налетал тучами на долины, ломал леса и рушил дома. Саблик шел охотиться и не знал страха. Ветер ли, медведь ли – все это больше полувека склонялось к его ногам. Саблик бросался на медведя, как дикий кабан, на ветер – как лосось, прыгающий через каменные пороги.
Ветер хлестал сухое, увядшее тело охотника, точно хотел разрушить его, но твердые, железные мускулы и кости сопротивлялись с неутомимой силой.
Татры выли, гудели, свистели. В мире бушевал ураган… Ветер как будто не знал, куда ему деваться, шумел по скалам, то взлетал вверх, то падал вниз, как волна, которая с грохотом катит вниз камни. Но Саблик не трепетал в этом снежном аду. Он боролся.
И выбрался на перевал.
– Ишь ты, дьявол! – сказал он ветру. – Не поддался я тебе. Я еще не твой!
Ветер с юга был слабее, дорога легкая. Саблик среди метели спускался вниз. Он добрался до кустарников, но чувствовал, что сильно ослабел.
«Совсем замучился, думал, придется зубами хвататься за скалы…»
Он лег на ветвях: сил у него не было, он не мог шевельнуться.
Он спал.
Наступил уже второй день, когда он увидал над собой ясное, чистое, чудесное, лучистое, синее небо и высоко стоящее солнце. Неподалеку, несколько ниже, сверкало огромное зеленое Гинчово озеро. За ним высились горы, светлые и спокойные.
А кругом лежал снег. Мягкий, пушистый, блестящий, такой обильный снег, что скалы, кусты, деревья тонули в нем; если бы кустарник, на котором улегся Саблик, не рос на утесе – этот снег занес бы и Саблика… Но отсюда сметал его ветер.
Кругом стояли спокойные, молчаливые, резко очерченные, сверкающие, как серебро, горы.
Искрился и лед, осыпанный снегом.
Татры…
Саблик лежал на спине и глядел на них.
Неужели это они, те самые?
Неужели это те горы, которые он исходил вдоль и поперек, у которых не было от него тайн, которые не ставили преград его силе?
Неужели это те горы, чьи высокие хребты, главы и плечи попирал он гордой стопой?
Неужели это те горы, которые были его гигантскими хоромами, чьи крутые склоны были стенами его дома?
Неужели это те горы, которые кормили его, покорялись его воле, которые служили ему и, казалось, понимали его, угадывали его мысли?
Неужели это они, вечные свидетели его побед, его успехов, его радости и славы?
Неужели это те горы, которые полвека наполнял он своим именем, в которых, казалось, навеки застыли отзвуки его выстрелов, свист стрел и удары страшного топора? Горы, которые видели его подвиги, знали такие дела его, каких не знал никто?
Неужели это те горы, с которыми он заключил как бы вечный союз, владыкой и сыном которых он себя чувствовал?
Неужели это те самые горы, родные его Татры, которые он любил больше своего хозяйства, больше семьи, больше родного дома и всех людей вокруг, те горы, которые были мыслью его и душой?
Те горы, в которых он жил, как никто никогда не жил и жить не будет, сколько бы ни прошло веков?
Неужели это те самые горы, с которыми связан он был магической силой? Его гигантский дом, страна его свободы и славы, страна и дом, где прожил он годы, долгие, светлые годы?
Саблик знал, что нет для него спасения, что больше из Татр он не выйдет…
Впервые они ничего ему не давали: ни радости, ни добычи, ни упоения, ни славы – ничего…
Впервые он увидел, какие они страшные, мертвые.
Впервые глядели они на него безмолвно, каменными очами.
Впервые казались ему чуждыми и необжитыми…
Ужас. Глушь. Молчание. И этот разящий свет…
Саблик знал, что, вставши с кустарника, он с головой провалится в снег, в мягкий, глубокий, непроходимый снег.
Горы погребли его в себе.
Обрывистые, литые, безмерно высокие, сверкающие скалы окружали его, как спокойные коршуны подстреленного оленя, и ждали, когда жизнь оставит его.
Из углов долины, из серебристого, сверкающего снега глядели на него души убитых липтовских охотников и медведей…
И души польских охотников, засыпанных лавинами, сорвавшихся с вершины, убитых липтовскими пулями…
Веселые поляны, на которых играл он…
Он играл пастухам, красивым девушкам и старым, суровым бацам…
Цветущие лужайки над весенними потоками, где пил он воду среди желтых лилий и ржавого щавеля…
Затерянный, как мотылек, залетевший в неведомую глушь…
Тихие, уединенные места отдыха на склонах, где под ногами у него бывала пропасть, а над головой, над мягкой травою – тень скал…
Каменные охотничьи постели, где во мраке ткались золотые нити его чудесных сказов…
Гусли звенят…
Это его гусли. Силою волшебства вышли из скал все те звуки, которые целых полвека вбирали скалы в себя.
Гусли играют.
Саблик слушает.
Эх, запел разбойничек,
А Кривань ответил:
«Кому еще ведомы
Сабликовы думы?..»
Горы возвращают ему его песню.
Что сыграл он им, то звучит теперь вкруг него.
Казалось, весь снег вокруг него зазвенел…
Саблик слушает.
Лежит он на смертном своем одре, на поросли сосновой.
Обессиленный, разбитый борьбою с ветром, занесенный непроходимым снегом, лежит он на смертном одре.
Ничто не тревожит его, не пугает.
С начала жизни своей он знал, что умрет, что должен настать такой день, когда он умрет.
Он умирает почетной смертью, достойной его жизни.
Он не станет пытаться спастись: он знает, что это тщетно.
Он знает горы, знает законы их.
Занесло его. Это бывает. Бывало и раньше.
Весело ему, что где‑то в воздухе играют гусли…
Знает он эту песню, Сабликову песню, которая в веках началась и никогда не отзвучит.
По долине, покрытой снегом, залитой солнцем, по широкой Менгушовецкой долине, над Гинчовым озером, полным невыразимой красоты, идет смерть…
Белая… Высокая…
Идет по белым снегам, меж зарослей, между валунами…
Идет медленно и слушает песню Саблика.
А Саблик видит ее, глядит на нее не моргая.
Так тому и быть. С господом богом не поспоришь, у смерти ничего не выплачешь.
Так уж устроен мир.
Обо всем надо подумать.
Коротка жизнь.
А уж коли помирать, так помирать.
1910–1911
Певец Подгалья
Эта проза написана поэтом и переведена поэтом.
Сначала – об авторе «Легенды Татр».
В истории европейской культуры выделяется особая эпоха, которую именуют «fin de siecle» – «конец века». То была кризисная эпоха заката прошлого столетия, эпоха упадочных настроений в искусстве и в философии, порожденных грандиозными разочарованиями в окружающей действительности и тревожными предчувствиями социальных потрясений. Одним из наиболее ярких выразителей таких настроений в польской поэзии рубежа XIX–XX веков стал Казимеж Пшерва‑Тетмайер (1865–1940).
Он родился в деревне Людзимеж (она упоминается в «Легенде Татр»), раскинувшейся над Черным Дунайцем в той местности, которая чашей легла средь карпатских хребтов и зовется Подгалье. Здесь, в предгорьях Татр, прошло его детство, овеянное красотой окрестных пейзажей, суровостью природы и своеобразием местного быта, фольклора. Происходил Тетмайер из обедневшей шляхты. Отец его участвовал в польском восстании 1830–1831 годов. Утратив родовое имение, семья Тетмайеров вместе с детьми перебралась в Краков, где Казимеж поступил на философский факультет Ягелдонского университета (позже учился также в Гейдельберге). Еще в студенческие годы начал он писать стихи и заниматься журналистикой. В 1886 году впервые появляются в печати его произведения – поэма «Illa» («Она») и новелла «Рекрут». Но настоящий дебют Тетмайера состоялся спустя пять лет, когда вышел первый томик его лирики. Назывался он подчеркнуто просто – «Поэзия», и это же непритязательное название стояло на обложках семи последующих сборников автора, с той лишь разницей, что добавлялся порядковый номер выпуска.
Уже после опубликования первых трех из них (соответственно в 1891, 1894 и 1898 годах) имя автора делается необычайно популярным, его провозглашают властителем сердец и дум, лидером «Молодой Польши». Под таким именем получило известность новое – преимущественно модернистское по своей сути – направление в польской литературе, сформировавшееся на переломе веков. «Молодая Польша» не была организационно сплоченной группой, не имела четкой идейно‑художественной программы. В нее входили поэты и прозаики с весьма разными убеждениями и эстетическими взглядами. Если у одних (к примеру, у Станислава Пшибышевского и Зенона Пшесмыцкого‑Мириама) преобладали откровенно декадентские тенденции, то творческая палитра других вобрала немало красок и оттенков, взятых из самой жизни.
К числу последних принадлежал и Казимеж Тетмайер. В его поэзии тоже отчетливо слышны индивидуалистические нотки, тоска и неверие в возможности человека, мечта о бегстве от гнетущей действительности путем погружения в нирвану или в волшебный мир искусства. Но сквозь модернистское бунтарство ясно просматривается не модная поза, а истинно трагическое мировосприятие поэта, чья душа страждет из‑за «свинцовых мерзостей» бытия, находя себе утешение лишь в слиянии с природой или в восторгах любви.
Пейзажная лирика его, умеющая запечатлеть даже мелькнувшие блики на склонах гор, игру теней или шорохи бора, насквозь импрессионистична, а любовная, как казалось многим современникам, – «язычески» смела и непозволительно откровенна. Однако и та и другая были вызовом мещанскому самодовольству, духовной ограниченности и ханжеству, попыткой защиты от них. Чаруя музыкальностью стиха (на его тексты сочиняли романсы и песни лучшие композиторы того времени, включая Мечислава Карловича и Кароля Шимановского), покоряя читателей силой темперамента и неподдельной свежестью чувства, Тетмайер добился широчайшего признания. Однако, как подчеркивает крупнейший польский литературовед, профессор Ю. Кшижановский, этого признания поэт достиг «не только благодаря виртуозному владению словом, но главным образом благодаря тому, что в его творчестве нашли совершенное выражение проблемы, которые живо интересовали ту эпоху». Он «без догмата» подходил к этим проблемам и мучился всеми «проклятыми вопросами», которые ставил перед его поколением уходящий, как почва из‑под ног, XIX век и которые заострял приближавшийся железной поступью век XX:
Что ж остается нам от времени былого?
Все веры рухнули; столетье истекло…
Где твой надежный щит? Чем ты поборешь зло,
премудрый человек?.. Но он в ответ – ни слова.
(Перевод А. Штейнберга)
Бурные события 1905 года породили было иные, революционные мотивы в творчестве Тетмайера (стихотворение «Баррикада», драма «Революция», 1906), но они не стали для него определяющими.
О духовных исканиях Тетмайера «посередине странствия земного» определенное представление дает известная драма Станислава Выспянского «Свадьба» (1901). Импульсом к ее созданию послужило действительное событие, на котором присутствовал автор пьесы, – бракосочетание поэта Люциана Рыдля с крестьянкой. Три дня и три ночи праздновали свадьбу в доме литератора и художника Влодзимежа Тетмайера, старшего брата Казимежа. Казимеж Тетмайер выведен в драме под именем Поэта. Вначале это томный лирик, находящий упоение в «искусстве для искусства» и светской болтовне с паненками, скрывающий под маской меланхолии свою затаенную боль: «Больно мне. И этой болью я живу. И вот невольно думаю: в страданьях сила, боль и мне ее дала». Но на свадьбе, где происходит много чудесного, Поэту является вдруг видение Завиши Чарного (об этом доблестном польском рыцаре, участнике битвы при Грюнвальде, Тетмайер написал трагедию, поставленную в Краковском театре). Закованный в броню воин призывает следовать заветам предков и бесстрашно сражаться за благо отчизны. Видение исчезает, но Поэт отныне убежден: «Должны на щите начертать мы слово великое: Польша, и помнить – есть дело святое; все мелкое, подлое, злое нас не должно волновать». Вместе с тем он сознает: «Живу я в тумане, в тревоге, а глупость и подлость вокруг, как псы, мне впиваются в ноги, впиваются в кисти рук». Теперь Поэт, у которого растет уверенность в собственных силах, хочет воспарить к высям искусства во имя жертвенного служения Польше, но чувствует, как отяжелели от чужих слез его крылья и как кто‑то неведомый вяжет их ему жгутом, мешая оторваться от земли.
Это место в драме Выспянского вызывает в памяти строки бодлеровского «Альбатроса», с которым перекликается также стихотворение Тетмайера «Орлан». У Бодлера поэт уподоблен альбатросу, что царит в небе, но, пойманный и брошенный на палубу, он бессилен, ибо исполинские крылья мешают ему ходить в толпе, средь шиканья глупцов. У Тетмайера дан не менее впечатляющий образ орлана белохвостого, который попал в неволю с перебитым пулею крылом, заточен в грязную, тесную клетку и теперь застыл там, словно в летаргии, не обращая внимания на толпу зевак:
Люди злятся; им кажется глупым и странным
неподвижный затворник, на них непохожий,
и хоть прутья трясут, – не под силу им все же
разогнать полусон, завладевший орланом.
Снится клекот ему оглушительно громкий,
снятся бури, охоты, леса, океаны…
Что ж в тюрьме тебе снится, орлан балаганный,
за решеткой, на крохотном скальном обломке?
(Перевод А. Штейнберга)
Такой могучей нездешней птицей, томящейся в темнице низкой жизни, ощущал себя, вероятно, порой Казимеж Тетмайер. И тогда мысли его улетали в тот край, где он изведал счастье, в страну родимых гор, которой поэт посылал свой тысячекратный привет и куда стремился измученной душой.
Трудно назвать художника с судьбой более трагической, чем у Тетмайера. Он был рано увенчан громкой славой, но творческая биография его оборвалась намного раньше, чем физическое существование. Подмятый неизлечимым недугом, последние два десятилетия он был лишен возможности заниматься литературным трудом, под конец жизни ослеп. Приютил поэта, предоставив комнату и полный пансион, один из преданных поклонников его таланта, владевший гостиницей. Но оттуда Тетмайер был выдворен после вторжения гитлеровцев в Польшу и угас в январе 1940 года в варшавской лечебнице.
Словно предчувствуя фатальный исход своей жизни, в отпущенные ему годы творческой активности поэт трудился истово и самозабвенно. Наследие его весьма обширно: помимо стихов и драм (к уже упомянутым «Завише Чарному» и «Революции» в 1917 году добавилась трагедия «Иуда» на библейский сюжет) оно включает в себя множество прозаических произведений. Среди них можно назвать романный цикл «Ангел смерти» (1898), «Панна Мери» (1901) и «Гибель» (1905) из жизни тогдашней художественной среды; романы «Король Анджей» (1908) и «Игра волн» (1911); сатирическое повествование «Роман панны Опольской с паном Глувняком» (1912) и обширное историческое полотно «Конец эпопеи» (1913–1917) о наполеоновских войнах, – все они, впрочем, не имели такого успеха, как стихи.
Подобно тому как Татры представляют собой наиболее высокий горный массив в Карпатах, венчая их короной, так татранская тема образует тот «массив» в творчестве Казимежа Тетмайера, с которым связаны его наивысшие достижения. Именно в этом массиве сосредоточены «пики» тетмайеровской поэзии и прозы. Татранские мотивы возникли уже в первом сборнике его стихов и получили мощное воплощение в цикле рассказов «На Скалистом Подгалье» (1903–1910), по которым писатель как бы восходил к роману «Легенда Татр» (1910–1911) – своей «главной книге».
Над Вислой вихорь озорной
поднялся на крыло
и мчится к Татрам, в край родной,
в далекое село.
Лети же, вешний, по прямой,
минуя рубежи,
и пенному Дунайцу мой
привет перескажи!
(Перевод А. Штейнберга)–
писал Тетмайер в одном из стихотворений. Впечатления детства постоянно оживали в его памяти и горным эхом отдавались в творчестве. В ту пору многими поэтами и художниками татранский край воспринимался как некая «польская Аркадия» – идиллическая патриархальная страна, где на людей нисходит умиротворенность. Так рисовались эти живописные места тем, кто имел о них представление, полученное в основном за благостные месяцы, проведенные летом в курортном Закопане.
В противоположность этому Тетмайер, уроженец Подгалья, с младенчества впитал самобытную гуральскую культуру, с которой был знаком изнутри, в ее естественном виде, а не только по лубочным картинкам, «нарисованным на стекле». И его навсегда очаровал, став неиссякаемым источником вдохновения, «сказочный мир Татр» (так он назвал книгу очерков, появившуюся в 1906 году).
В зрелые годы Тетмайер продолжил основательное изучение языка, обычаев, поверий и фольклора подгальских горцев, среди которых чувствовал себя в родной стихии, а не заезжим туристом. Это дало ему возможность глубоко проникнуть в характер своих героев, ощутить всю прелесть специфического гуральского говора и поэтичных сказаний, воссоздать их в живой форме, без искусственной манерности стиля и поверхностного этнографизма. Недаром взыскательный критик‑эрудит Тадеуш Бой‑Желенский в статье‑некрологе отметил, что несомненным вкладом Тетмайера в искусство польского слова наряду с несколькими десятками кристально прекрасных стихотворений останется также его «гранитное «Скалистое Подгалье», которое победно устоит перед всеми сменами литературных эпох и вкусов».
Справедливость этого прогноза подтвердил позже выдающийся лингвист академик Тадеуш Лер‑Сплавинский, констатировавший в капитальном труде «Польский язык. Происхождение, возникновение, развитие», что «Скалистое Подгалье», по его мнению, «не имеет себе равных в литературе и по восприятию и пониманию природы Подгалья, души его жителей, и по овладению тем языком, которым выражает себя эта душа». «Стилизация Тетмайера, – заключал ученый, – отличается большим чувством меры и мастерством в применении диалектного материала, при помощи которого он разнообразит и подчеркивает местный колорит рассказов…»
Пять томов рассказов, составляющих цикл «На Скалистом Подгалье», с одной стороны, и развитие яношиковской темы в его поэзии, с другой стороны, вплотную подвели Казимежа Тетмайера к созданию «Легенды Татр».
Татры расположены на границе между Польшей и Чехословакией, и с давних пор горы эти не только разделяли территорию, но и сближали культуру родственных славянских народов. Вот почему в песнях и преданиях польских гуралей, которые с детства запали в душу Тетмайеру, слышны отзвуки словацкого фольклора о благородном разбойнике Яношике. Юрай Яношик (1688–1713) – фигура историческая. В 1707–1708 годах он участвовал в антигабсбургском восстании князя Ференца Ракоци, позже стал атаманом «горных хлопцев» и окончил свои дни на виселице в Липтовском Микулаше.
Можно убить человека, но нельзя убить легенду о нем. А вокруг Яношика и его отважной дружины сложились легенды, в которых народ воплотил свои мечты о свободе и избавлении от феодального бесправия. В песнях, балладах и сказках предстает этот словацкий Робин Гуд надежным защитником простого люда, он отбирает неправедно нажитое добро и деньги у богатых, раздает все бедным. Народная фантазия наделила его самыми привлекательными чертами, дала в руки волшебный топорик‑валашку, в котором таилась сила сотни бойцов, обвила стан волшебным поясом, делающим неуязвимым, – так что одолеть атамана враги сумели лишь с помощью хитрости и коварства.
Яношик пленил воображение Казимежа Тетмайера, решившего перенести этот собирательный образ на польскую почву, где имя предводителя «горных хлопцев» стало произноситься как Яносик. Уже в первом его сборнике стихов появилась «Песнь о Ясеке‑разбойнике», а во второе издание того же сборника (1900) была включена «Смерть Яносика» – переложение поэмы словака Йонаша Заборского. О хорошем знакомстве Тетмайера со словацкой литературой, посвященной полюбившемуся ему герою, свидетельствует и очерк о Яносике, помещенный в книге «Сказочный мир Татр». Наконец, в его пятой поэтической тетради (1905) был напечатан цикл баллад о Яносике. Так постепенно в творческом сознании художника складывался тот образ великодушного и отчаянного разбойничьего «гетмана» Яносика Нендзы Литмановского, который был воплощен им на страницах «Легенды Татр».
Книга эта буквально пропитана поэзией – поэзией чувств и поэзией красоты татранского фольклора, красоты татранской природы, пластичность описаний которой у Тетмайера, как считает польская критика, достигает порой высот мицкевичевского «Пана Тадеуша». Если бы романы, как пьесы, предваряли списком действующих лиц, то в «Легенде Татр» на одно из первых мест следовало бы поставить природу. Ибо она выступает здесь не в виде условного театрального фона или мимолетных зарисовок, а в качестве живой основополагающей стихии. То ласковая и щедрая, то враждебная и неумолимо жестокая, но величественная во всех своих проявлениях, стихия эта играет важнейшую роль в творимой писателем легенде, и в соприкосновении с нею полнее раскрывают душу герои. Нерасторжимую связь с природой ощущает и тот, кто лишь вступает в жизнь, и тот, кто уже прощается с нею, – символичны в этом отношении сцены, которые обрамляют роман: неизъяснимое волнение девушки‑ребенка, когда ей впервые довелось погрузить взор в бездонную глубину Черного озера, и спокойное подчинение старого Саблика вековечному закону гор перед ликом приближающейся смерти.
«Легенда Татр» состоит из двух частей, и названы они по именам центральных персонажей – Марины из Грубого и Яносика Нендзы Литмановского. При создании этих образов, несомненно, сказались неоромантические тенденции, присущие всему творчеству Казимежа Тетмайера. Образы эти как бы приподняты над остальными, над повседневностью, и неординарность их подчеркивается той добровольной романтической смертью, которую избирает каждый из них.