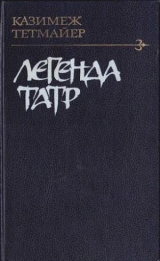
Текст книги "Легенда Татр"
Автор книги: Казимеж Пшерва
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Весть о том, что Костку поймали, что драгуны везли его и Краков «с обнаженными саблями», волной прокатилась по всей горной округе. Бабы и дети плакали о «молодом полковнике», жены обнимали мужей, матери – сыновей, сестры – братьев, девушки – возлюбленных, умоляя их идти на защиту Костки. Костка на допросе заявил, что он королевский сын, и весть об этом подлила масла в огонь. Старые мужики еще помнили большие войны при Сигизмунде III и Владиславе IV, сражались при них с турками и русскими, помнили междоусобия и мятежи шляхты, унижение королей и в душе сохранили преданность королевскому дому, почтение к королевской крови. Потому‑то и были стянуты к месту казни «все военные силы воеводства» – целых одиннадцать эскадронов.
Беата Гербурт заключена была отцом на покаяние в монастырь св. Клары в Новом Сонче. Услышав, что Костку должны посадить на кол, она спустилась ночью на связанных простынях со стены и побежала, как безумная, в монашеской одежде, в которую ее облекли. Она бежала по большой дороге, ведущей к Кракову. На нее кидались собаки, рвали ее одежду, и она отгоняла их аметистовыми четками.
Бежала она всю ночь, с единственной мыслью спасти Костку, но к утру силы ее иссякли, и она уже шаталась от изнеможения. Вдруг она увидела невдалеке, среди поля, дым и огонь. Чувствуя, что все равно упадет и не сможет израненными ногами идти дальше, она направилась к этому огню.
Случаю было угодно, чтобы здесь расположился на отдых отряд Сенявского, шедший из‑под Чорштына на усмирение крестьян.
Сенявский еще ни с кем не говорил ни слова; он ехал впереди и искал крестьянских отрядов, которые бродили по окрестностям и рассеивались при приближении его драгун.
В стороне от солдат, у отдельного костра, на груде попон, покрытых ковром, лежал Сенявский. Он дремал, когда к нему подбежала Беата Гербурт.
– Всякое дыхание да хвалит господа! – воскликнул он, открывая глаза.
– Аминь! – ответила Беата. И в этот миг они узнали друг друга.
– Вы здесь? В этой одежде? Одна, пешком? – говорил пораженный Сенявский.
– Я бегу спасать пана Костку! Его должны посадить на кол в Кракове!
Сенявский соскочил со своего ложа. Злые огоньки сверкнули в его глазах. Он приставил к губам рожок и затрубил тревогу. Мигом сбежались проснувшиеся уже драгуны.
– Лошадь! Без седла! – крикнул он.
Драгуны, услышав приказ, тотчас привели верховую лошадь. С недоумением поглядывали они на панну.
– Вот лошадь, панна Беата. Простите, дамского седла у нас нет, – сказал Сенявский.
– Куда? – спросила Беата.
– Отбивать Костку, – странным голосом ответил Сенявский.
Беата припала губами к его руке. Рыцарски отстранил ее Сенявский, посадил на лошадь, накинул ей на плечи свою бурку, вскочил на своего жеребца, дал ему шпоры и крикнул: «Вперед!» Они помчались, как вихрь. Все это произошло так быстро, что только теперь, на всем скаку, солдаты имели время удивляться и недоумевать. Скоро Ланцкоронские леса остались позади.
Никто не препятствовал совершению казни. На большой телеге, окруженной стражей, с обнаженными саблями, провезли осужденных через Страдом, Казимеж, по мосту – за Вислу. Стоял дождливый и сырой день, то облачный, то сверкающий солнцем.
Костка ехал бледный, как мертвец, сжав губы, с таким холодным и суровым выражением, что мороз пробегал по коже у тех, на кого он смотрел. А он все время смотрел на людей, поворачиваясь то вправо, то влево. Хотел ли он наглядеться на них в последний раз, или искал кого? Он сидел, выпрямившись, не делая ни одного движения. Только время от времени горбился, съеживался, и смертельный ужас мелькал в его лице, мука и отчаяние клонили его голову, – но он снова выпрямлялся и стоял, холодный и суровый.
Радоцкий устремил глаза вдаль, словно вокруг ничего не было. Лентовский выпил в тюрьме кружку вина и ехал умирать с полным равнодушием: так или иначе – от смерти не уйдешь.
Вдруг сквозь туман увидел Костка виселицу и под ней кол.
В один миг голова его ушла в плечи, подбородок уперся и грудь, глаза остекленели, на лбу выступил пот, – и он весь затрясся от рыданий. Невыразимый ужас отразился им лице. Но это продолжалось недолго. Он овладел собой, но поднял, а вскинул голову, выпрямился – и показал всем такое спокойное, застывшее, упрямое лицо, как будто смерть, навстречу которой он шел, для него была желанной.
Подъехали к эшафоту. Осужденных высадили из телег.
Рядом с палачом стоял его помощник; у одного в руке был тяжелый меч, другой стоял около кола с железным острием. Тут же была приготовлена плаха.
Член городского магистрата среди гробового молчания толпы и солдат стал читать приговор. Осужденные выслушали его спокойно.
Потом подвели к плахе Мартина Радоцкого; у него, как и у Лентовского, руки были связаны за спиной.
Два помощника палача поставили Радоцкого на колени, обнажили его шею. Радоцкий молчал. Глаза его были подняты к небу.
И только уже став на колени, он вздохнул и громким голосом воскликнул:
– Да приидет царствие твое!
Тяжелый меч упал, голова покатилась среди потока крови, брызнувшей из артерий.
Тогда палач поднял ее за длинные седые волосы; изо рта лилась еще кровь и глаза моргали. Палач гвоздями стал прибивать ее к виселице.
Ропот ужаса пронесся в толпе.
Следующим к плахе подвели Лентовского.
Он только сказал:
– Если уж так угодно было господу богу…
Потом стал на колени, и голова его была отрублена. Огромное тело, раздетое донага, палач разрубил мечом на четыре части.
Костка, не моргнув глазом, смотрел на казни. В лице его не было ни кровинки. Он не дрожал, только качался взад и вперед, не отдавая себе отчета в этих движениях.
Иногда он обращал лицо в сторону Татр: помощь не пришла.
– В час смерти своей скажи свое настоящее имя, – произнес судья.
– Шимон Бзовский, сын короля Владислава, – тихо, но явственно произнес Костка.
Ему ответил ропот сочувствия, горя, издевательства, ненависти, ожесточения и жалости.
Палач велел Костке лечь на землю.
Он лег.
Два помощника палача стали около него на колени так, что каждый из них одной рукой оттягивал к себе его ногу, а другой прижимал к земле плечо.
Тогда палач поднял заостренный кол и ударил что было силы.
Костка застонал. Послышался истерический плач и смех женщин.
Кол не входил в нутро как следует.
Среди криков, проклятий, брани, рыданий и пронзительного свиста толпы палач дрожащими руками другой и третий раз всадил его в тело Костки; пот струился по его лицу; он весь дрожал. Из груди Костки вырывались нечеловеческие вопли.
Наконец палач разорвал тело его, как следовало: острие вошло во внутренности.
Тогда помощники палача подняли кол, весь красный от крови, лившейся из‑под живота Костки, и врыли его в заранее приготовленную яму.
Толпа увидела над собой мертвенное, но живое лицо Костки, с глазами, которые то открывались, то закрывались. Голос его, по‑видимому, замер в груди от боли.
Вдруг толпа заколыхалась и начала расступаться: ужасный, пронзительный женский крик пронесся по воздуху, из толпы показались фыркающие лошадиные морды, и к месту казни подскакали покрытые пылью Сенявский в полном вооружении, Беата Гербурт в бурке Сенявского и следом за ними – Сульницкий.
Беата сдержала лошадь и застыла в полной неподвижности. Сенявский подбоченился и крикнул:
– Что ж, пан Костка? Довелось нам встретиться? Воистину, имя твое записано в книге истории не там, где будет записано наше! Соперник!
Толпа, солдаты, даже чиновники и вельможи подумали в первую минуту, прежде чем узнали Сенявского, что, быть может, это прискакали королевские гонцы с вестью о запоздавшем помиловании. Слова Сенявского вызвали удивление и ужас. Вдруг Беата Гербурт соскочила с лошади и не с криком, но с отчаянным визгом подбежала к колу, на котором сидел Костка.
Бурка спустилась с ее плеч и упала на землю. Все узнали в ней женщину.
Среди замешательства никто не преградил ей пути; она обхватила руками столб с телом Костки и припала губами к туловищу, истекающему кровью.
С присутствующими стало происходить нечто неописуемое. Палач и его помощники бежали в толпу солдат. Толпа стала безмолвно расходиться, унося женщин, лишившихся чувств. Сульницкий вырвал поводья из рук Сенявского, который сидел на лошади и, казалось, не сознавал ничего, перекинул их через голову лошади и помчался к драгунам. Впрочем, им никто не угрожал, потому что вся многотысячная толпа безмолвствовала.
Эскадроны краковского воеводы без приказания стали смешиваться и поворачивать лошадей к городу. Один за другим поскакали они рысью вдоль берега Вислы, по направлению к мосту. Тут толпой овладел панический страх перед мужиками, которые, по слухам, шли отбивать Костку. Толкая, сбивая с ног, опрокидывая и давя друг друга, тысячи людей бежали, одни за всадниками, другие – к парому и лодкам. Чиновники и вельможи вскакивали в повозки, кто куда мог, и галопом скакали за повозкой палача, который, хлеща лошадей, вместе со своими помощниками мчался впереди всех по следам войска.
Через четверть часа на холме не было уже никого. Остались только прибитая к виселице голова ректора Радоцкого со страшно раскрытыми веками да кровавое его тело, голова старосты Лентовского, лежащая лицом к земле, четыре красных куска его тела, да посаженный на кол Костка, да Беата Гербурт, обхватившая руками кол.
– Пить… – прошептал Костка.
Беата оторвалась от столба и оглянулась кругом: воды не было. Вдали текла Висла. Но в чем принести?
– В чем же я принесу? – крикнула она в отчаянии.
Костка сделал движение рукою, в знак того, что он понимает. Это было движение больного ребенка.
– О боже! – простонала Беата. – О боже! – крикнула она. – Люди! Помогите!
Никого не было.
Костка сложил ладони и показал, в чем принести ему воды.
– Как же я подам тебе, если даже донесу? – кричала Беата.
Костка снова сделал движение ребенка, пришедшего в отчаяние.
– Больно? – вырвалось из груди Беаты.
Он не отвечал.
– Люблю тебя! – крикнула она.
– Из‑за тебя… – явственно ответил Костка, но, должно быть, сердце его разорвалось: он умер.
Собек Топор стоял около загона и, как полагалось баце, считал овец, пригнанных к вечеру с пастбища: все ли тут?
Сто овец! Сто одна!..
Стоит баца у окна…–
напевал себе под нос старый Бырнас, издали наблюдая за его работой.
Собек считал овец, вверенных Мардуле. Считать приходилось не только потому, что это вообще обязательно делалось через каждые несколько дней, но и потому, что Мардуле самому казалось, будто у него «неладно». Если Мардула, возвращаясь с пастбища, пел:
На моей поляне сто овечек станет,
Как придет подружка, на овечек взглянет…–
то это означало, что он ведет стадо в целости; если же, как случалось время от времени, он пел:
Надо бы нам, баца, стадо посчитать:
Куда это овцы стали пропадать? –
то Собек уже знал, что либо «волк утащил», либо «со скалы сорвалась», либо «что‑то где‑то случилось да не поймешь что: только не хватает одной»… А иногда двух, а иногда трех… Потому что ночью у Мардулы – искушение, днем – искушение, а беда не ждет. Только он от овец сбегает в Каспрову, к Броньке Польковской, или к Хельце, Селегиной дочери (да ведь это редко: мало ли у Озер своих девок?) – хлоп! готово! одной овцы не хватает!
Выругается Собек, обозлится – и после этого некоторое время все идет хорошо.
Но у Мардулы ночью – искушение, днем – опять искушение…
Собек пересчитал овец: трех не хватало.
– Ну, сколько там? Одна? – спросил Мардула с деланной небрежностью. Собека он боялся.
– Три, – ответил Собек.
– Да ну? – переспросил Мардула, притворяясь изумленным.
– Ты что делал?
– А что мне было делать? Разве что вздремнул маленько.
– Где был?
– В Каспр… то есть… в Косцельце.
– Да это я знаю, что велел тебе с овцами в Косцелец идти. А без овец‑то, один где ты был?
– Да где мне быть? Я ж тебе говорю: вздремнул, видно, – а лиха с бедой звать не надо, – прыткие, сами за человеком бегают.
– Как ты за Бронькой.
– Ну вот, – обиделся Мардула. Подпаски захохотали.
– Я знаю, как было дело, – сказал Бырнас, – Раруг‑бесенок залез Галайде в рукав, да и обратил его в волка‑оборотня. А он у Мардулы овец украл и съел!
– Ха‑ха‑ха! – заливались подпаски и стали кричать погонщику: – Галайда! Это ты у Мардулы овец съел?
Галайда был великан, – управлялся за троих и ел за троих, мог есть всегда и никогда не бывал сыт.
Раруг‑Рарасик, бесенок маленький, прислужник Сатаны, мог в рукаве Галайды скакать блохой.
– Ну, – сказал Собек, поглядывая на густой туман, заволакивавший горы, – нынче их нечего искать: темно. Пойдем завтра утром. А если не найдутся, так Мардула заплатит за них Кубе из Подвильчаника. Потому что виноват он.
– Отчего не заплатить? Заплачу, – проворчал Мардула. Он был зол.
– Девки заплатят. Бронька с Хельцей сложатся, да Ядвися кое‑что прибавит, да Кася, да Ганка, да Зося… – смеялся Собек.
Мардула буркнул что‑то довольно‑таки обидное для девушек, – объяснил, куда он их пошлет, и, чтобы умилостивить Собека, стал готовиться к доению.
– Эй, ребята! – фыркнул Бырнас. – Рубите лес для костра, а то до завтра сварить не успеем. Мардула доить станет!
– Ха‑ха‑ха! – заливались подпаски.
Подоили, поужинали и еще шутили над Мардулой. Особенно донимали его ревнивая Ядвися и неподатливая Зося. Сошла на землю темная, облачная ночь, и с нею на луг к озеру сошел сон; он склеил веки детей и старцев, теснее сомкнул объятия любовников и распластал тела одиноких – таких, как Галайда, спавший у костра поблизости от волов, под широкими ветвями ели.
– Завтра снег будет, – сказал старый Крот сидевшему на скамье Собеку и топорищем помешал огонь, разложенный в шалаше.
– Кто его знает? Может, и будет. Зима на носу.
– Да. Помню, раз на Бартоломея такие наступили холода, что мы ночью со скотиной ушли в долину: боялись, не замерзли бы.
Крот подкинул в костер поленьев и стал греть руки, вытянув их над огнем. Собек снова мысленно вернулся к тому, что произошло.
Со времени поражения под Новым Таргом прошло уже несколько недель. Собек вернулся на пастбище. Весть о взятии Чорштына, о выдаче Костки и Лентовского, об их мученической смерти разнеслась далеко. На Озера ее принес сын того Стаселя, который приводил туда Костку.
Марину бабы привезли в Грубое, где она долго лежала без памяти, а потом стала поправляться. «Рыцарь» нанес ей страшный удар. Ее окружала теперь какая‑то тайна, тайна роковой любви, о которой никто ничего не знал.
Собеку иногда казалось, что все это происшествие – одна из сказок, которые сказывал Саблик. Трудно было поверить, что все случилось на самом деле, что он сам принимал в этом участие.
И слово «жаль», уже несколько недель завершавшее все мысли Собека, вмещало в себе все, что он чувствовал.
– Жаль… А ведь казалось, мир обновится…
Он засунул руки между колен. Голова его склонилась к огню.
– Сидя спит! – пробормотал Крот, взглянув на Собека. – Ну, да этакой и сидя выспится…
Собек спал, а в это время тяжелые, темные тучи, нависшие над Татрами, сыпали снегом, как в ноябре. Оравский пронизывающий ветер гудел в долине, налетая с запада.
– Эге, – прошамкал Крот, – вот так когда‑то озеро шумело там наверху…
Огромное, темное, бездонное Черное озеро он не видел уже тридцать лет, потому что пас только в долине.
К утру Крот задремал, а Собек проснулся. Было еще темно, но близился рассвет. Собек поел холодной простокваши, умылся из глиняного кувшина, взял чупагу, засунул за пояс пистолеты и, выйдя из шалаша, тихонько свистнул своим двум овчаркам.
Снега насыпало много, но Собек боялся, что августовское солнце может взойти и быстро растопить его; между том он хотел по следам на снегу разыскать потерянных Мардулой овец.
Было холодно, но Собек не обращал на это внимания: он часто в крепкие зимние морозы босиком работал около своей избы в Грубом.
Все было тихо вокруг, только ветер иногда свистел в зарослях и проносился дальше.
Собек шел по тропинке, которой гоняли овец к Черному озеру.
В долине ветер был не сильный, но выше, в горах, он, должно быть, дул крепко: тучи стали расползаться, подыматься выше, и когда взошло солнце, свет его из‑за туч, в которых тонули вершины, разлился по склонам гор.
Рассвело.
И тут Собек вздрогнул, остановился и в ужасе воскликнул:
– Господи Иисусе! Во имя отца и сына и святого духа, аминь! Что это такое?
Испуганными глазами посмотрел он на собак, но собаки стояли спокойно.
Да, это был явственный след. Собек заметил его при первом проблеске дня. След маленьких, словно детских ног.
Собек слышал от стариков о лесных девах «богинках», ходивших в кожаных лаптях, но этот след был не от лаптей. Это был след маленьких, широких, странных сапожек с высокими каблуками.
Собек дрожал и сжимал в руке чупагу. Но разве может помочь чупага против духа, который ходит в сапожках? Вот если бы была у него освященная пуля для пистолета! Но ее не было. Все‑таки он вытащил пистолет из‑за пояса и приготовился стрелять, как полагается стрелять в злого духа: из‑под колена, повернув пистолет курком к земле.
Охваченный невыразимой тревогой, он убежал бы обратно в шалаш, если бы не спокойствие собак, которые стояли совершенно смирно; а известно, что пес нечистую силу чует.
К Собеку понемногу возвращалось спокойствие. Он даже решился заглянуть в заросли, среди которых извивалась тропинка. След шел и дальше.
– Ночью оно тут шло… – шепнул он про себя в сильном волнении.
Первый суеверный страх Собека переходил уже теперь в боязливое любопытство.
«А что, если пойти за ним? – подумал он. – Да только не завело бы оно меня куда‑нибудь в глушь да не придушило бы. Или в какую‑нибудь пещеру заманит и завалит там на веки вечные камнями».
Он шел осторожно, напрягая слух и зрение. Сердце его билось часто и сильно. Что‑то неудержимо влекло его вперед.
И вдруг он увидал перед собой Черное озеро, – тихое, мрачное, оно широко раскинулось вокруг, и поверхность морщила легкая рябь. Тучи нависли над ним, как саван. Вокруг белели скалы. Мертвое, вечное озеро.
Собек остановился, обеими руками опираясь на чупагу.
Вдруг собаки громко залаяли: от страха у Собека чуть не выпала из рук чупага.
Неподалеку, в каких‑нибудь десяти шагах в кустарнике, по‑видимому опираясь передними лапами на пень, стоял огромный черный медведь.
Чупага словно приросла к руке Собека. К нему сразу вернулась смелость, и даже весело стало при виде этого зверя, коренного жителя гор.
– Это ты здесь? – крикнул он, – Ах ты бестия этакая!
– Назад! – крикнул он на собак, бросившихся к кустарнику. – Назад.
Но было уже поздно: освирепевшая сука подскочила к медведю слишком близко. Он наклонился, и отчаянный собачий визг взрезал воздух. С разорванным, окровавленным ухом, которое медведь рванул когтями, сука отскочила к Собеку.
– Ах, чтоб тебя! Будешь ты мне дорогу загораживать да собак калечить? – гаркнул Собек.
И, вытащив пистолет, он, недолго думая, выстрелил медведю в самую морду.
Пуля скользнула около пасти, окровавив черную шерсть. В первую минуту медведь как будто удивился: он, по‑видимому, вовсе не собирался вступать в драку, пропустил бы человека мимо и хотел только отогнать собаку. Но теперь он свирепо зарычал, на миг исчез в кустарнике, закачал им, как горный ветер, и затем очутился на тропинке перед Собеком, стоя на задних лапах, огромный, с окровавленной мордой, с поднятыми передними лапами и растопыренными когтями.
«Ах, чтоб тебя черти взяли! Погоди же!» – подумал Собек и, выхватив из‑за пояса второй пистолет, выстрелил медведю в брюхо.
И в тот же миг на медведя с боков бросились, защищая хозяина, верные собаки. Вероятно, это и спасло Собека: он успел вскочить на высокий камень, лежавший в зарослях.
Медведь после выстрела зарычал, встал на все четыре лапы и, оторвав от себя одну собаку, швырнул ее в сторону. Она упала мертвая, даже не застонав. Но тотчас острие чупаги по самую рукоять врезалось медведю в череп.
Медведь взревел, рванулся назад с такой силой, что Собек, чтобы не упасть вместе с чупагой, должен был выпустить ее из рук.
Зверь припал перед камнем на передние лапы, чупага застряла в черепе. Сука впилась ему в затылок, а Собек обеими руками вырвал чупагу.
– Жаль зверя! – сказал он вслух, тяжело дыша. – Он пас и стада наши не трогал, одну только корову задрал. Каждый хочет жить. Ну, да что поделаешь, когда смерть приходит, с нею не поспоришь.
Он снова взглянул на следы сапожек. Они шли дальше по снегу.
Суеверный страх охватил Собека, но только что одержанная победа придавала ему храбрости. Он чувствовал над собой милость господа.
Сняв с убитой собаки ошейник, он свистнул суке и пошел по следу, раздумав искать овец.
След уклонялся от берега вправо и был ясно виден на склоне Косцельца.
«Пришло к воде, шло по берегу, а потом начало подниматься в гору», – заметил про себя Собек.
Вместе с тем он заметил, что здесь сапожки уже скользили по снегу, видно было даже, что в одном месте шедший стал на колени, потом свернул направо вниз, причем кое‑где падал и принужден был ползти.
– Что за черт? – прошептал Собек. – Какая же это богинка, если она ползет?
Между тем внезапно загремел гром, и из туч, саваном нависших над горами, пошел крупный, холодный град, такой густой, что мгновенно покрыл всю землю. Гора побелела от сырого тумана. Сука скулила, а Собек закрыл рукою лицо, потому что боялся, что ему выхлестнет глаза, и присел в кустарнике, чтобы кое‑как укрыться.
Через несколько минут граду насыпало по щиколотку.
«Плохо, – думал испуганный Собек, – видно, след‑то был колдуна, который градом ведает. Разозлился он за то, что я его выслеживаю, и теперь всю долину градом засыплет… Как бы еще он сюда ко мне прийти не вздумал!..»
Стало так холодно, что, несмотря на сермягу и всю свою выносливость, Собек весь дрожал.
А град сыпал и сыпал. Время от времени гром грохотал над скалами, потом туча разразилась дождем и снегом с таким неистовством, точно наступал всемирный потоп.
«И дернуло меня идти за этим дьяволом! – думал Собек. – Коли не перестанет – весь мир водой снесет…»
Вдруг сука ощетинилась.
У Собека дух захватило. Он услышал шлепанье: казалось, кто‑то бежит. Все ближе, ближе…
– Спасите, святые угодники! – прошептал он.
Но неожиданно увидел Мардулу. Тот бежал, накрыв голову сермягой, большими скачками, как олень.
– Франек! – крикнул Собек.
Мардула вздрогнул, чуть не присел от страха и остановился как вкопанный.
– Куда ты бежишь? – спросил его Собек, вылезая из‑под куста.
– Господи боже мой! Собек! – воскликнул Мардула. – А я такие страсти видал!..
– Где?
– Там, под Малым Косцельцем, в зарослях.
Собек больше не спрашивал; он выскочил к Мардуле на тропинку, и они стали удирать влево от Косцельца.
– Там медведь, – задыхаясь, сказал Собек.
– А ну его! – так же отвечал Мардула, не убавляя шагу.
Они перепрыгнули через труп медведя; сука, ворча, перепрыгнула следом за ними, и кружным путем все побежали к шалашам.
Когда они, задыхаясь, выбежали из‑за елей на поляну, то увидели перед шалашом старого Крота, который держал на куске древесной коры горячие уголья и кидал тучам.
– Гляди, гляди! – сказал Собек, – Крот дымом колдуна отгоняет.
– Да только одолеет ли? – усомнился Мардула.
Они подбежали к старику.
– Это вы? – сказал он. – Весь мир он хочет залить, что ли?
Вокруг лило как из ведра.
Но вдруг ливень ослабел так же быстро, как начался.
Налетел неудержимый вихрь и с невероятной силой погнал тучи. Так, разливаясь, большая горная река уносит ветвистые деревья, переплетая их друг с другом. Тучи неслись к востоку, за Гранаты и Козий Верх, неслись с такой быстротой, что вскоре с севера в ущельях Татр, над низкими холмами стало проглядывать чистое небо, бледное, голубое, словно омытое и остуженное ливнем. Оно простиралось все шире, поднималось, раздвигалось, – и, наконец, из‑за туч брызнул огненный, ослепительный блеск. Огромный солнечный шар, казалось, ринулся вниз из клубящихся туч; солнце буйно метнуло лучи свои на землю. Снег и град в тех местах, где не размыл их дождь, стали приметно таять; солнце пекло, как огонь. После разбушевавшегося ненастья пролилось на мир столько яркого света, что, казалось, весь он сейчас закипит и брызнет пламенем.
– Ну, – пробормотал старый Крот, – кто сильнее? Буря или погода?
Стали выгонять голодное стадо из шалашей и загонов на пастбище. Вдруг к шалашу подошел великан Галайда, который стерег волов. Он шлепал по лужам, неся в руках тело, завернутое во что‑то белое и черное, – должно быть, женщину, потому что длинные светлые мокрые волосы падали почти до земли.
– Что это ты несешь? – спросил Собек, с любопытством подходя к Галайде.
– Вот, нашел в зарослях, – отвечал Галайда.
В тихом, уединенном лесном урочище Марина укладывала последние камни на квадратный жертвенник. Было это в самый день успения пресвятой богородицы, 15 августа.
Коровы сошли уже с гор, потому что наступили ранние холода, а пастбищ было довольно и около деревень; у озера остались только пастухи с овцами да погонщики волов. Терезя помогала Марине укладывать камень на камень.
– Побойся бога, Марина, – говорила она, – мы продаем душу дьяволу. К тому еще сегодня успение. Храмовый праздник в Людзимеже.
Марина ничего не ответила, только, став рядом с каменным возвышением и смерив, доходит ли оно ей до пояса, сказала:
– Теперь довольно.
Потом принялась топором срубать молодые елочки, ломать их и складывать в костер.
Терезя машинально делала то же самое, и вскоре целая гора свежих смолистых стволов лежала на камнях.
Тогда Марина вынула из кармана кремень, огниво и трут, высекла огонь и, зажегши сухие ветки, сунула их под поленья.
– Марина! Ради бога… – говорила Терезя, – ведь мы же крещеные… святой водой…
Ждать пришлось недолго: огонь охватил смолистые сучья, огненные языки забегали по белому дереву, ползали по нему, лизали его, извиваясь, как ленты багрово‑красного железа. Языки эти вырывались из груды дерева, взлетали над нею, похожие на колеблемые ветром червонно‑золотые цветы с острыми лепестками.
Когда костер разгорелся, Марина подошла к молодому бычку, привязанному неподалеку к елочке, поставила на землю медный горшок и, убив бычка ударом обуха, надрезала ему горло. Кровь стекала в горшок.
Потом она разрубила бычка на четыре части и, бросив их одну за другой в огонь, поставила горшок с кровью среди горящих поленьев, подняла руки к небу и воскликнула громким голосом:
– Ешьте и пейте!..
– Марина! – проговорила Терезя, дрожа.
Но Марина, казалось, ее не слышала, она взывала, устремив глаза в небо:
– Галь, ты, что замерзаешь зимой и оттаиваешь каждую весну, всемогущий бог, свет мира, слово отца богов и людей, ты, посылающий знаменья! Я здесь! Галь, всемогущий бог, ты, истребляющий мир и вновь созидающий, – в тебе время, в тебе вечность! Трехглавый, из чьих трех оторванных голов возникли три божества, бог белый, бог черный и бог красный, обладающие каждый семью силами, что правят миром! Солнце и вы, вечерние и утренние звезды, Лель, Полель, мать Лада, мать Дева, беременная богами! И ты, Перун‑Гром, Тор, поражающий врага, ты, Живена, богиня любви, Дедилия, ты, Приснена, богиня справедливости, что только во сне нам являешься, и вы, владыки озер, и вихри! И ты, святой бор еловый, полный ароматов! И вы, зеленые майские девы, сияющие лунными лучами, лесные девы! И вы все, злые боги, владыки ада – Адовик, Ния, Мажанна, Черти, Смерть, Домовой, Похитители, Мор! Ешьте и пейте!
– Марина, Марина… – шептала, дрожа от волнения, Терезя.
– Что же? – закричала Марина. – Шли люди во имя Христа, во имя пресвятой девы Марии – и чем кончилось? Люди перебиты, Чорштын взят, пан Костка погиб на колу, солтыса Лентовского палач четвертовал мечом, как я своим топором разрубила этого бычка! А что дальше? Под Берестечком[21], где‑то в степях, шляхта разбила русских мужиков! И теперь паны слетелись обратно в Польшу мстить, как воронье на больного зайца! Только и слышно: виселицы, колы, батоги, пытки, огонь да меч! Паны карают мужиков за то, что они захотели воли! Кровь льется, стоны, плач, скрежет зубовный! Крестьянская воля обратилась в пепел и дым! Во имя Христа, во имя божией матери паны идут на мужиков, – что же нам делать? Бог сам против себя не пойдет, – что ему простой народ? Против бога нужны такие же боги, как он!
– Да ведь христианский бог всех сильнее!
– Да, он силен! Он развалил каменные жертвенники, священные храмы. Он истребил священные рощи и алтари, и священных быков, – и они давно забыты. А спроси‑ка у старых людей, как бывало при прежних богах? Мужик был свободен, от мужика шел королевский род, – вот хоть бы от нас, Топоров. Не был Пяст из Крушвицы[22] выше нашего подгалянского Топора! Он был мужик! При старых богах была воля, а при нынешней вере – барщина, цепи, пытки да смерть! Только и всего, – ничего больше!
– Так чего же ты хочешь?
– Зову древних наших богов! Пусть защитят и поддержат нас! Стонут крестьяне по всей Польше! Паны вернулись с войны и карают за мятеж пана Костки! Это ты слышала?
Когда кровь в медном горшке перестала уже дымиться, а огонь пожрал мясо, Марина сорвала с шеи крупные красные кораллы, стоившие сотен талеров, и бросила их в костер, восклицая:
– Что есть у меня самого дорогого, отдаю вам!
Оглядела себя – на ней не было больше ничего ценного; тогда она сорвала с себя корсаж, расшитый золотыми цветами, и бросила его в огонь со словами:
– И это!.. Хоть это жалкий дар!
Вдруг взор ее упал на золотой медальон, освященный в Кракове. Он висел на красной ленточке на груди Терези, под расстегнутой рубашкой. Марина подбежала и сорвала его с ленты.
– Марина! – в ужасе закричала Терезя. – Что ты делаешь?
– Приношу его в жертву Ние, богине милосердия, царице ада!
Терезя с ужасом закрыла лицо руками и бросилась бежать к дому, а Марина, как бы сама пораженная тем, что сделала, стояла перед огнем безмолвно и неподвижно.
Очутившись совсем одна, среди молчаливых елей, сосен и буков, она упала на колени и, вскинув руки над головой, начала причитать, плача и всхлипывая:
– Дедилия, богиня любви в миртовом венке, переплетенном розами! Вырви из сердца моего несчастную, проклятую эту любовь! В чем провинилась я, что ты велела мне полюбить воплощенного дьявола? Он перебил мужиков наших, что шли с братом Собеком, из‑за него пан Костка, мессия крестьянский, предан был на пытку и смерть, он пробил мне голову золотой булавой, он пьет мужицкую кровь, он – крестьянский палач! За что же тону я в этой любви и сохну от нее, – а избавиться не могу? О владычица единая, будь благосклонна к моей молитве! Вырви из сердца моего молодого, из души моей Сенявского, пана Сенявы!
Она склонилась лицом к земле, а ее темные волосы, заплетенные в две косы, перевесились через плечи на лесной мох.








